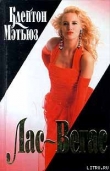Текст книги "Книга сияния"
Автор книги: Френсис Шервуд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Прошлым вечером, когда рабби Ливо пригласили явиться ко двору, они с Перл разработали новый план.
Киракос огляделся. Вот они все здесь, совсем рядом. Вацлав, Румпф, Писторий, Кратон, Кеплер, Браге, Петака, Келли и Ди, несколько пажей, обычные стражники. Йепп не в счет. А Майзеля нет. Киракос никогда не заговаривал с Майзелем, он вообще его не любил. Не потому, что Майзель был евреем – ибо разве у мусульман и евреев не был один отец, Авраам? – а потому что он был человеком без очевидных слабостей. Теперь же Киракос по нему скучал. Император занимал у Майзеля без конца и никогда не возвращал. А теперь собирается снова его ограбить.
– Как ты один можешь владеть секретом? А если ты умрешь?
Если бы только его разум не пребывал в таком беспорядке! В этом вина придворных. Весь его двор являет собой ничто иное, как сборище неумех и никчемных болванов. Взять хоть Браге с его записями. К чему все сводится? Еще этот гном вечно ходит за ним по пятам. Кеплер влюблен в свой Марс. Хотел бы он, император, жить на Марсе? Разве это хоть как‑то помогло бы ему в поиске вечности? Так чем этот самый Марс лучше плесневелой инжирины? Глядя на Келли и Ди, император знал, что они уже одной ногой в могиле. Как только он выпьет эликсир, эти двое отправятся в башню, а оттуда прямиком на плаху. От Пистория, его ханжи‑исповедника, так и несет вероломством. Кратон, второй придворный лекарь – просто неуч. Хофнагель, Шпрангер, все художники, золотых дел мастера, Пуччи – неиссякаемый источник разочарования, а оркестр только пожирает его деньги. Его конюший, чтоб его черт побрал, вообще вряд ли когда‑нибудь на коня садился. А Киракос только что сказал что‑то в пользу Вацлава?
– Ваше величество?
– Тихо, Вацлав, я думаю.
Раввин в своей мантии и остроконечной шляпе сильно напоминал средневекового волшебника. «Я могу сделать вас бессмертным», – говорил он, и эти слова эхом отзывались в голове у императора. «Бес‑смерт‑ным, смерт‑ным».
– Ваше величество, если позволите… – отчаянно взмолился Вацлав.
– Всем молчать! – Рудольф вскочил с трона и тут же плюхнулся обратно. – Значит, раввин, ты один расскажешь мне весь секрет?
Здесь, в собственном замке, он теряется – в помещениях, в собственных мыслях.
– Не совсем.
По правде говоря, раввин шел напролом, искал решение по ходу разговора. Перл сперва предложила, чтобы он не тратил зря слов, а потом сама же стала противоречить такому плану. «Говори, побольше говори, чем больше разговоров, тем труднее ему будет в них разобраться. Запутай его, Йегуда. Кому нравится признавать, особенно императору, да еще публично, что он ничего не понимает? Ведь это заденет его самолюбие».
– Ваше величество, это сумма слов. Сказано: «Слова не падают в пустоту», и к числам это тоже относится, ибо определенные комбинации букв соответствуют числам.
– Что это еще за софистика? Нечего ходить вокруг да около, приятель, говори напрямую.
– Существует история о том, что нужно тридцать шесть мужей праведных, чтобы поддерживать мир. В частности, мы утверждаем, что в целом имен ангелов и имен Бога насчитывается 301 655 172. В Зохар, «Книге Сияния», мы читаем, что тот, кто рано встает, способен видеть нечто «наподобие букв, марширующих по небу, некоторые поднимаются, некоторые спускаются. Сии блестящие символы суть буквы, посредством которых Бог образовал небо и землю». Разумеется, Бог бесконечен, а вселенная представляет собой понятие, которое обычному человеку усвоить сложно, однако вы, император… уверен, вы способны все это постичь.
– Роберт Фладд в своем труде «О музыке души» объясняет, что музыкальные интервалы отражают устройство вселенной. Его мысли на предмет гармонии вселенной созвучны взглядам Пифагора, – добавил Кеплер, вдохновленный упоминанием о числах.
– Ваше величество, ненавижу перебивать…
– Так не перебивай, Вацлав. А что касается тебя, Кеплер, то нам в равной мере наплевать что на Пифагора, что на музыку души.
– Но мой сын… – Вацлав ломал руки, топчась на месте.
– Мы тут занимаемся кое‑чем куда более значительным, нежели твой сын.
– Значит, слова соответствуют числам, и всего их 301 655 172?
– Все достаточно сложно, – рабби отметил, что император еще не совсем запутался.
– Не сомневаюсь, – саркастически отозвался Рудольф.
– Каждой букве еврейского алфавита соответствует число, и в каком‑то смысле – подчеркиваю, лишь в каком‑то смысле, – вы станете подобны голему.
Пожалуй, раввину следовало соблюдать осторожность в сравнениях.
– Мой сын болен, – сказал Вацлав. – Я ему нужен. Я бы хотел о нем позаботиться.
– Придержи коней, Вацлав.
– Я не держу никаких коней, и я почтительно прошу, чтобы доктор Киракос его осмотрел.
– Мне бы хотелось знать, – сказал Киракос. – Почему именно евреи получили эти магические слова, а не какой‑то другой народ.
– Мы первенцы Бога, доктор, в том смысле, что мы приняли Тору.
– Но я слышал, что другие люди, христиане, тоже могут стать евреями.
– Такие случаи очень редки, и мы в нашей общине не стремимся никого обратить, ибо наказание очень сурово, – ответил раввин.
– И все‑таки. Что, если?
– Такая дискуссия идет постоянно, доктор, но по моему скромному мнению, если христианин становится евреем, он всегда был евреем.
– Но, разумеется, не по крови?
– По природе.
– А это сильнее крови?
– Зависит от человека.
– А если еврей становится крещеным христианином, обращенным?
– Если кто‑то еврей, он всегда еврей.
– Но теперь вы уже говорите о крови, рабби.
– Нет, о естестве, – рабби Ливо пожал плечами. – Я не вдаюсь в тонкости, доктор Киракос. Гилель сказал: «Обращайтесь друг с другом хорошо, а все остальное – приложится». Раши…
– Мне на все это глубоко плевать, – хлопнув в ладоши, император резко прервал обсуждение. – Моя цель – вечность, и не меньше. Если вкратце, я опробую эликсир на моем дне рождения, приму его на следующий день, и в тот же день я должен буду получить секретные слова. Мой вход в вечность состоится не в твой праздник, раввин, а в мой день рождения. Голем там будет? Как голем относится к праздничным торжествам? Я сам стану големом?
– Нет‑нет, я говорил не совсем об этом.
Вацлав жестко взглянул на Киракоса, а затем, пятясь и низко кланяясь, покинул зал.
– У меня голова болит, – крикнул ему вслед Рудольф. – Ты меня слышишь, Вацлав?
– Если я могу вам помочь, ваше величество… – Киракос выступил вперед.
– Добро должно страдать, Киракос, вот я и страдаю. Я слышал, что у тебя есть власть над жизнью и смертью голема, раввин. И мне это очень не нравится.
– Голем был создан, чтобы служить сорок дней, а затем возвратиться в прах. Однако он уже прожил дольше этого времени… – Рабби не осмеливался думать о том, что будет дальше. – Предложенный вами термин – «вечность», не так ли?
– Да‑да, превосходно, однако я должен знать, как именно все произойдет. Я буду повторять слова? Я должен буду стоять или лежать? Есть ли какая‑то особая церемония? Не придется ли мне, боже сохрани, поститься? Это не будет больно, ведь правда? Это не может быть больно. И я также должен буду навеки сохранить привлекательную внешность… – император прижал ладони к вискам, затем поднял голову. – А теперь идите вон. Все. Прочь отсюда.
Оказавшись в коридоре, Киракос глянул налево, направо, а затем стремглав бросился через внутренний двор в свою комнату.
– Вставай. Быстро, – императорский лекарь пнул своего помощника. – Бери мой саквояж, мой вощеный плащ и маску, мои иглы. Мы должны как можно быстрее добраться до императорских конюшен.
Вацлав уже миновал «Золотого вола», когда за его спиной раздался топот копыт. Всадников было двое. Оглянувшись, Вацлав увидел Киракоса и Сергея. На прогулку собрались… Он побежал дальше.
– Сюда, – сказал Киракос, протягивая руку, чтобы втащить Вацлава на спину своего коня. – Поспешим.
– Я направляюсь домой. К моему сыну.
– Вот и мы туда же.
Киракос усадил Вацлава позади себя, а когда императорский камердинер крепко ухватился за его пояс, послал коня в быстрый галоп. Копыта жеребца громко застучали по булыжнику, а конь Сергея понесся следом. Вниз по холму, вдоль реки, после чего им пришлось сбавить ход, прокладывая себе дорогу по Карлову мосту, который был полон крестьян, везущих овощи и прочие товары на рынок. Затем, снова набирая темп, огибая Старое Место и приближаясь к Новому Городу, кони быстро проскакали верх по небольшому холму к монастырю на Слованех. У шаткого деревянного забора за скотным рынком Вацлав соскользнул с конской спины. А Киракос набросил поверх своей одежды длинный плащ, жесткий от воска, и надел на лицо странную маску.
– Скажи своему сыну, пусть не пугается, – сказал он Вацлаву. – Я так одеваюсь, чтобы блох не нахватать.
– Каких блох?
– Чумных.
– Чумных? – охнул Вацлав. – Но у него нет чумы. Нет, только не чума.
Сын Вацлава лежал в постели, а его мать сидела в углу, баюкая второго ребенка. Пол был грязный, и в комнате находились лишь стол из неотесанной, свилеватой древесины, стул, сработанный из половины бочки, и грубый трехногий табурет. Потрепанное покрывало из клочков меха и бархата, шелка и полотна, а также других несовместных тканей, скорее всего натасканных из мешка с тряпьем в замке, было наброшено на веревку, деля комнату на две половины. Киракос сразу же почуял запах несвежей пищи, застойной воды и болезни. Приблизившись к постели, он затем быстро отошел назад.
– Не подходить, – предупредил лекарь и снова двинулся к постели. – Скажи мне, дитя, у тебя были боли в спине и рвота?
Глаза мальчика блестели от лихорадки, а лицо было испещрено красными пятнышками. Когда Киракос надел перчатки и поднял одежду мальчика, он увидел такие же пятнышки по всему его телу.
– Крепись, отец, – проговорил Киракос, поворачиваясь к Вацлаву. – Крепись ради твоего сына, твоей жены, твоего младенца. Все это не очень хорошо выглядит, даже совсем скверно. У него оспа.
Услышав слово «оспа», жена Вацлава так пронзительно завыла, что этот звук запросто пронзил бы даже каменное сердце. Киракос опустился на корточки и потряс женщину за плечи:
– Прекрати. Ребенка напугаешь.
Стоя позади Киракоса, Вацлав его умолял:
– Он будет жить, ведь будет? Скажи мне, Киракос, скажи мне, что он будет жить. Ты можешь его спасти. Он выживет? Спаси его, Киракос, пожалуйста, я тебя прошу.
– Если это черная оспа, пятнышки почернеют. Тогда он определенно умрет.
– А другая оспа? – с трудом вымолвил Вацлав. – Что, если это другая?
– Тогда язвы наполнятся гноем, он станет напоминать булыжную мостовую, гнойнички превратятся в струпья и отпадут. Мальчик может потерять дар речи. Но, возможно, выживет.
– Боже мой, Боже, будь милосерд! – Вацлав упал на колени и стал биться головой о земляной пол.
– Дай‑ка я тебя осмотрю, – сказал Киракос. – Сергей… – придворный лекарь высунул голову за дверь, – заходи, прикрой чему‑нибудь лицо и сними с Вацлава одежду.
Русский, обернув рот куском ткани, расстегнул ливрею Вацлава. Ее праздничные алые и золотые цвета выглядели в этот момент как‑то дико и абсурдно. Киракос внимательно осмотрел его грудь и спину.
– Снимай штаны.
Киракос не знал, что именно вызвало болезнь, но представлял себе крошечных цепких жучков с множеством тонких как волоски лапок, зловредных невидимых скорпиончиков, кувыркающихся в воздухе. Целые их легионы цеплялись за кожу, заползали в рот, пристраиваясь на небе, проникали в уши. Он внимательно осмотрел тощие ноги Вацлава, его пах.
– Пока никаких признаков, – сказал Киракос. – Был у тебя кашель, лихорадка?
– Нет, – ответил Вацлав.
– Могу я осмотреть твою жену и младенца?
Жена Вацлава по‑прежнему сидела на полу, прижимая к себе девочку. Она прекратила вой и теперь лишь всхлипывала и икала. В глазах у женщины блестели слезы.
– Больше я здесь ни у кого оспы не вижу, – сказал Киракос, – но слушай меня внимательно, Вацлав. Мать с младенцем следует отсюда убрать. Не прикасайся к ней. Ты можешь ее заразить, она может заразить тебя. Мальчика следует содержать в чистоте, прохладе, сытости; ему потребуется много воды. Я пришлю сюда Сергея с кое‑какими продуктами с императорских кухонь. С апельсинами из Валенсии и зернами под названием «кофе». Еще он принесет лед, сколотый с плит, что хранятся в погребе замка.
– А опиум?
– Определенно, Вацлав, однако едва ли не самое скверное в оспе то, что опиум в данном случае не полностью притупляет боль. Это невероятно, но сейчас пациент сознает, что с ним происходит. И не испытывает боли. Помни также, что ты не окажешь ему услуги, если станешь ныть и рыдать. Он может поесть сырых яиц, смешанных с сыром и приправленных щепоткой перца, мягкого белого хлеба, размоченного в подсахаренном молоке. Ты должен будешь носить на лице полотняную маску, которую вместе с одеждой придется выбрасывать всякий раз, как ты будешь от него уходить. Источник оспы весьма коварен, дорогой друг. Он потихоньку, украдкой распространяется по воздуху, опускаясь куда угодно. Всякий раз после того, как ты поухаживаешь за мальчиком, тщательно умывайся горячей водой. Не позволяй ему дышать тебе в лицо, не допускай, чтобы твоя голая кожа касалась его кожи.
– Но ведь ты его касался.
– В перчатках. Я их тебе одолжу, и вощеный плащ тоже. А императору я скажу, что ты не хочешь заразить его оспой. Он пока еще не бессмертен.
Вацлав кивнул. Лица Киракоса под чумной маской ему было не разглядеть.
– Бог вознаградит тебя, Киракос, за твою доброту.
– Ну, это еще как получится, верно? Делай все, как я сказал. Это единственный способ. Не поддавайся отчаянию. Мальчик должен видеть веру и надежду.
– Киракос?
– Что?
Лекарь не слишком надеялся на выздоровление ребенка. Он слышал рассказы о том, как кожа больных становится черной, точно обугленной, кровь сочится из глаз, ушей, носа и рта.
– Спасибо тебе.
И Вацлав жалобно зарыдал.
Вернувшись в замок, Киракос и Сергей бросили свою одежду и башмаки в костер у входа на кухню, после чего голыми побежали в подвал, погрузились в бочки с горячей водой и принялись яростно тереть кожу щетками из свиной щетины и твердым мылом, сваренным из свиного жира, поташа и майорана. Рты они тщательно прополоскали горячей смесью настоя перечной мяты с розовой водой, волосы расчесали тонкими гребешками, макая их в горячее масло. Затем они помыли коней, хорошенько отчистили их щетками и отослали на ветреное пастбище. Тем вечером армянский лекарь впервые за долгое время произнес негромкую молитву:
– О великий Аллах, не дай мне заразиться оспой.
29
Йосель с Рохелью лежали в той же самой полости под кустами и деревьями, где предавались любовной усладе. Когда жители Юденштадта только собирались искать Рохель, Йосель уже знал, где ее можно будет найти. И она действительно оказалась там – свернувшись в плотный клубочек, убитая горем молодая женщина бормотала какую‑то невнятицу. На взгляд Йоселя, ей требовалась женская забота, но когда он хотел привести кого‑нибудь из женщин, Рохель удержала его, а заслышав голоса, спрятала лицо на его широкой груди. И все же через несколько часов Рохель позволила Йоселю отнести ее к ручью, где, несмотря на откровенное желание умереть, опустила голову к воде и немного попила. Затем она позволила ему остановить кровотечение несколькими пригоршнями мха. Завернув комочек плоти в ее окровавленные нижние юбки, Йосель закопал их у ручья. Оторвав рукава шелковой рубахи, которую она ему сшила, голем выкупал Рохель, словно маленькую девочку, заботясь о том, чтобы на ее ногах не осталось ни малейших следов крови. Затем, желая покормить вконец ослабевшую женщину, он собрал ей земляники; надергал из ручья острого водяного кресса; нарвал с земли зелени одуванчика; собрал сладкой жимолости, чтобы Рохель пососала ее стебли. Йоселю очень хотелось раздобыть персиков, яблок и слив, но они еще не созрели. Желая сделать их укрытие более надежным, он наломал тонких веток и крепкими нитями высокой травы связал из них что‑то вроде циновки. Она служила крышей. С трех сторон Йосель навалил густой ежевики, связывая кусты тонкими корнями. Так получились стены их дома. Груды мха на полу служили им полом и постелью.
Когда нерожденное дитя начало выходить из нее, Рохель скользнула под кусты и, крепко сжимая чресла, горячо молилась. Со свистом втягивая воздух, молодая женщина пыталась удержать дитя в своем чреве, мысленно веля ему возвращаться назад, но спазмы вскоре превратились в судороги, которые терзали и корежили все ее тело. И вот, наконец, еще толком не сформировавшееся существо проскользнуло наружу меж ее сжатых ног. Рохель не хотела туда смотреть, однако, удерживая этот момент в своем сердце, понимала: «Вот все, что осталось от моего ребенка».
– Я больше никогда не хочу туда возвращаться, – сказала она в первую ночь, покоясь на руках Йоселя.
На вторую ночь, набравшись сил, чтобы сесть, Рохель сказала:
– Я должна вернуться.
Йосель отрицательно помотал головой.
Тогда Рохель спросила, погиб ли в огне кто‑то из жителей Юденштадта.
Йосель кивнул в знак подтверждения и показал ей шесть пальцев.
– А Зеев?
Он помотал головой.
Зеев остался в живых. Рохель целые сутки прикидывалась, что мира вовсе не существует. Но теперь, лежа в их маленьком шалаше, она все яснее осознавала, что не вправе более уклоняться от исполнения своего долга. Она должна повернуться лицом к миру. Отбросив со лба Йоселя непослушные волосы, Рохель сама увидела там те буквы, что начертал рабби. ЕМЕТ, Истина, гласили они, а без одной буквы слово становилось совсем иным: МЕТ, смерть.
– Я не умею читать, Йосель, – начала она, – но я знаю, что раввин должен… – Рохель не смогла произнести слова «тебя убить». – Послушай, Йосель. Ты все‑все знаешь, но это тебе не известно. Считай меня своим зеркалом. Я говорю, что у тебя на лбу есть слово. Это слово означает Истину, жизнь, Бога, все, что есть, но если одну букву убрать, оно будет означать Смерть, ничто, то, чего нет. Когда раввин тебя делал, он начертал там это слово. Это составляло часть… – Рохель какое‑то время подыскивала нужное слово. – Это составляло часть обещания. Мы все живем, чтобы умереть, но тебе предстоит умереть раньше большинства остальных. Раввин сотрет ту букву, и как только он это сделает, ты возвратишься во прах. У него нет выбора, Йосель.
Йосель припомнил, как зеркала меняют слова на противоположные, сплющивают их и искажают, не говорят правды. Буквы у него на лбу, заключил он, были чем‑то вроде росписи и благочестивого заверения, что его создал рабби Ливо, а не Бог. Истина заключалась в том, что он был големом, необыкновенным и единственным, в большей степени человеком, нежели сам человек.
– Как ты думаешь, Йосель, можешь ты пойти к ручью и стереть все слово?
Он с тоской посмотрел на нее. Как скверно все вышло. Йосель все еще помнил радостный смех Рохели. Однако он знал, что ее дух сокрушен потерей ребенка, и ничем иным.
– Ты мгновенно погибнешь, если его не сотрешь.
Рохель рассказала Йоселю, что он был сделан лишь на время и с определенной целью и что теперь время истекло, а цели больше не существовало.
– Я не смогу пережить твоей смерти, Йосель. Мы не должны этого допустить.
Она заплакала, а когда Йосель потянулся ее обнять, сбросила со своих плеч его ладони.
– Я причинила вред… нет, не просто причинила вред – я принесла смерть стольким людям. Послушай же меня, Йосель.
Йосель указал на замок, а затем опять в сторону Юденштадта.
– Нет‑нет, тебе тут не сделать… – Рохель не верила, что какое‑то заклинание, магическая формула или сочетание слов спасет общину от императора. – Ты должен позаботиться о себе, Йосель. Понимаешь? Я должна вернуться домой, а ты должен спасти свою жизнь.
Он взял лицо Рохели в свои ладони и поцеловал ее в губы.
– Нет, Йосель, ничего хорошего из этого не выйдет. Я нарушила все законы.
Рохель вспомнила рассказ своей бабушки о том, как Моше сломал скрижали мицвота в первый раз, когда спустился с горы Синай и увидел, что люди поклоняются золотому тельцу. Как все буквы взлетели тогда назад к Богу, но разбитые скрижали были собраны и позднее взяты вместе с новыми мицвот в ковчег. Эта история представляла собой мидраш – объяснила бабушка, пример тому, что все свои ошибки и неудачи следует нести с собой.
– Ты понимаешь, почему я должна вернуться?
Он искренне не понимал.
Впрочем, начиная говорить, Рохель обретала уверенность. Она не сомневалась в своей правоте. Каждое растение уже предрекало наступление зимы – отчаянно тугие листья деревьев, вытянувшиеся травинки, фрукты, кичащиеся собой и лопающиеся на солнце. Трава станет грубой, колючей щетиной, дневные лилии умрут, бабочки навеки обретут покой от своего полета, а голем… Блаженная истома этих дней уже таила в себе толику ледяной, морозной зимы.
– Это мой город. Моя жизнь.
Йосель указал на север, по ту сторону семи холмов.
– Прикинуться христианами?
Он вовсе не это имел в виду.
– Немыслимо.
Йосель покачал головой. Он не желал становиться неевреем, даже если бы у него был какой‑то выбор.
– Весь наш мир утвержден. Мы евреи.
Рохель знала, что были в Юденштадте и те, кто считал ее ненастоящей еврейкой, а Йоселя – слугой‑гоем, а вовсе не евреем. И все же, на взгляд Рохели, был ли кто‑то большим евреем, чем они с Йоселем?
Голем со своей стороны просто хотел жить с Рохелью в каком‑нибудь безопасном месте. Они могли бы отправиться на север в Мельник, Литомержиче, Усти‑над‑Лабем и дальше в Германию. Или на юг, вдоль реки Влтавы, минуя Чески‑Крумлов, пройти через Австрию в Италию, добраться хоть до самой Венеции. Мир так велик. А он, Йосель, так велик и силен. Он может работать, чтобы прокормить их обоих.
– Пойми, Йосель, мы больше нигде не сможем быть вместе. Это пустая мечта. Ты не должен возвращаться в Прагу.
«Здесь она ошибается, – сказал себе голем, – ибо я никогда ее не отпущу».
– Я не могу уйти, а ты не можешь вернуться. Ты умрешь. Раввин обязан будет сдержать обещание. Я не смогу этого выдержать.
Йосель покачал головой, почти улыбнулся. Он собственными руками отнес раввина в постель, когда того ранили. Как дико звучат ее слова – точно верещат сотни чаек. Насколько же против Бога и природы все это было, природы, созданной Богом. Его отец отнимет у него жизнь? Но он, отец, его создал. Он, Йосель, гораздо в больше степени является плодом замысла, понимания, нежели плод союза между мужчиной и женщиной. Он – творение разума своего отца, все, что в нем есть, в высшей степени обдуманно… хотя, если быть до конца честным, ему бы хотелось обрести голос. Впрочем, голем признавал, что идеала в этом мире пока еще не существует.
– Послушай меня, я вернусь. Я скажу, что заблудилась в лесу.
Йосель отрицательно помотал головой. Если Рохель твердо настаивает на возвращении, он станет вести себя так, как будто только‑только ее нашел, как будто все это время ее искал.
– Я скажу Зееву, что забрела в лес и не смогла найти обратную тропу. Он не знает про ребенка. Он не знает, что мы… Он ничего не знает.
Йосель несколько раз помотал головой, словно говоря: «Нет‑нет‑нет».
– Они еще оплакивают мертвых, и я проскользну в город, стану вместе с ними плакать и каяться. Зеев славный, хороший человек. У него доброе сердце. Всю оставшуюся жизнь я проведу вместе с ним.
Слезы подступили к глазам Йоселя.
– Нет, Йосель, не плачь. Пожалуйста. Это единственный путь. Мой долг – следовать наставлениям Торы, делать добрые дела. За всю жизнь я не сделала ни одного доброго дела – и видишь, как я была наказана? – Рохель не выдержала. – Невинное дитя…
Она не смогла договорить.
Как она может так заблуждаться, как может быть такой упрямой? Йосель не понимал ее рассуждений. Она говорит слова, которых он раньше никогда от нее не слышал. Разве они с ней не муж и жена – по самому главному из законов?
– Я должна вернуться из‑за всего того, чему меня учили, – Рохель заговорила, точно девочка, которая отвечает урок. – Я солю мацу, я благословляю хлеб, в первый день Рош‑ха‑Шаны я иду к берегу реки и бросаю свои грехи в воду. Это благословение для умывания рук. Положи свои лишние монеты в коробку для пожертвований. Мицва говорит: не заниматься никакой доходной работой в Шаббат… – внезапно она осеклась. – Обычная жизнь кое‑чего стоит, Йосель. Возможно, это все, что у нас есть.
Вот что у нее еще оставалось. «Это очень много, – сказала себе Рохель, – это все».
– Думаешь, с тобой я смогу быть добродетельной женщиной, жить где‑то еще?
Йосель энергично кивнул в знак подтверждения. Именно это он и пытался до нее донести.
– Йосель, послушай меня. Быть евреем – значит жить честно.
Рохель лгала – но разве она не ставила себе такой цели? Она прекрасно понимала: когда она вернется, ее встретят не как блудную дочь, но как блудницу. Ее ждут порицание, может быть, расправа. Но она не позволит Йоселю даже на секунду так подумать. Она должна лгать, чтобы его спасти. Он станет первым ее добрым делом.
«Жить честно, – размышлял Йосель, – так она это называет?» В первый день своей жизни Прага показалась ему прекрасной. Теперь голем понимал, что Прага – грязный, убогий город, полный злобы и ненависти. И что в стенах гетто, в комнате, которая даже размерами едва ли просторней тюремной камеры, – Рохель была пленницей. Вот какова правда. Как Рохель могла узнать о других местах, обо всем мире в целом? Только увидев все собственными глазами.
Понимая, однако, что ему ее не переубедить, Йосель уступил, позволяя Рохели думать, будто ее последний аргумент подействовал. Он кивнул, словно принимая ее предложение, позволяя ей верить в невероятное. Да, он позволит ей вернуться и больше никогда с ней не увидится. Рохель пойдет домой, вернется к своим прежним обязанностям, к своему мужу, в свою комнату, а Йосель уйдет далеко за холмы, бросая всем вызов, уклоняясь от описанной ею судьбы, которая являла собой всего лишь выражение ее страха, капризную уступку сплетням, которые бродили в гетто. Неужели рабби причинит ему вред? Чистейшей воды тупость. «Аврам, Аврам, не поднимай руки на сына твоего». Бог милостив и справедлив. Он не требовал кровавой жертвы. Его родной отец всем сердцем любит его, Йоселя бен Ливо. Рохели хватит всего лишь несколько дней прежней жизни, заточения в сырых стенах, шитья при свете тусклой свечи, думал Йосель. И она придет к тем же мыслям, что и он. А когда она начнет сожалеть о своем решении, чувствуя себя пойманной в ловушку и обреченной на тупую, ограниченную жизнь, он вернется из‑за холмов. К тому времени Йосель уже найдет город, работу, кров – и сможет забрать ее с собой. Рохель сама все увидит.
Они молча вышли из леса и стали вместе спускаться по травянистому склону холма, пока не остановились там, откуда их уже могли увидеть. Из глаз Рохели хлынули слезы.
– Йосель, Йосель…
Он застонал в ответ. В какой‑то миг Рохель чуть не передумала. Но до нее донесся перезвон колоколов – всех колоколов города, каждый отбивал свой собственный час. Время настало.
Убежденная в том, что спасла Йоселя от верной смерти, собравшись с духом, чтобы достойно встретить насмешки, развод – все, что ей было уготовано, Рохель медленно и неуверенно направилась к городу, ибо кровотечение у нее до сих пор не прекращалось. Но прежде, чем пройти по Карлову мосту, она заглянула отдохнуть в лавочку мастера Гальяно, у Дома Трех Страусов. Жена итальянца отвела усталую путницу в подсобную комнатку, уложила на койку, принесла ей воды, хлеба и сыра. Добрая женщина сняла с Рохели грязную одежду, начисто отерла ее тело тряпицей, одела в свежую юбку и корсаж, а затем из куска тонкого синего полотна сделала ей новый головной платок. Всю одежду жена мастера Гальяно подбирала аккуратно, в полном соответствии с предписаниями Завета – например, не смешивая изображений животных и растений.
Рохель глубоко тронуло участие женщины. Высокие стопки материи в магазине напомнили ей о дорогой покойной бабушке и вечерах, когда мастер Гальяно привозил им из‑за Карлова моста нитки и ткани в ручной тачке. Славная тогда была жизнь, а Рохель даже об этом не знала.
Мастер Гальяно также был участлив и почти мрачен.
– Пойми, Рохель, все ваши люди обречены. Кто‑нибудь непременно уничтожит вашу общину – не император, так горожане. Проповеди отца Тадеуша будят в людях недовольство, заставляет всех страшиться будущего. Тебя он выделяет особо – не просто как еврейку, но и как грешницу. Тебе придется несладко. Люди знают, что вы с големом сошлись. Лучше сделай так, чтобы они подумали, будто ты умерла или пропала без вести.
– Вы не понимаете, мастер Гальяно, – запротестовала Рохель. – Я позволила моим страстям затуманить мой разум и попрать мой долг. Я потеряла ребенка, погубила супруга, навлекла позор на мой народ. Я заслуживаю наказания, воздаяния, я должна расплатиться за всю ту боль, которую я причинила.
– Дитя мое, ты глубоко заблуждаешься. Молодость – не преступление. Оставайся здесь, спрячься пока у нас.
Рохель даже не хотела об этом слышать. И они тоже ничего не понимают – как Йосель. Отказавшись от их помощи, Рохель простилась с мастером Гальяно, его женой и направилась в Юденштадт.
На реке она заметила лодку, а в ней – Вацлава. Он плакал. Рыбаки толпились на берегу, чиня свои сети. На Карловом мосту уже становилось людно. И вскоре началось то, что Рохель предчувствовала: люди, узнавая ее, кричали «Блудница, блудница!» и оплевывали ее. Но Рохель продолжала спокойно идти. С высоко поднятой головой вошла она в ворота Юденштадта. Соплеменники отвращали от нее лица, твердили: «Стыд! Позор!» Дверь в доме рабби Ливо была открыта. Перл стояла у очага, помешивая овсяную кашу, а внуки и внучки собрались вокруг нее. Как только малышка Фейгеле увидела свою подругу, она тут же закричала:
– Рохель, Рохель, а мы тебя всюду искали!
Перл медленно отвернулась от котелка, жестко взглянула на Рохель, а затем, не в силах сдержать своих чувств, бросилась заключить молодую женщину в объятия.
– Мое бедное дитя…
Две женщины сжали друг друга в объятиях и зарыдали в голос.
– Кто там? Кто там? Что за шум? – рабби Ливо с трудом спустился по лестнице. Плечо у него все еще болело.
– Она вернулась, – сказала Перл.
– Это я вижу, – медленно отозвался раввин, стоя на ступеньке. – А Йосель? Где он?
– Я отослала его, – сказала Рохель… и тут же увидела, как лицо рабби Ливо разглаживается, словно его омывает волна облегчения. Рохель опустила голову. Она больше не могла смотреть ему в глаза.
– Прекрати, – сказал рабби Ливо. – Выше голову, Рохель, будь отважной. Будь женщиной.
30
Переодетый слугой Келли прибыл на императорскую кухню и заявил, что его послали в помощь. В гвалте и суматохе никто не заметил обмана, и Келли допустили к подготовке блюд для празднования дня рождения императора. Императорская кухня включала в себя амбары и кладовые, котельную, топившуюся круглые сутки, выпечной цех, где готовили сласти и пряности, кондитерскую, кладовку для свечей и кладовку для пряностей, ледник и собственно громадную кухню. В распоряжении шеф‑повара было двадцать пять помощников, не считая мальчиков, вращающих вертела. Еще там было помещение для мытья посуды, где кипятили серебряные тарелки и терли песком оловянные. Вода поступала по трубам из реки. Всей этой кутерьмой заведовал чиновник, который сидел в своем кабинете и вел кухонные счета. В огромной кухне стояло насколько огромных очагов, некоторые даже с механизмами, которые поворачивали вертела, – механизмы куда более современные, чем колеса, в которых бегали собаки; правда, эти колеса тоже можно было увидеть на бескрайней кухне. Вдоль одной из стен выстроились угольные печи с небольшими котелками и духовками. Хлебные печи, однако, находились в отдельном доме у реки из‑за постоянной угрозы пожара.