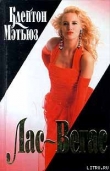Текст книги "Книга сияния"
Автор книги: Френсис Шервуд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
– Посмотри‑ка, жена, что я тебе принес.
Мед и изюм? Голубую тарелку? Прелестный фартучек, серебряный наперсток, резной деревянный дрейдель?[42]
Зеев протянул ей курицу. Когда‑то эта курица была жива и прекрасна – Рохель могла его в этом заверить. Крошечные глазки‑бусинки птицы были плотно зажмурены, словно она не хотела видеть собственной смерти. Зееву еще только предстояло понять, что она совсем не ест мяса.
– А завтра мы получим кожу. Она будет мягкая, податливая, просто мечта любого работника, податливая как масло, послушная игле как дитя своей матери. А что касается сапог… позволь мне тебя заверить, это было непросто. Мне пришлось обойти четыре стойла, а потом отправиться в лавку по ту сторону реки. Телячья шкура есть, шкура оленя, оленихи – но овечья? Пришлось немало потрудиться, можешь мне поверить. Между прочим, я видел Карела. У него теперь небольшой навес над стульчиком от дождя, а Освальд носит старую шляпу, уши торчат наружу – какой глупый у него вид! Карел собирается помочь мне починить крышу. В этом деле он большой мастак, ха‑ха‑ха. Я купил немного смолы… – Зеев подался вперед, словно делясь какой‑то необычайно важной информацией. – Я вот о чем подумал: клей и смола для починки крыши, немного дранки для свеса. Ты что‑то говорила насчет замены занавесей у кровати. С занавесями нам, конечно, придется повременить, пока мы не закончим одежду. Карел уже его видел. Голема, то есть. Все по ту сторону реки тоже про него знают. Кроме алхимиков. Им не позволяют выходить из Пороховой башни никуда, кроме дома Розенберга. Говорят, жена Розенберга наконец‑то забеременела. Браге с Кеплером опять ссорятся. Кому пользоваться секстантом – из‑за всякой такой ерунды.
– Секстантом?
Если бы он только перестал болтать, мысленно взмолилась Рохель.
Зеев снял плащ, повесил его на крючок и подошел к очагу, растопырив замерзшие пальцы. Перчаток он не снял, но поскольку перчатки были без пальцев, их можно было не снимать даже за работой.
– Сделанный из двух стержней и дуги, жена, секстант замеряет положение звезд относительно горизонта и других звезд. Именно так астрономы составляют карту неба; это одно из новых изобретений. Кеплер и Браге намерены найти все звезды, а некоторые говорят, даже поговорить с Богом.
– А…
Рохель порой пользовалась циркулем геометра, чтобы набросать шаблон вставки под рукавом или прикинуть, насколько широки должны быть талия и край юбки.
– Все инструменты принадлежат Браге, а он очень скуп. А Кеплер очень беден. Но Браге в ладах с числами, а Кеплер в ладах с новыми идеями. Они нужны друг другу, но терпеть друг друга не могут. Как тебе такое партнерство? А у алхимиков, говорят, дела идут полным ходом. И ты посмотри, только посмотри, что еще у меня есть! – и Зеев показал Рохели мешочек.
«Пуговицы», – пришло ей на ум.
– Чечевица, как я и обещал. Давай, сунь туда руку, пощупай, какая она скользкая.
Рохель сунула туда руку и на самом дне тканевого мешочка со скользкой чечевицей нащупала тонкую полоску ткани. Она ее вытащила. Это оказалась ленточка, зеленая ленточка.
– Для тебя, – Зеев улыбнулся, присел на камни очага, очень довольный собой. – Ну и денек был, жена, должен тебе сказать. Я видел людей, у которых нет укрытия от дождя, которые вынуждены жить в грязи прямо на улице, людей, у которых нет ни семьи, ни друзей. Нам повезло, что у нас есть еда в желудках и крыша над головами.
Рохель смотрела на потеки дождевой воды, образующие узоры на стене. Щели между стеной и полом они подоткнули тряпками, которые приходилось каждый час отжимать. Даже у камина Рохели приходилось оставаться во всей одежде – в серо‑коричневой юбке, и в свадебной юбке тоже. Она вспомнила свою первую брачную ночь и как тогда ни один предмет в этой комнате не принес ей утешения. Но теперь эти предметы составляли ее жизнь. На столе лежали ее ножницы, ее серебряная игла, ее деревянный наперсток, почерневший от времени. Свеча в оловянном подсвечнике освещала рулон серо‑голубого шелка, который следовало завернуть в ткань от пыли, прежде чем убрать в шкаф. Рохель так мило расставила скудный набор блюд и кувшинов на полке. Повсюду, подобно букетам, из глиняных сосудов торчали связки сушеных трав. Ряд деревянных форм для башмаков, который прежде так пугал Рохель, теперь казался чем‑то дружелюбным: их очертания напоминали человеческие лица и тела, крошечные деревья, мосты и лошадей. Казалось, их комната была сама по себе целым городом с небольшим леском по ту сторону. Длинное зеркало множило этот город, раздваивало его – получалось как две стороны Праги по обе стороны реки. Весной Рохель вместе с другими женщинами пойдет в Петржинский лес по грибы. Заглянув за ворота замка, они увидят тюльпаны. Все будет замечательно. Никакого несчастья не случится. Жемчужина несравненная. Перл, жена раввина, – она поможет Рохели стать доброй женой, как ей предназначено, женой трудящейся, которая чистит кастрюли, жарит ягнятину, латает одежду и превыше всего ставит своего мужа.
20
Дискуссии с Вацлавом независимо от темы можно было только назвать дискуссиями. Император обращался к своему слуге, сидя на одном из множества своих тронов, а Вацлав стоял с прямой спиной, глядя прямо перед собой, словно он внимал противоположной стене. Также, хотя Вацлав спал в одной постели с императором, сворачиваясь калачикам в ногах у монарха и всю ночь перенося его пинки и припадки, все императорские капризы – «какой ужасный сон», «подай мне еще воды», – Вацлав никогда не сидел напротив его величества за столом. Он знал, по каким дням император навещает Анну Марию, свою любовницу, и сопровождал Рудольфа (оба они по таким случаям переодевались, чтобы не быть узнанными) в его блужданиях по Малой Стороне в поисках других развлечений. Вацлав наблюдал за тем, как император делает ставки на петушиных боях, играет в кости, в кегли, проигрывает в карты, спотыкается, пытаясь вообразить себя игроком в волан. Он знал, какая музыка нравится императору – старые песни трубадуров вроде «Когда я был жаворонком под солнцем, и радостно крылышками махал». Знал его книжные вкусы: вульгарные Чосер и Рабле, мудрый Монтень, Эразм – католик до мозга костей, которого Вацлав читал Рудольфу вслух, сидя на стуле с прямой спинкой у императорского ложа. Однако император никогда не интересовался здоровьем Вацлава, его домом или семьей, которую Вацлав навещал, когда только мог, – в те ночи, когда император спал со своей любовницей, когда Рудольф встречался со своим исповедником или просто хотел побыть один.
– Обещаешь ли ты мне, Вацлав, что их эликсир подействует? Обещаешь ли ты это в самой глубине своего сердца?
Вацлав вздохнул:
– Я уверен, что он подействует.
– А ты можешь поклясться своей матерью, что…
Император осекся. Он даже не знал, любил Вацлав свою мать или ненавидел.
Мать Вацлава умерла не такой уж старой – ей и пятидесяти не стукнуло, и для Вацлава ее потеря стала очень тяжелой. Он всей душой любил свою мать. Когда она испускала дух, Вацлав стоял у стены – а потом колени его подогнулись, и он осел на пол. Он даже не мог встать, пока жена не попросила его подняться и закрыть матери глаза.
– Я уверен, ваше величество.
Вацлав всегда распознавал симптомы приступов императорской хандры. Сперва никакого сна, сплошная неугомонность. Днем и ночью для него на полную мощь должен был играть оркестр в полном составе. Надрывно голосили камерные певцы. Туано Арбо. Якоб Гандль Галлус. Тильман Сусато. Привести Пуччи. Послать за поваром. Новую одежду. Затем, вконец изнуренный, Рудольф начинал двигаться медленнее, проводить больше времени со своими коллекциями, всякий раз снова рассказывая, как его любимую картину – «Гирлянду роз» Дюрера – везли через Альпы, передавая из рук в руки, словно эстафетную палочку. Какая бы неприятность ни случилась, императору казалась, что справиться с ней выше его сил. Дружелюбный рык Петаки означал, что лев хочет откусить ему голову. Посол, не поклонившийся достаточно низко, был слишком груб. Числа становились слишком сложны для подсчета, налоги проходили неоцененными. Окончательная усталость от жизни по утрам приковывала Рудольфа к постели, а наступление ночи бросало его в судорожные рыдания.
– Порой, Вацлав, я просто недоумеваю, в чем тут смысл. Зачем жить еще один день, не говоря уж о вечности?
– Порой, ваше величество, все мы так себя чувствуем.
– Да? И ты тоже? И что ты тогда делаешь?
Вацлав не привык ни отвечать на подобные вопросы, ни делиться собственным душевным состоянием.
– Ну, у меня есть семья, ваше величество, и у меня есть работа, – ему пришлось изобразить смех. – Порой я сажусь в лодку и гребу по реке, пока не устану.
Именно так он поступил, когда умерла его маленькая дочь. Тогда Вацлав выгреб на самую середину реки Влтавы. По одну сторону оказался замок и стекольный завод, пивоварня, большая водяная мельница на острове Кампа, а по другую – Старе Место, шпили костела девы Марии перед Тыном, Вышеград. Вацлав перестал грести, опустил голову и заплакал. Его жена осталась дома, готовя хлеба, чтобы отнести их к большим печам пекарни. Каждая буханка была подсолена ее обильными слезами. Мать Вацлава, чтобы успокоиться, обычно яростно подметала комнату, орудуя метлой как оружием против отчаяния.
– Грести веслами? – на миг император было оживился, но буквально через секунду снова впал в уныние. – У меня должен быть еще один запасной план, если алхимики не справятся, верно?
– Как только они создадут эликсир, вы сможете отправиться в путешествие, ваше величество.
– И остановиться в каком‑нибудь неуютном замке со сквозняками и сыростью – так, Вацлав?
– И отправиться на охоту. Соколиную.
– На охоту? – мрачно переспросил император. – Соколиную?
Это был даже не вопрос.
– А потом устроить роскошный пир. Пригласить всех друзей.
– У меня аж колики в желудке от одной этой мысли. Каких друзей?
– Вы с Петакой скоро будете отмечать ваш день рождения.
Рудольф родился восемнадцатого июля тысяча пятьсот пятьдесят второго года, Петака – восемнадцатого июля тысяча пятьсот девяностого. Браге, придворный астролог, предсказал, что когда умрет лев, умрет и император. Пока что, старательно осматриваемый придворными лекарями, надменный зверь рисковал заполучить от силы приступ подагры.
– Петака не кусает меня только потому, что я его кормлю.
– И никогда не забывайте, как вы богаты, ваше величество. Земля засеяна пшеницей, хмелем, ячменем, овсом и рожью, леса полны древесины и дичи, реки кишат всевозможной рыбой, серебряные рудники и алмазные копи…
Текущие государственные дела в последнее время пребывали в прискорбном небрежении. На иностранных лазутчиков просто не обращали внимания. День за днем империя, балансирующая на грани войны с турками, в самом своем центре если не гнила, то определенно кисла от протестантского недовольства.
– Кто богат, тот и платит, – продолжал стонать император.
– Вы только подумайте о великолепии вашего двора.
– У турецкого султана при дворе четыре тысячи человек.
– И о вашей красоте.
– Моя красота не принесла мне ничего хорошего. Единственная женщина, которую я любил, меня не любила, а теперь уже умерла.
Император, слишком обезумевший для вранья, невольно открыл правду.
– Анна Мария, ваше величество?
– Она не в счет.
– Вас всюду почитают за ваш сангвинический темперамент.
Воистину. Непреходящая мрачность и дикие выходки Рудольфа едва ли составляли большой секрет. Разговоры об этом распространялись до самых дальних рубежей Империи – по всей Богемии, Моравии, Силезии, части Венгрии, австрийским землям, Тиролю, Саксонии, Хорватии. Традиционным близким врагам, непримиримым трансильванским графам, независимым венгерским гражданам и польским солдатам всегда радостно было слышать о несчастьях ненавистной Австрии. За границей венецианский дож улыбался в свой суп, а при дворах короля Франции и английской королевы Елизаветы цвели целые клумбы предположений по поводу того, насколько выжил из ума Габсбург. А вы знаете? Это правда? Говорите, безумен?
– Ваша замечательная коллекция, ваше величество, по‑прежнему остается непревзойденной.
– Известно ли тебе, Вацлав, об том трансильванском графе, который владеет секретом вечной жизни?
– Он дурной человек, ваше величество.
– Потому что этот граф дружит с турками?[43]
– Не только поэтому.
– Я как‑то отправил ему письмо. Довольно давно, еще до прибытия Келли и Ди. А он в ответ выслал приглашение навестить его замок.
– В это время года дороги были занесены и покрыты льдом, ваше величество.
– В мае? Сомневаюсь. Попробуем узнать, какие еще мнения есть по этому вопросу. Приведи Киракоса в Кунсткамеру – посмотрим, что он скажет.
Киракос лежал у себя спальне, пытаясь заснуть. Всю ночь придворный лекарь провел на ногах, выпивая и играя в шахматы, а теперь, немного поворочавшись в постели, только‑только начал погружаться в сон. Киракос снова был в Стамбуле. В теплом воздухе славно пахло сандаловым деревом. Он видел пальмы, куполообразную крышу Голубой мечети. Слышал, как муэдзин кричит: «Велик Аллах!» Киракос уже соскальзывал в сладостный сон… когда его ноздри вдруг вздрогнули. Вацлав, лакей императора, стоит у постели. Киракос родился христианином и был крещен, но считал, что в целом христиане очень сильно воняют: они не мыли рук перед молитвой или едой и купались крайне редко. Да и умом были обделены. К примеру, им нравилось по поводу и без повода жечь книги, как это делал Савонарола, и не только из тщеславия. В течение средневековья они жгли Аристотеля, Платона и досократиков только потому, что древние греки не были христианскими мыслителями.
– Проснись, Киракос.
«Нет, никогда в покое не оставят», – не открывая глаз, раздраженно подумал Киракос.
– Тебя хочет видеть император.
– Разве мне не позволено заслуженно прикорнуть? Неужели человеку днем даже голову приклонить нельзя?
Киракос открыл один глаз, затем другой, сел на кровати, встал, пнул своего русского слугу, который спал рядом на полу, осушил стакан вина и схватил свой саквояж. Следуя за Вацлавом, придворный лекарь со своим верным помощником добрались до другого конца замка и вошли в галерею.
– Ваше величество! – воскликнул Киракос, потирая ладони и низко кланяясь, словно был безумно доволен тем, что его оторвали от сладкого сна. Как использовались пикантные новости, собранные им при дворе императора и отправленные в Стамбул, или чего ради султану захотелось, чтобы придворный лекарь посоветовал Рудольфу пригласить в Прагу Келли и Ди, с чем его официально поздравили, – Киракосу не сообщали. В цепи инстанций был всего лишь мелкой сошкой, передающей донесения в другие руки. В руки, которые в свою очередь передавали весть кому‑то еще, пока она не достигала Стамбула. Все это, если разобраться, было весьма нудным и утомительным предприятием.
– У нас тут идет дискуссия, – сказал император, – и нам нужно узнать твое мнение.
Киракос тут же мысленно велел себе напрячься и уделять происходящему предельное внимание. Ибо нигде и никогда он не мог забыть, что стоит ему оступиться – хоть на полшага – и палач султана (глухой после того, как ему в уши залили горячий воск, и немой после того, как ему отрезали язык) будет направлен сюда, чтобы удушить его специальной струной. Такова была традиция.
– Всегда к вашим услугам, ваше величество.
– Да‑да, а теперь скажи мне, каково твое мнение о Трансильвании?
– Захолустье, населенное варварами.
– Ну‑ну, Киракос. Не может весь мир быть так же хорош, как Прага.
Киракос посмотрел на Вацлава. Тот граф вовсе не был другом Турции. Даже напротив. И все же… разве смерть императора не стала бы последним звеном в цепочке? Разве не эта цель читалась во всех наказах Стамбула? Чему он должен был повиноваться – букве или духу приказа?
– А кто эту идею предложил?
– Я, Киракос, – сказал император. – Эта идея целиком принадлежит мне. Что, если у Келли и Ди ничего не получится? Мне даже думать нестерпимо, что я не смогу жить вечно.
– Все у них получится. А кроме того, графу Дракуле никто визитов не наносит.
– Но почему?
– Он кровопийца, ваше величество. В буквальном смысле слова.
Император огладил подбородок. Несмотря на всю его ненависть к крови, существовало одно исключение. Рудольф любил пудинг, приготовленный из свиной крови, взятой еще теплой и смешанной с овсяной кашей. После трех дней вымачивания в овсянку добавлялись сливки, тимьян, петрушка, шпинат, цикорий, щавель и листья земляники. Все это тщательно перемешивалось. Затем туда добавлялся перец, гвоздика, мускатный орех, соль и солидная масса тонко наструганного нутряного сала. При мысли об этом блюде у Рудольфа аж слюнки потекли.
– Подобно той женщине, которая убивала девственниц и купалась в их крови, чтобы вечно быть молодой и красивой?[44]
– Она умерла в тюрьме, ваше величество. Старой каргой.
– Надо думать, только потому, что прекратила свои лечебные процедуры. А сколько лет этому графу Дракуле?
– Он даже не может выйти на дневной свет.
– В ночной тьме тоже есть свои прелести, – парировал император.
– Например, мерзавцы и злодеи, – вставил Вацлав. – Дьяволы и демоны.
– Вам лучше остаться здесь – таков мой совет, – сказал Киракос. – Подумайте хотя бы о том, как уязвимы вы будете в течение долгого путешествия… – Киракос выдержал эффектную паузу. – Хотя я наверняка знаю, что у Келли и Ди все получится, есть кое‑что поближе графа Дракулы.
– Что? – Император не на шутку заинтересовался.
– Я собирался сказать вам раньше, но… – для вящего эффекта Киракос снова помолчал. – Это касается рабби Ливо.
– Того еврея, который превращает камни в розы? Да‑да, я и сам о нем думал.
– Он сделал человека. Я его видел.
– Что ты имеешь в виду? У раввина родился сын?
– Не от его семени. Он собственными руками сотворил полноценного человека.
– Гомункула? Такого маленького человечка в перегонном кубе? – Император вдруг выпрямился и поднял палец. – А, теперь понятно. Вот зачем раввин хотел меня видеть.
– Вовсе не маленького человечка. Громадного мужчину.
– Да. Я и об этом слышал. Ты не думаешь, что его собираются пустить в ход против меня?
– Нет, ваше величество. Все это из‑за слухов о том, что горожане собираются разрушить Юденштадт, спалить его до основания, – вмешался Вацлав. – Вот зачем рабби Ливо создал голема.
– Не мели чепухи, Вацлав.
– Они намерены перебить всех евреев, – продолжил настаивать Вацлав.
– Пожалуй, об этом стоит подумать, – задумчиво произнес император. – Если раввин способен создавать жизнь, если такое возможно, то продлить жизнь для него, должно быть, сущая ерунда.
– Вполне резонно, – подтвердил Киракос. – Хотя, разумеется, следует отметить, что Ди и Келли весьма неплохо продвигаются со своим эликсиром.
– Будет весьма прискорбно, если вы позволите уничтожить Юденштадт, убить людей, которые вам служат…
– Тихо, Вацлав. Пожалуй, я бы не отказался немного перекусить… – Император дернул за веревочку, соединенную с колокольчиком на кухне. – И переодеться в новую одежду. Знаешь, короткие штаны в тон к тому плащу, который я недавно приказал украсить богатой вышивкой? Пошли за портным, который это сделал.
– Ваше величество… – слуга с кухни вбежал в галерею и низко поклонился.
– У меня сейчас настроение для чего‑нибудь сладкого. Что‑нибудь воздушное. Сладкие пироги.
– Потребуется время, ваше величество, чтобы их испечь.
– Тогда не мешкай. Что, ничего под рукой нет? Подогрейте яблоки, запеченные в тесте, оладьи с черникой, медовые пирожные, айву, прокипяченную в сахарно‑розовой воде, варенье из фиалок и примул, медуниц и левкоев, любые засахаренные цветы и все, в чем есть мед.
– Ваше величество, – опять вмешался Вацлав, – евреи…
– Сделать человека, – сказал Рудольф, – весьма серьезное достижение. Но это не механическая игрушка?
– Он создан из глины, – ответил Вацлав. – Только из глины.
– Он ходит и говорит?
– Ходит, сир, но не говорит. Он очень силен. Как я слышал, стоит целых двенадцати солдат.
– Что? Стоит двенадцати солдат? Но ведь евреи не воюют, – щеки императора раскраснелись. – Пошлите за этим искусственным человеком. Я должен сам его увидеть. И за раввином. Да‑да, конечно, за раввином тоже.
– А что же пара алхимиков, ваше величество? – отважился напомнить Киракос.
– Алхимики пусть продолжают работать. Я хочу, чтобы все в этом городе занимались тем, чтобы дать мне вечную жизнь. Да, и доставьте сюда того портного, который работал над моим последним камзолом. И пусть готовят печи на кухне – печь придется много.
– Тот портной на самом деле… еврейский сапожник…
– Да что ты такое несешь, Вацлав? Сапожник, который портной, который на самом деле еврей?
– Не сам портной – сапожник, – поправил Киракос, – а его прекрасная жена.
– Значит, жена еврейского сапожника – тот самый портной, вернее, портниха, которая сшила мой камзол? Чем же все это закончится? Евреи захватят власть?
– Она самая красивая женщина в Праге, – заметил Киракос.
– Самая красивая женщина в этом городе, которую я ни разу в глаза не видел? Самая красивая? Я должен оценить ее красоту. Приведите ее ко мне, и раввина тоже, и еще эту штуковину… ну, голема. Подумать только – все это происходит прямо у меня под носом, а я и ведать ни о чем не ведаю! Где был мой двор? Что они там вообще делают? А совет – он сегодня собирался? Где этот тошнотворный мерзавец Румпф, ему положено всем управлять, а он только груши околачивает! Где Розенберг? Оторвите его, наконец, от жены – все равно у них ни черта не получится.
Император вскочил с кресла и заметался по галерее.
– А эта швея, еврейка, – что у нее самое привлекательное?
– Никто ее настолько подробно не видел, ваше величество, – ответил Вацлав.
– Ее лицо, – сказал Киракос, – и ее тело.
– Но ведь это получается все, разве не так? Я должен ее увидеть. Я должен ее получить.
– Она никуда не ходит без своего мужа. Их обычаи…
– Да будь ты проклят, Вацлав! Скажи, Киракос, как это тебя угораздило на нее наткнуться?
– Киракос прячется за стенами их купальни и подглядывает, ваше величество.
– Ничего подобного.
– А ты, Вацлав, как ее высмотрел, могу я спросить?
– Я знаю Рохель с детства, ваше величество.
– Рохель, значит, – осклабился Киракос.
– Теперь все ясно, – объявил император. – Это целый заговор с целью держать меня в неведении. Где этот мерзостный служка? На кухне должно быть хоть что‑нибудь, что я смог бы съесть прямо сейчас. Варенье, кусок хлеба… И Пуччи сюда… нет, сперва певцов, пусть они исполнят «Первую книгу мадригалов» Монтеверди. Музыкантов, этих змеев свернувшихся, весь мой оркестр. Горячее вино с пряностями. Ну, живо.
– Ваше величество, а вы бы не хотели немного отдохнуть? Позвольте мне помочь вам улечься в постель.
– В постель, Вацлав? Я не хочу в постель. Сейчас день, и я собираюсь познакомиться с самой красивой женщиной в Праге. Больше того, я должен познакомиться не только с этой еврейкой, но и с человеком‑големом – и ты смеешь предлагать мне улегся в постель? Вот ее я точно в постель уложу. Значит, она замужем? Тем лучше. Как насчет права первой ночи, которое прежде супруга всегда принадлежит дворянину, королю, боже ты мой, императору?!
– Этот старый обычай, ваше величество, уже давно вышел из моды.
– В самом деле, Вацлав? А у меня не вышел.
21
Голем Йосель, обладая силой двенадцати солдат, занимался женской работой. Он мешал овсяную кашу, потрошил кур и рыбу для обеда в Шаббат. Йосель подмел дом раввина метлой из маленьких прутиков, а затем, ползая на четвереньках с тряпкой в руках, отдраил все полы. Он отчистил песком горшки, убрал пепел из очага, высыпал его в компостную кучу, которую еженедельно переворачивал. Отнеся помойные ведра к реке, голем тщательно отчистил их остатками пепла, после чего вымыл и снова расставил под кроватями ночные горшки. Затем он ведрами натаскал воды из колодца во внутреннем дворе, вымыл ею тарелки, вытер их и расставил по своим местам в буфете. Дальше Йосель занялся дровами – нарубил поленьев, составил поленницу и принес хворост из леса. Он также присматривал за детьми, играл с ними во всякие игры – в кости и камешки, в кегли, в лошадку, роль которой исполнял он сам. Йосель провожал женщин до синагоги, дожидался их там, чтобы проводить обратно до дома, ибо, хотя он и считался кем‑то вроде евнуха, на женскую половину синагоги ему заходить не дозволялось… равно как и на мужскую.
В тот понедельник Йосель стирал белье во внутреннем дворе в котле с водой, подвешенном над костром, когда вдруг услышал шум. Поначалу он подумал, что разбойники все‑таки явились сжечь Юденштадт. Голем немедленно побежал к воротам еврейского квартала.
Первым появился мужчина в шутовском наряде из разноцветного тряпья, что трепетал у него на бедрах, точно юбка ярких перьев. Он нес в руках ветку с позвякивающими коровьими колокольчиками и распевал:
Эй, бродяги и калеки, всем вам радость я пою,
Похваляюсь только тем, что имею и люблю…
Если пожелаешь жребия иного, не имея власти,
Целый мир тогда собой ты, дурачина, застишь.
– Паяцы!
Дети за дверьми домов гомонили, как воронята в гнезде, и хлопали в ладоши. Женщины высовывались из окон на вторых этажах зданий, где они обычно вытряхивали покрывала и откуда выбрасывали на улицу помои. Мужчины городка выбирались из трактиров и, сложив руки на груди, вставали посмотреть, одновременно смущенные и ошеломленные.
Человек в шутовском наряде явно изображал герольда. А за ним, шаркая ногами, влеклось пестрое сборище – уроды, калеки, слабые костями и разумом. Полное собрание гротескных созданий, марширующих под звуки дудки и барабанчика и распевающих непристойные гимны.
О боже, чем бы нам заняться?
Сейчас начнем совокупляться!
Услышав такие песенки, горожанки заохали и заахали. А мужчины расхохотались.
А ну гоните нам монету,
Не то останемся на лето!
«Паяцы, паяцы…»
Уроды расхохоталась и вывалили наружу языки, а потом нетвердой походкой двинулись дальше, кружась и заковыляли в грубой пляске. Одна женщина, колченогая и горбатая, играла на своей дудке прилипчивый мотив. Другая семенила боком на всех четырех, точно краб. Мужчина с карбункулами на шее, крупными и блестящими как яблоки, кривоногий и сухорукий, двигался скачками, посмеиваясь и скаля зубы. Безносый мужчина непрестанно тряс кувшином с галькой. Двое детей с тюленьими плавниками вместо рук хлопали ими и кричали «ура». Женщина, считавшая себя волчицей, рычала и каталась по улице. Прекрасная девушка со спутанными волосами, одетая в лохмотья, чьи ладони были сцеплены в молитве, распевала хвалы Деве Марии.
Йосель стоял там, потрясенный и растерянный. Кто эти люди? Женщина‑краб бочком присеменила к Йоселю и посмотрела на него снизу вверх.
– Ну что, красавчик, гони монету – али нету? Слышь, мастер Карабас, ты, часом, не из нас?
Йосель отшатнулся, открыл рот и испустил стон.
– Ни языка, ни тона, ни голоса, – женщина хрипло захохотала, подобралась поближе и ущипнула Йоселя за икру. – Ты мне не родственник, болезный?
Йосель снова замычал.
– Он не может говорить, – женщина‑волчица припала к земле, словно собираясь облизать его новехонькие сапоги. Затем подняла вверх свое волосатое лицо, просеменила по кругу и дважды перекувырнулась через голову.
– Давай к нам, давай к нам, давай к паяцам, дуракам! Накорми нас, накорми!
Люди швыряли с балконов хлеб, кусочки сыра, маленькие мешочки муки, капустные листья, репки и грибы, луковицы и яблоки, монеты. Другие выливали грязную воду и помои, некоторые женщины гнали попрошаек метлами, мужчины из трактиров расстегивали гульфики и мочились прямо им на головы, а дети старались подгонять несчастных дальше по улице. Словно бы в последнем росчерке безумной пляски, уроды покружились, попрыгали – и скрылись из виду.
В голове у Йоселя началась чехарда. «Давай с нами, давай с нами», – сказали ему паяцы. Сама мысль об этом его страшила, но зеркало было поднесено слишком близко, и сходство оказалось неопровержимым. А что? Ведь это так просто – просто покинуть город, отправиться в путь вместе с ними! Разве нет? Не только признавать, но и откровенно показывать, что ты не такой, как остальные. Присоединиться к себе подобным – не евреям и не христианам, не немцам и не богемцам, полулюдям‑полуживотным, увечным, имеющих некий изъян. И все же ноги Йоселя точно приросли к земле. У него есть долг. Будь у него язык, он бы сказал: «Да, я дурак, я паяц, это верно, но пусть даже я дурак, я останусь здесь».
А затем Йосель вдруг понял, что перед ним кто‑то стоит. Он опустил взгляд и тут же вспомнил, почему он остался, ради чего живет.
– Знаешь, мне на миг показалось, что ты собрался уйти с попрошайками.
Рохель говорила быстро, добавляя новые слова словно бы лишь затем, чтобы стереть предыдущие.
– Ты должен их жалеть, ибо у них нет ни еды в желудках, ни крыши над головой. Но с другой стороны, ты должен им завидовать. Это и впрямь заманчиво. Их отличие так заметно, его ничем не прикроешь. Какое это, должно быть, облегчение – не стараться все время соответствовать чужим ожиданиям.
Йосель, разумеется, ничего ей не ответил.
– Я хочу сказать, что они вольны до конца быть самими собой, – Рохель похлопывала себя по бокам, словно вместо рук у нее были плавники или крылья. – Они могут идти, куда захотят, несомненно, всюду бывают. Ты только подумай. Сегодня Богемия, завтра Силезия. Они отовсюду ускользают, они видят мир.
Йосель улыбнулся с закрытым ртом, пошаркал огромными ножищами.
– Твоя новая одежда и сапоги – они такие славные, правда? Шелк был подобен ручейку чистой воды, а кожа была мягкой как цветочные лепестки. Сперва я сделала выкройки, наложила их на ткань, растянутую на столе. Я взяла мелок и слегка их очертила, а после этого бабушкиными ножницами, доставшимися мне по наследству, выкроила сперва рубашку, затем брюки.
Рохель покраснела, вспомнив, как однажды улыбнулась ему, точно в шутку, и как ложилась в след от его тела на полу, словно птичка в гнездо. Все это было всего‑навсего девичьей игрой – ничего серьезного – и, к счастью, сохранилось только в ее памяти. Вот только бы теперь остановить поток слов, который будто сам собой льется изо рта. Казалось, слова эти только и ждали, когда она разомкнет губы.
– Зеев сейчас на рынке. А я нечасто выхожу из дома.
Объяснение прозвучало почти радостно, словно это был ее собственный выбор.
– Так что…
Тут Рохель перевела дух, ибо на самом деле не привыкла так много говорить. Да, верно. Такое множество слов вызывало у нее странное чувство, словно давило ее своей тяжестью. Ибо у них дома говорил только Зеев, а он слушала. Порой она воображала себя Освальдом, мулом старьевщика, господином Длинные Уши, который в ответ мог лишь зареветь по‑ослиному. Больше того, она была совсем как Йосель, тоже бессловесный.