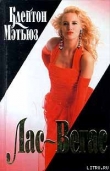Текст книги "Книга сияния"
Автор книги: Френсис Шервуд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
Голем же в лучшем случае представляет собой посланца Бога, а в худшем – воплощение богохульства. И все же, будь он апофеозом творения или жалкой поделкой, существом природным или эфирным, не существует возражений тому факту, что голем суть нечто сказочно‑неправдоподобное. Согласно некоторым оценкам, габаритами он не уступает титанам древнегреческой мифологии, другие же повествования рисуют его как всего лишь высокого роста мужчину. Голем также описывается как настоящий урод – к примеру, как лесной дикарь, гротескный зверь или порождение детского кошмара. Далее, для голема характерен недостаток разума. Зачастую его с немилосердной откровенностью описывают как тупого раба, целиком и полностью повинующегося своему господину. Голем также лишен дара речи – то есть в буквальном смысле безгласен. Сохранились легенды о големах, пробужденных к жизни в Польше, Литве и Богемии. В большинстве упомянутых старых сказок существо это становится неуправляемым, впадая в дикое неистовство.
В настоящей истории, случившейся в Праге в году одна тысяча шестьсот первом, рабби Йегуда‑Лейб Ливо бен Бецалель создает голема, дабы защитить местную еврейскую общину от совершенно определенной ужасной угрозы. Здесь, как всегда и везде, голем крупнее всех окружающих и лишен дара речи, иными словами, не способен говорить. Однако этот голем обладает сильными чувствами и недюжинным умом. Таким образом, не потребуется читать между строк сей незатейливой истории, дабы расценить этого чужака как нашего с вами собрата.
1
Невеста была сиротой, а следовательно, вести ее под хуппу[3] пришлось жене раввина. Согласно обычаю, невеста семь раз обошла вокруг своего жениха, тем самым демонстрируя, что он – средоточие ее жизни и именно ему предстоит получить тот свет и благо, что несет с собой брак. После этого раввин прочитал несколько стихов из сто восемнадцатого псалма и произнес краткое благословение. Он велел жениху быть добрым мужем своей жене, а невесте – быть доброй женой своему мужу. И жениха, и невесту облачили в новые одежды. Тем временем в здании Еврейского городского совета, возглавляемого мэром по фамилии Майзель, все было готово для свадебного пиршества: креплех,[4] фаршированный сыром, и книши[5] с кашей, копченая рыба и маринованные огурцы, салат из редиски, всевозможные кугели,[6] а также роскошный медовый торт, которому посвятили несколько дней радостного приготовления. Все шло как полагается. По ту сторону стены синагоги, отделяющей женщин от мужчин, женщины, пусть и не способные увидеть раввина или жениха с невестой, вовсю улыбались. Раз прямо сейчас зарождалась новая семья, кто мог быть несчастлив?
Жених начал торжественно надевать обручальное кольцо на палец своей невесте. У нее были крупные ладони, выпуклые костяшки, и хотя кольцо превышало обычные размеры, ибо таков был обычай, жениху никак не удавалось протолкнуть его дальше по пальцу. Он нажал сильнее. Кольцо не подалось. Еще сильнее. Внезапно кольцо выскользнуло из руки жениха и – о ужас! – со звоном поскакало по полу. В то же самое время пронзительный свист, точно от струйки ветра в узком тоннеле, стал эхом отдаваться по проходам синагоги. А затем, так же внезапно, свист смолк. Женщины за мехицей[7] в ужасе переглянулись. Жених по имени Зеев поднял кольцо, как будто ничего не случилось, а старый рабби Ливо с полной невозмутимостью вновь огласил слова брачной клятвы. И жених, засовывая кольцо куда‑то в складки своей рубахи, повторил:
– Вот, сей брак освящается для меня сим кольцом согласно законам Моше и Израэля!
Далее была зачитана ктуба[8] – обязательства жениха в обмен на девственность невесты. Жених и невеста отпили от второй чаши вина. Было произнесено еще несколько благословений, и на пол поставили бокал.
– Мазел тов! – дружно воскликнули все мужчины.
Жених разбил бокал в память о разрушении Храма и обо всех тех, кто был изгнан.[9] Затем пару, согласно традиции, оставили наедине. Теперь это было дозволено, ибо отныне они официально стали мужем и женой.
– Благодарю тебя, Зеев Вернер, за то, что ты взял меня в жены, – сказала невеста – не только потому, что была круглой сиротой, но и потому, что само ее происхождение являло собой предмет печали и брачного милосердия. На самом же деле все члены еврейской общины Праги исполнили в этот последний день последнего месяца года одна тысяча шестисотого предназначенный им долг, ибо ответственность за незамужнюю женщину ложилась на всех. Рабби Ливо, как было принято, организовал брак. Перл, жена раввина, помогла невесте‑сироте подготовить свою одежду. Жених, сам вдовец, повиновался долгу, ибо по‑прежнему любил свою первую жену, с которой прожил пятнадцать лет и которая теперь лежала на Юденштадтском кладбище.
Зеева убедили вступить в брак с этой новой женой, которой он никогда раньше не видел. Мало того, он не получил никакого приданого, не считая ее таланта обращения с иголкой и ниткой. Невеста по имени Рохель вместе со своей бабушкой, умершей всего за три месяца до свадьбы, шила превосходные одежды не только для мэра Майзеля, единственного еврея, появлявшегося при дворе, но и для знатных аристократов нееврейского происхождения, что жили во дворцах на холме под Градчанским замком. Поразительная искусница в своем ремесле, Рохель уже успела расшить прекрасный камзол не для кого‑нибудь, а для самого императора Рудольфа II.
Да, конечно, как еврейка и как женщина, Рохель не могла принадлежать к портняжной гильдии, а Зеев, как еврей, не мог состоять в гильдии сапожников. Однако вместе, используя таких христианских посредников, как мастер Гальяно, портной, и старьевщик Карел, они смогли бы платить за аренду одной комнаты, которая стала бы им сразу и домом, и мастерской. Кроме того, решил Зеев, они смогли бы позволить себе новую постель из свежей соломы, пару несушек и петуха, а их кладовка всегда была бы полна капусты, репы и лука. Зеев также позволил себе задуматься о кормлении и одевании детей, ибо, несмотря на его великую любовь к первой жене, их брак оказался бесплодным.
На свадебном торжестве Зеева с его новой женой посадили на соседние стулья. Точно король с королевой на своих тронах, они держали головы повыше, словно бы принимая парад, пока перед ними в должном порядке проходила процессия мужчин и женщин еврейской общины Юденштадта. Голова Рохели кружилась от гордости. От выпитого во время церемонии вина девушка слегка захмелела, и теперь в носу у нее щекотало, а помещение наполнялось теплом и кружением красок. Почти замирая от счастья, Рохель понимала, что все это – начало ее новой жизни. Но вот величественное торжество закончилось, Зеев провел ее в свою комнату‑мастерскую напротив кладбища, которой предстояло стать их домом. И сердце Рохели, которое только что раскрылось подобно цветку, обласканному солнцем, вдруг сжалось, словно от дыхания мороза. Очаг, сырой и черный от сажи, был увешан покачивающимися заготовками для деревянных башмаков, где каждая пара подходила под размер соответствующей персоны. Первоначально изготовленные из древесины, эти пары тем не менее не были радостными и блестящими подобно листве, а скорее напоминали куски плоти, вырванные из тела дерева. Рохели они казались останками побоища, строем бесформенных кукол. «Во что обратятся эти заготовки, когда стемнеет», – со страхом подумала она.
– Когда кто‑то умирает, я убираю заготовку из этого ряда, – объяснил Зеев, подходя к буфету и доставая оттуда коробочку с кремнем, чтобы зажечь свечу на оловянной тарелке. В комнате было холодно – даже холоднее, чем снаружи.
– Пожалуй, камин сегодня лучше не разжигать, – заявил он. – Давай сразу в постель. Незачем попусту тратить добрую растопку.
В комнате был всего один стол и один стул. Теперь, когда Зеев приподнял свечу, Рохель разглядела прикрепленные к стропилам шкуры животных. Там были полоски и цельные шкуры, выкрашенные кроваво‑красным, чернильно‑черным и бурым. Из‑за них в помещении висел запах бойни, а поверх него – какой‑то тошнотворно‑сладковатый аромат, вроде душистого воска. «Я вошла в лес мертвецов», – с содроганием заключила Рохель.
– Плотник уже делает для тебя стул, жена. Два стула, подумать только. Нам очень повезло, у нас есть крыша над головой… – Зеев поднес свечу к кровати. – Блаженны имеющие одежду на теле и пищу в желудке.
Кровать, приподнятая над полом для защиты от сквозняков и паразитов, занавешенная пожелтевшей от времени тканью, напомнила Рохели гроб.
– Подойди сюда, жена.
«Придется сделать новые занавески, – решила Рохель, – а потом заменить промасленную бумагу в единственном окне настоящим стеклом. А еще – дочиста отмыть камни очага, отскрести весь пепел». Самой дешевой тканью для полога стало бы полотно, зато шерсть куда больше годилась для зимы. Конечно, Рохель сумела бы смешать одно с другим. Из всех тканей самой ее любимой был шелк – та его разновидность с рельефным узором, иначе шелковый бархат. Не меньше Рохель любила шелк мягкий и податливый, блестящий и теплый, иначе – шелковую тафту с ребристым полотняным переплетением. А еще шелковый дамаст, поступавший из Дамаска, иначе – шелковую парчу…
– Жена, не стой там попусту. Я тебя не обижу.
Рохель еще плотнее закуталась в свой плащ.
– Ужинать нам сегодня ни к чему, так что лучше сразу в постель.
Она колебалась. Свеча в руке у Зеева отбрасывала воронку света, что освещала восьмиугольные паутинки в углу, и Рохель представила себе, как пауки подслушивают, что происходит на брачном ложе, взбираясь по своим нитям, криволапые и горбатые, а утром скороговоркой сплетничают на своем писклявом паучьем наречии. У основания световой воронки находилась борода Зеева, а остальное его лицо плавало выше, словно пузырь. У него были пухлые щеки, точно у старого драного котяры, откуда торчали пучки шерсти, а его круглые глаза были цвета клевера. «Это мой муж», – вздохнула Рохель. В свои тридцать три года он уже казался ей стариком.
– Не бойся, жена.
По плинтусам зашуршала мышка. Городской крысолов, что расхаживал по улицам с шестом, увенчанным клеткой, откуда свисали привязанные за хвосты крысы, – вот кто всегда ее пугал.
– Рохель?
Итак, он назвал ее по имени. Рохель.
– Рохель, твой долг – повиноваться мужу.
Рохель знала об этом из небольшого наставления, которое выслушала на кухне жены раввина, пока шилось ее подвенечное платье. Тогда все лица были теплы от огня в очаге, внуки и внучки Перл суетились вокруг. Тогда этот долг казался чем‑то почти приятным и уютным. Но здесь и сейчас долг был слабым утешением. Он означал, что Рохель должна заставить свои ноги двигаться, должна подойти к кровати, снять с себя одежду. А потом ей надлежало послушно улечься в разверстую могилу постели, заключать своего супруга в брачные объятия.
– Рохель…
После того как умерла ее бабушка, день свадьбы полагалось отложить по меньшей мере на тридцать дней скорби. Кроме того, церемония не могла состояться в Шаббат или в какой‑либо праздник и, согласно закону, должен был пройти срок в пять нечистых дней Рохели, считая от первого пятна крови на тряпице, и еще семь дней, считая от момента исчезновения всяких следов кровотечения. В тот вечер, когда все следы крови исчезли, Рохель приняла ритуальное очистительное омовение в микве.[10] Под бдительным присмотром Перл – ребицин, жены раввина, – Рохель полностью погрузилась под воду – так, чтобы даже ее волосы не плавали на поверхности. Оказавшись под водой, Рохель не стала закрывать глаз, лежала совсем неподвижно, словно ненадолго превратилась в карпа, что спит подо льдом реки Влтавы. А затем, выскакивая на поверхность и жадно хватая воздух, вообразила, будто вокруг нее тает весенний лед. В тот миг Рохель чувствовала победное настроение, словно ее в чем‑то оправдали. В конце концов ей предстояло выйти замуж, стать матерью (если позволит Ха‑Шем[11]), затем бабушкой. Теперь же Рохель отчаянно недоумевала, как она переживет эту ночь.
– Не бойся, – нежно сказал Зеев.
«Лучше бы он молчал», – подумала Рохель. Тогда ей легче было бы начать ставить одну ногу впереди другой, двигаясь к кровати. А Зеев уже разувался, снимал брюки, кипу…[12] Свадебная рубаха свободно висела у него на бедрах. Под ней виднелись цицит по краям талита,[13] который он затем снял и аккуратно положил в тумбочку у кровати, где также стояла чаша с водой для омовения перед утренними молитвами.
– Я не чудовище – поверь мне, жена.
Рохель много чего знала про чудовищ – к примеру, про водяного, что жил в реках и озерах. Или про даму воющего ветра, что кричала о своем ребенке в дымовые трубы. И про огненного призрака, который мог превратить тебя в камень, гнилой фрукт, сухую траву перед жатвой, и про лесного дикаря, пронзительно лающего в чащобах, про мужчин с песьими головами, обращенными назад коленями, про единорогов, грифонов – наполовину львов, наполовину орлов, и про гиперборейцев – ужасных гигантов которые живут тысячу лет.
– Завтра рано вставать. Подойди, помолись со мной.
Но ноги Рохели словно приросли к полу.
– Подойди, жена.
Да простит ее Господь, но в этот момент Рохель подумала о том, что подбородок ее мужа движется совсем как у Освальда, мула старьевщика Карела, когда тот жует овес. Кустистые брови ее супруга взлетали при каждом слове. И возбужденное предвкушение новой жизни в груди у Рохели, которое так приятно грело ее все свадебное торжество, теперь тяжким грузом осело у нее в животе. Усталые ноги ныли. А в голове будто поселился рой непрерывно гудящих пчел.
– Здесь твой дом, жена. Снимай же плащ. – Зеев скользнул под потрепанное лоскутное одеяло. Рохель огляделась в поисках спасения, хотя прекрасно знала – ничто здесь не может ее спасти. Ни одна вещь в этой комнате не даст ей надежды. Ни связки сухих трав на очаге, собранные в пыльные, шуршащие букеты. Ни два набора почерневших горшков и глиняных мисок, что виднеются в открытом буфете. Ни грязные тряпицы, валяющиеся на длинном столе вместе с полосками кожи и набором сапожного инструмента. Ножи и шила для протыкания кожи, иглы длиной с хорошую ложку… Рохель принесла с собой полотняный мешочек, в который были аккуратно запакованы ее иголки, наперсток, подушечка для булавок в форме яблока и острые как бритва ножницы ее, что принадлежали ее бабушке. Может быть, эти нужные вещицы дадут ей утешение? Или ее юбка коричневой шерсти, которую можно одевать на каждый день? Или корсаж и рубашки, которые она оставила сложенными в своей сумке у двери вместе с еще одной юбкой, темно‑серой. По случаю свадьбы Рохели дали ткань для новой белой рубашки, которую она при помощи белой нити украсила рельефным узором виноградной лозы, а еще – неслыханная роскошь! – достаточно ткани для юбки и корсажа. Этот дар Рохель отнесла красильщику, чтобы тот, смешивая дорогостоящее индиго с квасцами, выкрасил ткань, после чего длинной палкой выудил ее из кипящей воды и – тяжелую, влажную – повесил на бельевую веревку. Получился темно‑синий цвет, в точности как зимнее небо сразу после заката.
Теперь же Рохель чувствовала себя ужасно глупо в этом свадебном наряде. Казалось, из нее вынули что‑то самое важное и оставили пустую оболочку. Как бы ей хотелось вернуться домой – в комнатушку, где она ухаживала за бабушкой, пока та не умерла. Пусть там был земляной пол и никаких украшений, Рохели она все равно казалась чистой и радостной.
– Хочу, чтобы ты знала, – проговорил Зеев, высовывая голову из‑под лоскутного одеяла. – Я не стану попрекать тебя твоим происхождением.
Рохель знала, что до этого дойдет.
– Я вижу, руки у тебя славные. Я их сразу приметил. Руки, привычные к работе.
Рохель понимала, что Зеев пытается быть с ней добрым, но свои руки она просто ненавидела. Толстые пальцы, утолщенные кончики, крупные ладони, ногти, которые она не стригла и не обжигала, а по‑тихому обкусывала, когда не видела бабушка. Костяшки же были позором, сущим позором, подлинными носителями несчастья. Не находись Рохель в храме, когда упало кольцо, она бы семь раз сплюнула против дурного глаза.
– Овес с горячей водой по утрам… и, по‑моему, нет лучшего блюда, чем чечевица с репчатым луком, да еще хала в Шаббат.
Бабушка научила Рохель месить тесто, когда она была еще совсем малышкой.
– В Шаббат у нас всегда будет мясо, это я тебе обещаю. Жареный цыпленок, ягнятина.
Рохель совсем не любила мясо, даже рыбу терпеть не могла. Есть то, у чего когда‑то было лицо, – это было ей не по душе.
– Видела кожу на столе? Башмаки для Розенберга, императорского бургграфа. Я продам их христианскому башмачнику, а тот перепродаст их бургграфу. Завтра разметка. Во вторник – выкраивание. В среду – стачивание. В четверг – завершение. В пятницу утром – доставка, закупки, приготовление пищи и уборка к Шаббату. Не хочу, чтобы ты чересчур утомлялась, жена, но как‑нибудь потихоньку мы с этим управимся… – Зеев поставил свечу у края кровати. – Ну, что ты стоишь как башня на Староместской площади?[14] Сегодня твоя первая брачная ночь.
Рохель передвинула вперед одну ногу, затем другую. Зеев ждал. Она подошла еще ближе.
– Давай, давай, – сложив ладонь чашечкой, Зеев поманил ее к себе.
Наконец Рохель добралась до края кровати.
– Теперь, жена, тебе придется снять все верхние и нижние юбки, – Зеев снова взял свечу с оловянной тарелочки и поднял ее повыше, желая понаблюдать за Рохелью.
Она тут же отступила в тень.
– Нет‑нет, – сказал Зеев. – Поближе.
Пододвинувшись к самому краю – а сердце у нее колотилось где‑то в горле, – Рохель медленно, дрожащими пальцами расстегнула пуговицу верхней юбки. Ее нижняя юбка была стянута шнурком. На корсаже имелось множество крошечных деревянных пуговок. Головной убор был завязан плотным узлом у нее на затылке. Сегодня вечером собственная одежда казалась Рохели пришитой к коже. Зубчатые гребни зарывались в ее волосы, точно когти злобного тигра. Каждый узелок приходилось распутывать, как хитрый секрет, а ее пальцы – такие ловкие, когда держали иголку с ниткой, – дрожали и все лезли не туда. Она стянула с себя туфли, старые и не самые лучшие, с корковыми подошвами, стянутые сверху грязными растрепанными ленточками. Чулки держались на ногах при помощи небольших ремешков, также обмотанных ленточками. Поочередно поднимая ноги и опираясь о кровать, Рохель развязала узелки.
– Теперь юбка, – хрипло вымолвил Зеев.
Рохель задрожала, но отважно стянула юбку через голову.
– Дай я на тебя посмотрю.
Рохель вышла на свет свечи.
– Силы небесные! – воскликнул ее супруг.
В восемнадцать лет Рохели уже грозила опасность стать старой девой. На нее, сиротку, никто никогда не заглядывался, если не считать одного мужчины, но он не был евреем и не мог на ней жениться. Длинные русые волосы, прежде спрятанные под шарфом, а теперь выпущенные на волю, обрамляли лицо Рохели подобно завиткам орнамента на рамке роскошного портрета. Глаза ее, обычно опущенные долу, вдруг оказались большими, глубокими, темно‑карими и слегка раскосыми – как у русских женщин с примесью татарской крови. О том же говорили и острые скулы Рохели. Губы ее были полнее, чем у большинства ее соплеменниц, а зубы крупнее, отчего ее рот под острым, правильной формы носиком, всегда был слегка приоткрыт. Шея – длинная, молочно‑белая. Маленькие груди венчались розовыми сосками. Сморщенные, как у ребенка, они лежали на крупных розовых кружках, похожих на поздние розы. Бедра ее были узкими, как у мальчика, тогда как ляжки по‑женски набухали.
– Да ты красавица! – казалось, Зеев был не на шутку удивлен. Рохель вздрогнула.
– Ты настоящая красавица. Просто жемчужина.
На узком лице Рохели вдруг промелькнуло что‑то звериное. Несмотря на всю ее кротость, Зеев немного испугался. Да, ее красота пугала.
– Не двигайся. Дай я на тебя нагляжусь.
– Муж мой?
– Да… ты красавица…
Зееву вдруг почудилось, будто острый камень ударил ему под левую лопатку.
– Просто не верится, как ты красива… – он зажмурился, затем снова открыл глаза. – Но волосы ты должна остричь. Совсем.
– Остричь, муж мой?
– Нельзя, чтобы ты ходила нестриженной. Твоя голова покрыта, но этого совершенно недостаточно.[15] Волосы необходимо остричь. Больше с ними ничего не поделать. Стричь, стричь и стричь.
– Муж мой?
– Мы купим тебе славный парик из конского волоса, хорошо?
Рохель удивленно приоткрыла рот.
– Понравится тебе чудесный черный парик? Крыша над головой, еда в желудке, прелестный парик из конского волоса. Иди, иди ко мне… – последние слова Зеев произнес мягко и нежно, словно отец, утешающий ребенка.
Набравшись смелости, Рохель откинула лоскутное одеяло и забралась в постель. Выходя из купели перед свадьбой, она чувствовала себя новорожденной. Ныне же, спускаясь в купель брачного ложа, Рохель знала: сейчас она подвергнется превращению, которое разбудит ее, прервав сон о детстве. Так и должно быть.
Муж задул свечу, торопливо пробормотал молитву и тут же всем телом навалился на Рохель. Она ощутила плотность его живота и складку жира над бедренными костями. Дыхание Зеева коснулось ее щеки – горячее, влажное, отдающее запахом свадебных блюд, уже скисших в желудке. Рохель прикусила губу, сжала кулаки и напомнила себе, что милостью Божьей она, жена, скоро станет матерью. Ей предстояло сделать из плохого хорошее, но тяжесть ее мужа была велика, и когда Зеев в нее вошел, Рохель почувствовала себя Ионой, а Зеева – Левиафаном.[16]
А затем, буквально мгновение спустя, все было кончено. Зеев соскользнул с нее, повторил «Шема Израэль»[17] и мгновенно заснул.
Рохель лежала неподвижно и чувствовала, как из ее лона сочится кровь. Ноги ее были раскинуты, руки оцепенело вытянуты по бокам. Она втягивала холодный воздух, а потом неспешно выдувала его обратно. «Я замужняя женщина», – шептала она потерянному во тьме потолку. И слушала, как городской глашатай кричит с Карлова моста.[18]
– Восемь, и все спокойно!
«Восемь, и все спокойно», – повторила про себя Рохель.
– Девять, и все спокойно!
Вскоре после этого Рохели показалось, будто конские копыта цокают у ворот Юденштадта и голоса доносятся с кладбища, от дома раввина, от дома главы Похоронного общества, от дома школьного учителя, соседнего с домом Зеева. Двери открывались и хлопали. Зеев продолжал спать. Затем конские копыта снова прогрохотали по булыжной мостовой, и ночная тишь окутала Юденштадт.
2
Тридцать первое декабря года одна тысяча шестисотого стало самым несчастливым днем во всей его жизни, полной несчастий.
Сорока восьми лет от роду, с помутившимся рассудком, отвратительным характером, нравом капризного ребенка, без компании, которая могла бы согреть его высохшее сердце, император вкушал свой легкий завтрак: дикого кабана, приготовленного в пиве и вине, блюдо жареного рубца, пирог из ржанок, а также особый напиток, доставленный из Испании, – горячий шоколад. Тяжко вздыхая, он подписал какие‑то документы, представленные ему лордом‑канцлером, после чего распорядился, чтобы Тайный и Военный советы до завтра обошлись без него. Император пояснил, что пребывает в дурном расположении духа. Рудольфу Габсбургу II, императору Священной Римской империи, как и Богу, требовался отдых. Способны ли они это понять? Конечно. Император расцеловал в обе щеки Виллема Розенберга, своего верховного бургграфа. Затем отпустил всех, кто служил ему лично: четырех юных пажей, доставленных из замка Габсбургов в Вене, и десятерых словенских стражников, что всю ночь стояли, вытянувшись во фрунт, у дверей его опочивальни. Наконец, ласково попрощался с Тихо Браге, своим придворным астрономом и астрологом.
– Всего хорошего, ваше величество, – с легкой тревогой отозвался Браге. Слишком занятый своим новым ассистентом, немцем по имени Йоханнес Кеплер, тощим и сутулым, но безусловно одаренным блестящим умом, здоровяк‑датчанин не удосужился составить гороскоп Рудольфа на тридцать первое декабря года одна тысяча шестисотого. Определенно что‑то неладно, раз император его не потребовал.
– Немного устал, Тихо, – только и всего.
Вацлав, камердинер Рудольфа – его неизменный спутник и советник и, как считалось, единственный друг, – послушно поплелся за главой Священной Римской Империи, готовый занять свое место у изножья императорской постели.
– Может император хоть раз в жизни побыть в одиночестве? – поинтересовался Рудольф.
– Прошу прощения, ваше величество.
– Прощаю тебе все твои многообразные грехи. А теперь оставь меня одного, Вацлав. Исчезни.
В итоге в опочивальню Рудольфа сопровождал лишь его любимый лев по кличке Петака. Император собственноручно закрыл массивные двойные двери.
Наконец‑то.
Императорская опочивальня была просторной, и кровать на постаменте казалась галерой, затерянной в океане. Только вместо тугих белых парусов ее драпировали мягкие шелка, словно окрашенные тысячами улиточных раковин, раздавленных в мягкую лиловую кашицу. Там же стоял шкаф, а в нем книги – Рабле, Эразм Роттердамский, Кастильоне, «Странствия Марко Поло».
Теперь эти книги уже не приносили императору отдохновения. Рядом – письменные принадлежности: перо, недавно приготовленные чернила, тарелочка с песком. Еще в спальне был небольшой алтарь и скамеечка для коленопреклонения. Нет, сейчас императору не угодно помолиться.
Ящик, украшенный двуглавым орлом, гербом Габсбургов – из клювов высовываются длинные языки, одна голова смотрит на запад, другая на восток, когтистая лапа сжимает копье. Этот ящик увенчан сиденьем, обитым толстым бархатом с золотыми пуговками, содержит в себе императорский ночной горшок. Нет, сегодня императору не угодно оставлять свидетельства, которые потом станут тщательно измерять и исследовать в медицинской лаборатории.
На пяти столах были расставлены часы. Всего лишь двадцать экземпляров его знаменитой коллекции. Судя по всему, сейчас около восьми – одни часы чуть отставали, другие слегка спешили. Через пять минут со стороны Карлова моста донесся крик глашатая:
– Восемь часов, и все спокойно!
Зазвонили колокола церкви капуцинов. И тут же один за другим откликнулись колокола по всей Праге. Каждая колокольня без умолку трезвонила по несколько минут. Заслышав звон, охотничьи собаки в императорских псарнях дружно завыли. Потом отозвались львы в клетках – от их рыка кровь стыла в жилах. Обитатели императорского птичника защебетали и захлопали крыльями, в императорских конюшнях громко заржали кони, а ослы ревели, словно их вели на бойню.
– Йезус Мария, – злобно прошипел император. – Неужели человеку даже умереть нельзя спокойно?
О да, полная бед жизнь императора приближалась к концу, а мир был намерен раздражать его буквально до последней секунды. Хотя бы один момент, исполненный достоинства, хотя бы краткая пауза – вот и все, о чем он просил. Император прошелся по опочивальне, устроился в одном из неудобных деревянных кресел у камина и попытался собраться с духом. Лев тоже занял свой пост у камина.
– Ах, Петака, Петака…
Зверь, еще не старый, но хорошо выдрессированный, лишенный когтей и клыков, скорее служил ковриком, нежели поддержкой и опорой.
– Горе мне, горе…
Императора снова и снова охватывала эта тоска. Он мог вкушать нежнейшие пирожные, изучать бесценные предметы своей коллекции, принимать нунция от папского совета или даже предаваться любовным утехам со своей фавориткой Анной Марией Страдой, когда на него, точно крышка гроба, опускался удушливый ужас. Это серое облако запросто способно было заглушить прекрасную музыку Монтеверди и замутнить блеск золота. Порой императору казалось, будто это некое проклятие или колдовской наговор. И наговор этот, учитывая природу мира, мог исходить отовсюду. К примеру, от бродячих ведьм. Об обезумевших протестантов. От переодетых турков.
В тот день, полежав утром в постели, Рудольф отправился в свои сады, ища хоть какого‑то отдохновения. Однако сознание того, что плотная, твердая земля последовательно отдается волнам бледных подснежников, затем крошечных фиалок и анютиных глазок с кошачьими мордами, затем нарциссам и гиацинтам из Голландии, а затем бесценным тюльпанам с бархатистыми кромками, контрабандой вывезенным из Турции во времена его отца, вовсе императора не порадовало.
Теперь был уже вечер. Ворота замка закрылись, и лишь громкие голоса новогодних гуляк доносились из главной бальной залы. Рудольф же укрылся в опочивальне, которую избрал для своего последнего деяния. Дорогие гобелены со сценами из Святого Писания, что висели на стене, – голова Иоанна Крестителя на блюде, святой Лаврентий, живьем сжигаемый на решетке, и святая Агата, которой отрезают груди, – казались подходящими декорациями для подобного акта, словно были вывешены здесь с особым умыслом. «Неудивительно, что мне хочется умереть», – подытожил Рудольф. Единственное окно опочивальни было огромным, в то время как окна других помещений замка напоминали бойницы, и в него было вставлено превосходное венецианское стекло. Бросив взгляд сквозь решетку на этом окне, император встретился с глазами‑бусинками монаха, который, судя по всему, читал вечернюю молитву.
– Будь ты проклят… пиявка, гнусный соглядатай… – Рудольф вытолкнул свою дородную фигуру из кресла, проковылял к окну и плотно задернул портьеры. Собор святого Вита располагался как раз с этой стороны от замка. Он стоял на более возвышенном месте, ближе к Богу; ясное дело, добрые братья‑монахи могли в любое время дня и ночи, ничуть не стесняясь, глазеть на императора с разных точек точно с наблюдательных постов. Порой Рудольфу казалось, что они и впрямь облепили стены замка, точно лишайник, что они влажными слизняками вползают в каждый разговор, в каждое событие.
Император подошел к кровати и сам разделся. Ничего подобного он не мог припомнить за все сорок восемь лет своей жизни.
– Видишь, до чего я дошел, Петака? – со вздохом спросил Рудольф у льва.
Затем император снял с дубового сундука наряд, специально выбранный им для такого случая: ночную рубашку кремового шелка, короткие штаны зеленой шерсти, свежий хрустящий гофрированный воротник, который заодно вместе с императорской бородой помогал скрывать его слишком выступающий вперед подбородок. И, наконец, горностаевую мантию, ибо Рудольф был из тех, кому всегда холодно – и днем, и ночью, и летом, и зимой. Отставив чуть в сторону свою новую корону, так чтобы последней усладой для его глаз стали восемь ее бриллиантов, символизирующие Христа, а также десять рубинов, жемчуга и один величественный сапфир, император забрался в постель. Он вспомнил: один из его родственников, Карл V, до такой степени напрактиковался в погребальной службе, что в присутствии всего двора, жены и детей сам натянул на себя похоронные одежды и улегся в собственный гроб. Рудольф сейчас испытывал схожие чувства – возможно, даже еще более острые, ибо он по собственной воле опережал судьбой назначенный час. Да‑да, у него уже была наготове бритва, тайком взятая у одного из дворцовых лекарей‑цирюльников. В последнее время, разглядывая бритву, Рудольф даже испытывал утешение, ибо острое лезвие напоминало ему о том, что Сократ выпил цикуту, Брут бросился на собственный меч… и так далее. В самом деле, в конечном итоге все становится прахом и пеплом – разве не так?