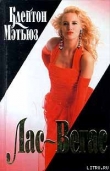Текст книги "Книга сияния"
Автор книги: Френсис Шервуд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
– Я сам отчасти виноват, – сказал Зеев.
– Не может этого быть.
– Ты молода.
– Большинство женщин в тринадцать уже сосватаны, а в четырнадцать уже выходят замуж. Восемнадцать лет – не такая уж молодость.
– А я… я стар, упрям, назойлив, слеп к потребностям женщины. Я просто не дал тебе ничего, на что можно надеяться. И я далеко не красавец.
– Ох, Зеев. Что прекрасно, что некрасиво – какое это имеет значение? Ты хороший человек, добрый супруг… нет, больше чем добрый супруг. Ты святой.
– Я слишком много болтаю. Я обжора. Порой я слишком быстро ем, тороплюсь с молитвами. Я не уделял внимания каждой твоей потребности, не обращался с тобой так, как, согласно нашей вере, следует обращаться с женой.
– Зеев, пожалуйста.
– Признаю, я был потрясен твоей молодостью и красотой, жаждал тебя, хранил для себя. В ту первую ночь, нашу брачную ночь, я глазел на тебя как помешанный. У меня были такие грязные мысли.
– Но я твоя жена.
– Тем больше причин чтить тебя и уважать.
Зеев потянулся к ее ладони. И Рохель ее не отдернула.
– Пожалуйста, не вини себя. Вини меня. Мне так жаль, Зеев. Если бы ты знал, как мне жаль!
– И мне тоже.
– Сердце разбивается, Зеев.
– У меня тоже, Рохель.
Они прижались друг к другу, щека к щеке, лицо к лицу, так что уже было не разобрать, чьи слезы на чьем лице.
– Что со мной будет? – прошептала Рохель. – Меня убьют?
– Нет, Рохель.
– Откуда ты знаешь?
– Я им этого не позволю.
34
– Отдавайте эту грешницу, отдавайте прелюбодейку!
Люди в панике покидали свои дома и вставали лагерем на Староместской площади под астрономическими часами, дожидаясь, пока стража наконец откроет ворота. Война неизбежна, считали они, и близится конец Праги… а то и конец света.
– Отдавайте големову девку!
Женщины кричали хором и мерно били деревянными ложками по крышкам кастрюль.
– Еврейка согрешила!
Впереди толпы стоял Тадеуш. Он искренне считал, что слова «еврей» и «сатана» были синонимами, а если существовало что‑то хуже еврея, то это еврейка. Ибо смерть Христа определенно произошла из‑за падения Адама, которого искусила мерзкая женщина, сосуд греха, Ева.
– Жидовская шлюха! – подхватила толпа.
– Отдавайте ее!
Это был голос женщины или юноши. Но хуже, что он раздался внутри стен Юденштадта.
– Кто мог такое сказать? – рабби Ливо был в ужасе. Он вышел из дома, чтобы узнать, нет ли опасности стычек у стены… и увидел множество своих соплеменников, которые тоже покинули свои дома и собрались на единственной улице Юденштадта.
– Мы все должны погибнуть из‑за этой женщины, которую даже нельзя считать еврейкой? – спросила Лия, его старшая дочь. Громко, чтобы слышали все.
– Тихо, – гневно зашипел на нее раввин. – Она женщина и еврейка.
– В достаточной ли мере еврейка, чтобы мы из‑за нее гибли? – не отступала Лия.
– Свою ли дочь я слышу?
– А не она ли теперь больше ваша дочь, нежели я? Не ставите ли вы ее выше нас всех?
– Мне страшно, папа! – воскликнула Зельда.
– Не бойся, – рабби Ливо обнял свою младшую дочь и повернулся к старшей. – Идем домой, Лия, нам надо поговорить.
– Ее муж ее прячет, – раздался еще один голос внутри стен Юденштадта – опять‑таки слишком громкий.
– Он принял ее назад? Как такое возможно? – воскликнула Мириам.
– Мириам, Лия, Зельда, немедленно домой! – Раввин был в ярости.
– Он принял ее назад, он принял ее назад!
Новость распространялась как пожар.
– Зеев, ты слышишь? – Рохель слезла с постели и снова забралась в узкую норку между кроватью и стеной.
– Ничего, все это перегорит, пустая болтовня. Скоро наступит ночь, Рохель, просто держись потише.
Они старались не шуметь – Рохель сидела в своем уголке, а Зеев нависал над ней, сидя на кровати, пока шамисы не застучали в дверь, оповещая о начале Шаббата. Затем солнце село, опустилась темнота, а шум стих. Ибо, что бы ни творилось в Юденштадте, сейчас начинался Шаббат. Женщины расстилали на столах чистые скатерти и выкладывали туда миски с репчатым луком и морковью, пастернаком, расставляли тарелки с гефилтой, мякотью костлявой рыбы, перемолотой вместе с мацой. До этого были поджарены цыплята, начинены мясом креплех, медовые пирожки и хала принесены из пекарни. Теперь зажигались свечи, и семьи собирались за столами.
– Шаббат, – сказал Зеев. И они – Рохель на полу, Зеев на кровати – возблагодарили Бога за то, что Он позволил им дожить до этого мгновения. У Зеева было немного ореховой мякоти, и он разделил ее с женой, а затем они выпили из одной чашки сладкого вина Шаббата.
Несколько часов спустя с моста донесся крик городского глашатая:
– Десять часов, и все спокойно!
И тут же в дверь комнаты трижды негромко постучали.
– Это рабби Ливо, – раздался голос.
Зеев подбежал к двери, приоткрыл ее и выглянул наружу.
– Подготовь Рохель, – прошептал раввин. – Карел едет к задним воротам. Вот для нее одежда….
Он сунул Зееву сверток.
– Пусть не берет с собой ничего, указывающего на то, что она женщина или еврейка. Ей придется выехать вместе с Карелом за городские ворота до свалки и кладбища, затем она присоединится к купеческому каравану до Франкфурта, а оттуда добраться до Амстердама.
Амстердам. Рохель вспомнила голубой кафель императорской печи, картинки с деревянными башмаками, кораблями и мельницами. Интересно, была ли голландская страна такой же голубой? Голубой, как венецианский стеклянный флакончик, который Рохель однажды довелось увидеть? Она представила солнце на своей коже. Бледное зимнее солнце, что сочится сквозь мороз; летнее солнце – яркое, как золотая вышивка мусульманской работы на коронационной мантии императора. Настроение у Рохели поднялось. Тревоги и сомнения, что скопились, подобно твердому комку, в нижней части ее живота, рассеялись – так разлетаются, шипя и искрясь, набегающие на берег волны. Как ей хотелось жить! У нее еще есть руки. Она может работать. Черный лес расступился перед ее мысленным взором, подобно Красному морю. Если верить сказкам бабушки, она выйдет на полянку, на полянке будет дом, а внутри, фея нежные крылья у очага, ее ждет ангел милосердия.
– Рохель, – поторопил ее рабби Ливо. – Скорее.
Она металась по комнатушке, бросая вещи в самую середину большого отреза коричневой ткани, расстеленного на столе. Несколько луковиц, кочан капусты, каравай несвежего хлеба, надежно закупоренный кувшин с водой. Затем она быстро развернула сверток, принесенный раввином, нашла там шляпу, короткие штаны, чулки и сапожки, полоску шерсти, чтобы сделать грудь плоской, простую крестьянскую рубаху и длинный плащ. Дрожащими руками Рохель сбросила верхнюю юбку и корсаж, подаренные ей женой мастера Гальяно, выступила из нижней юбки, развязала головной платок. Затем посмотрела в зеркало. В мальчишеской одежде, с короткими русыми волосами и хрупким телом, в длинном плаще, скрывающем бедра, она вполне сойдет за чешского парнишку. Отвернувшись от зеркала, Рохель в последний раз оглядела свой дом. Со стены все еще свисали длинные полоски кожи и гирлянда деревянных заготовок для башмаков, а на длинном столе были разложены выкройки плащей и платьев. Неужели она сумеет закрыть дверь и оставить это? Неужели сможет отказаться от крыши над головой и еды в желудке?
Хоть сейчас. И не обернется, как жена Лота.
– Муж мой, – сказала она, проходя мимо Зеева. – Как удачно, что я уезжаю. Ибо теперь ты сможешь со мной развестись, и разводу не будет никаких помех.
– Я еду с тобой, – сказал Зеев.
– Нет, ты не можешь. Я – твой позор.
– Я еду.
– Это опасно.
– Скорее, жена.
Снова раздался стук в дверь.
– Рохель? – это была Перл. – Карел ждет.
Зеев снял плащ с желтым кружком, талит катан с кисточками цицит и двумя синими полосками, вышитыми его матерью, затем свою кипу. Он поцеловал свои тфилин,[49] которую он использовал для молитвы по будням, после чего вместе со своим молитвенным платком положил ее в шкаф. Одолжив у Рохели ножницы, Зеев двумя быстрыми движениями срезал свои пейсы, затем аккуратно подстриг бороду. И сразу же стал казаться униженным и растерянным, не похожим на самого себя.
– Ох, Зеев, – только и вымолвила Рохель.
– Я еду, – сдернув с постели покрывало и набросив его на себя вместо плаща, Зеев бросил в кожаную сумку свои сапожные инструменты.
Следуя за рабби и его женой, пробирались они через кладбище, где были похоронены бабушка Рохели Двойра бат‑Аврам – Дебора, дочь Авраама; первая жена Зеева Этта бат‑Давид – Эсфирь, дочь Давида. Яаковы, Моше, скромные Минны. Многие поколения пражских евреев лежали там вместе, одно поверх другого. Прижимаясь к стенам домов, держась в тени, все четверо пробирались по переулку к задним воротам. Миновали купальню, где Вацлав мальчишкой оставлял Рохели подарки, где позже был найден мертвый младенец и где еще позже Киракос и Йосель подглядывали за Рохелью. Под старым дубом, где играли дети, а старики вспоминали о днях минувших, копая землю копытом, их ждал терпеливый Освальд.
– Вспоминай нас здесь, в Праге. – Указательным пальцем Перл приподняла Рохели подбородок. Сейчас она была просто пожилая женщина – не мать‑наседка, гордая своим гнездом и потомством, не величавая ребицин, мудрая советчица и утешительница. Перл очень устала.
Рохель забралась в телегу. Зеев последовал за ней.
– Мне говорили только про Рохель, – сказал Карел.
– Я тоже еду, – настойчиво сказал Зеев.
– Послушай, Зеев, – начала Перл, – ты уверен, что это мудро?
– Я намерен уехать вместе с женой.
Разбросав куски грязных тканей и кипу старой одежды, Рохель увидела двух мужчин.
– Здравствуй, – сказал Киракос.
Сергей промолчал. Зеев и Рохель поспешили зарыться в тряпье.
– Похоже, у меня тут уже целая почтовая служба, – буркнул Карел, обращаясь Освальду. – Давай полегоньку, старина.
И они отправились в путь. Освальд старался вовсю, но катил тяжелую телегу через Староместскую площадь к городским воротам. Несмотря на поздний час, Селетная улица была перегорожена палатками. Здесь было людно, в палатках лежала кухонная утварь – кастрюли, сковородки. Рядом топтались козы. Где‑то шли кукольные представления, музыканты наигрывали на своих инструментах, разучивая новые пьесы. Ребятишки с визгом носились меж небольших трескучих костерков, на них булькала каша и какое‑то варево с омерзительным рыбным запахом. Несмотря на легкомысленное настроение, которое здесь царило, разговоры шли о том, что к Праге вот‑вот подступят турки – бритоголовые воины, неверные, живьем пожирающие младенцев. А за ними, конечно, последуют чужеземные протестанты, которые объединятся с чешскими единоверцами, после чего примутся осквернять церкви и крушить кресты. Другие слышали, что в каждом городском квартале есть тайные гуситы, которые вот уже сто лет хранят память своего сожженного вождя и призывают к оружию всех, кто ему еще верен. Анабаптисты всех мастей множатся как грибы после дождя. Есть секта в одном немецком городке, ее последователи ходят нагишом и считают, что надо делиться всем, в том числе и женами. За это их нещадно преследуют и отправляют на костры, но туда им и дорога… Чешские протестанты, однако, тоже стремились покинуть город, ибо слышали о том, что католики намерены устроить большой костер и сжечь на нем всех еретиков, а потому встали отдельным лагерем по другую сторону Староместской площади. Все были истинно верующими, считали остальных еретиками, но ограничивались гневными взглядами.
– Нам придется подождать, пока толпа разбредется, – сказал Карел, словно обращаясь к Освальду. – А ждать нам лучше всего на том берегу реки.
И старьевщик направил своего терпеливого мула к Мостецкой улице, где множество укромных уголков, узких щелок и каменных особняков, окруженных роскошными садами, обещали тихое убежище на ночь. Мир и покой, которые навевал дверной проход Таможенного дома перед башней Юдифи, где стояли статуи короля и коленопреклоненного человека, вступали в резкое противоречие с жутким хаосом в городе. У Дома Трех Золотых Колоколов Карел завел Освальда в мирный внутренний двор, полный спящих голубей, засунувших головы под крылья.
– Отдохни, старина, – сказал он Освальду так громко, чтобы четверо пассажиров телеги тоже смогли его услышать.
Рохель, которую все это время восхищала перспектива бегства из города, теперь пребывала в подавленном состоянии. То, что поначалу представлялось совсем легким, теперь сулило новые опасности. Как они пробьются сквозь плотную толпу на Селетной улице? Толпу это Рохель, понятное дело, не видела, но шума и гама вполне хватило, чтобы ее напугать. Не станут ли стражники у городских ворот осматривать телегу Карела, прежде чем ее пропустить? Не будет ли солдат у свалки и Чумного кладбища? Не станут ли горожане искать ее в Юденштадте и не заплатят ли его обитатели своей жизнью за ее бегство? Боже, снова подумала Рохель, какое право она имеет искать себе выгоды, заставлять людей страдать за ее преступления? Если тайный груз Карела будет обнаружен, разве не заплатят они непомерной ценой за ее неблагоразумие?
Однако Киракос и Сергей лишь покрепче прижались друг к другу и, похоже, не обращали внимания на угрозу. Зеев дремал, а городской глашатай на башне, как всегда, объявлял очередной час.
– Двенадцать часов, и все спокойно!
Карел дремал на своем стульчике, когда сквозь сон до него донесся громкий окрик:
– А ты что здесь делаешь?
– В «Золотом воле» сегодня ночью слишком шумно. А на улицах толпа, и я не могу добраться до амбара…
– Давай, Карел, дуй отсюда. Мы охраняем эти дома, и ночью рядом с ними никого быть не должно.
Рохель почувствовала, как телега кренится. Вот она немного проехала вперед, а затем резко остановилась.
– Сегодня вечером нам дальше не проехать, – сообщил Карел, обращаясь к своему бедному мулу.
Рохель выглянула из своего укрытия. Впереди высилась прочная стена, увенчанная черепицей.
– Но мы не можем здесь оставаться! – воскликнул Киракос, сбрасывая грязное тряпье, под которым они скрывались. – Мы слишком близко к замку.
– Во дворце никогда не подумают, что мы здесь, – заверил его Карел. – Там, впереди, есть тайное место.
Ехать оказалось и в самом деле недалеко. Тележка остановилась, Сергей снял Карела с его насеста и понес вдоль стены, окружающей императорские сады. Остальные последовали за ними, и вскоре впереди показалась небольшая зеленая дверца. Легкий толчок – и дверца открылась, пропуская их в императорский розарий.
– О господи, – ахнула Рохель. В воздухе висел головокружительно сладкий аромат. Цветки казались черными в темноте и напоминали курчавые детские головки. Тоска по собственному ребенку, которому уже никогда не суждено было увидеть и познать это великолепие, заставила ее сердце сжаться.
– Тс‑с, – прошипел Карел.
По дороге, ведущей к замку, застучали копыта. Подняв головы, беглецы увидели отряд стражников, которые скакали строем. Очевидно, они охраняли телегу, запряженную парой вороных, на которой стояла огромная клетка.
– Какое‑то животное для императорского зверинца, – быстро и негромко пояснил Карел. – Быстрее, тут уже недалеко осталось.
Тропинка, которая петляла меж розовых клумб, привела к шалашу. Он напоминал груду хвороста, но внезапно из этой груды послышался голос:
– Кто тут шляется по ночам, желая разделить со мной мои скорби и бедствия?
Это был старый помощник садовника, который помог Келли найти бабочек и обмануть императора.
– Здравствуй, сосуд скорбей. Это старьевщик Карел, а со мной кое‑какие добрые люди.
Ответом ему был дружный собачий лай.
– Тихо! Гус, Жижка, Гавел! – старый знаток бабочек высунул голову из‑под полога. – Когда у меня последний раз был гость, он пообещал мне башмаки, плащ, эликсир – и все высшей пробы.
– Мы тоже в долгу не останемся, – в голосе Карела появились нотки мольбы. – Нам бы только ночку переночевать, и все.
– Так это всегда начинается. «Ночку переночевать», значить, а посулы один другого слаще… Ладно, Христос с вами.
В шалаше было тесно и пахло плесенью. При свете единственной свечи Рохель разглядела трех собак, одну из них трехногую, здоровенную полосатую кошку с лысинами на шкуре, свернувшуюся в клубок, и птицу с забинтованным крылом. Старик кое‑чему научился у бабочек: он спал в настоящем коконе из лоскутных одеял. Птица, подобно королю на холме, восседала на его заднице. Остальные обитатели сгрудились тлеющего костерка в самом центре шалаша. Прежде Рохель оказывалась в подобной близости только к своей бабушке, к своему мужу Зееву и – дважды в жизни – к Йоселю. Теперь у нее под боком предстояло устроиться целому зверинцу.
Перл прибиралась после завтрака, и мысли ее были радостными. Сейчас Рохель, должно быть, далеко за городскими воротами. Ребицин считала: одна из причин всех бед – неспособность жителей Юденштадта простить Рохели ее несхожесть с остальными. Для них Рохель не просто чужестранка, ибо в Праге живут евреи из Испании и других стран. Нет, дело в том, что она христианской крови, которая будет враждовать с кровью еврейской. Неудивительно, что девочка выросла замкнутой и сама считала, что с ней что‑то не так. А эти раскосые глаза, высокие скулы и полные губы – на них нельзя не обратить внимание! Они служат постоянным напоминанием. Можно понять, как у нее получилось с Йоселем. Один‑единственный взгляд. Язык глаз. У самой Перл с Йегудой все было совсем иначе. Их просватали, когда они были еще детьми, и они привыкли чувствовать себя супругами. Надо же, к чему может привести страсть! И все же на сердце у Перл – даже теперь, когда Рохель была в безопасности, далеко за городскими стенами – лежала тревога. Дело было в Йоселе. Она скучала по нему, словно голем был ее родным сыном. По правде сказать, не проходило и минуты, чтобы Перл не подумала о его благополучии. Как женщина благоразумная, ребицин не считала нужным тратить время, сожалея о том, что не может исправить, – и все же испытывала глубочайшее сожаление. Она так и не сумела одарить Йоселя настоящей материнской любовью, пока он здесь был. Впрочем, рассуждала Перл… Если не довелось испытать подлинной страсти – откуда ей знать, как эту самую любовь проявить?
Пробудившись в хижине и спихнув одну из собак, которая пристроилась прямо у него на лице, Карел сразу понял, что теперь придется дождаться полудня и лишь потом ехать к городским воротам. Причина была веской: если попытаться подъехать к свалке утром, придется отчитаться за самую что ни на есть бросовую партию старья, а следовательно, его телегу могли бы обыскать. Поэтому, переехав Карлов мост, Карел со своими пассажирами направился в небольшой проулочек за костелом Девы Марии перед Тыном в стороне от людной Староместской площади. В указанном месте Сергей соскочил с телеги и потянул за дверной молоток в форме женской руки, сжимающей земной шар.
– Кто там? – донесся изнутри слабый голос.
– Злата Прага, – крикнул Карел, не слезая с телеги.
Из приоткрытой двери высунулся тот самый молодой человек, который снабдил Келли опиумом – ядом для императора.
– Можем мы ненадолго здесь остаться? – спросил Карел. – Моим друзьям нужно где‑то спрятаться.
– Ты думаешь, мне самому прятаться не нужно? – отозвался студент.
– Бога ради, Грегор.
Студент вздохнул и открыл дверь пошире. Сергей с Карелом на руках, Киракос, Рохель и Зеев были допущены в комнату без окон. Рохель огляделась. Кровать, стол, стул, лампада и великое множество книг.
– Очень вам благодарны, – сказала она студенту.
– Я пойду в костел Девы Марии перед Тыном помолиться, – к всеобщему удивлению, заявил Карел. И добавил: – Если Сергей меня отнесет.
– Все думают, что Сергей по‑прежнему в замке, – заметил Киракос. – Чего ради тебе вдруг вздумалось молиться? Скоро мы уже будем за воротами.
– Просто на всякий случай.
Карел старался говорить небрежно. На самом же деле он весь трепетал. Больно ему не нравились разгневанные горожане, что встали лагерем на Староместской площади, и слишком напоминали готовых к битве солдат. Решительно они ему не нравились. В толпе буйство и злоба становятся стократ сильнее, а у большинства из этих людишек столько дури в голове, что ее немудрено и потерять, если не следить внимательно.
Стоило еще разок взглянуть, что там творится. А если заодно еще и помолиться…
– Люди из замка со мной часто ездят. Если Сергей будет со мной, это никого не удивит.
Как только Сергей вынес Карела за дверь, Рохель снова оглядела комнату.
– Вы умеете читать? – спросила она у студентки. Две женщины, несмотря на коротко остриженные волосы, обмотанные тканью груди, шляпы и короткие штаны, мгновенно распознали друг друга. Что же за город такой эта Прага? Женщины здесь должны прикидываться мужчинами, евреи христианами, а христиане то и дело норовят перерезать друг другу глотку. Сколько еще людей так или иначе ведут здесь двойную жизнь, играют роль, и лишь вернувшись домой, снимают маску и вылезают из маскарадного костюма?
– Умею, – ответила Грегория.
Рохель подняла с пола одну из книг.
– Можно? – она открыла книгу и положила ладонь на страницу, словно ее сильное желание и смысл текста могли таким образом соприкоснуться. Рохель действительно касалась слов пальцами, ибо бумага была из переработанного тряпья, не пергаментная, и текст на ней не стирался от прикосновения потных рук.
– О чем здесь говорится?
Грегория взяла книгу.
– Это британская история о группе пилигримов, отправившихся к священному месту.
– Они святые?
– Нет. Они обычные люди со всеми человеческими слабостями. Этим они и интересны.
– Обычные люди? Как мы? Как я? – Рохели даже не верилось. – Не принцы и принцессы, не прародители и не пророки?
Студентка улыбнулась.
– Но тогда они очень хорошие люди – вроде Золушки, которая выметает золу из очага?
Рохель никак не могла понять, как можно придумать целую длинную историю про самых обычных людей.
– Я бы так не сказала. Среди них есть очень дурные. А что касается истории Золушки, то она выходит замуж за принца благодаря исключительной добродетели. Большинство людей не таковы.
Рохель заметила, что буквы на странице не расходятся во все стороны. В этих немецких строчках была точность стежков, марширующих по странице. Бросив всего один взгляд на текст, Рохель смогла различить повторения. Бумага была тонкая, обложка полотняная – и все же книга вызывала ощущение твердости, плотности и основательности, но не причудливой хрупкости. Конечно, Рохель уже видела ивритские буквы. У Зеева был сидур, молитвенник, Тора, Моисеево Пятикнижие, а также книги пророков. Еще она видела Талмуд, толкование Торы, когда пряталась на чердаке Староновой синагоги. Но все те книги, тот язык, казались Рохели недоступными, слишком священными, просто не для нее.
– Я хочу когда‑нибудь научиться читать, – сказала она.
Карел не был горячо верующим человеком, но, пристроившись рядом с ним, Сергей неожиданно для себя обнаружил, что оба они истово молятся холодной алебастровой статуе Девы Марии и изящно окрашенным витражам с Христом в окнах. В его родной деревушке, где церковь была простой хатой, отмеченной деревянным крестом, прикрученным веревкой к дымовой трубе, Карел думал о Христе как о человеке из народа, который любил поболтать, славно поесть, человеке, который мог злиться, испытывать сомнения. А что касалось Марии – какая мать не страдала бы за своего сына? Теперь он молился о том, чтобы они смогли выбраться за городские ворота. Еще Карел молился за сына Вацлава, Кеплера и его семью, а также за благополучие Юденштадта. Он молился за Келли и Ди. И наконец, Карел молился за Освальда, чтобы у него всегда находилось в достатке овса и теплое местечко, чтобы поспать.
На обратном пути, покачиваясь на руках у Сергея, Карел взглянул на астрономические часы – он всегда их любил. Самая верхняя часть башни служила домом для резных фигурок апостолов, которые появлялись после своего часового отсутствия, их тянула за веревку сама Смерть. Ниже располагались сами часы с арабскими цифрами, каждая в черной оправе с золочеными краешками. На внутренней окружности стояли римские цифры, а в самом центре – кружок с собственно астрономическими часами. Они показывали передвижение Солнца и Луны через двенадцать знаков Зодиака. Нижняя треть часов представляла собой календарь смены времен года, украшенный золотой фольгой с изображением жатвы и посевной. Там также имелись фигурки – костлявой Смерти с песочными часами, турка в тюрбане, который олицетворял Похоть… Карел вспомнил, что Алчность представлена гротескной фигуркой еврея. Нет, захотелось ему сказать, они не такие.
Прошло несколько минут после возвращения Сергея и Карела в комнату Грегора на Староместской площади, когда стало на удивление тихо. Это почувствовали все, кто собрался в маленькой комнатушке мнимого студента. Будь там хотя бы одно окно, они разглядели бы в темном небе тяжелую массу черных облаков, стремительно, точно в гневе, несущихся к городу. Затем в воздухе разлилось странное напряжение… пока лишь намек, легкое беспокойство. Листва нервно зашуршала, животные насторожились. Где‑то зашелся в плаче младенец. Но скоро деревья близ Староместской площади замахали ветками, словно в отчаянии, высокая трава на полях вокруг города полегла, словно по ней прошлись гигантской метлой. И наконец, с треском раскололись небеса. Сверкнула молния, загремел гром и хлынул проливной дождь. Люди, собравшиеся на Староместской площади, подхватили свои пожитки и побежали искать прибежища в дверных арках и трактирах, церквях и свободных комнатах.
А наверху, в замке, император, едва ли сознавая, что на улице ярится ветер и хлещет дождь, ковырял вилкой еду – карпа, нафаршированного репчатым луком. Тут же лежал лосось по‑польски, пряный заварной крем с финиками и изюмом с Востока, миндальный крем… С того злополучного дня рождения Рудольф не переодевался, его кожа покрылась грязной коркой. Петака развалился под большим столом на козлах и наотрез отказывался оттуда вылезать. Целый шмат говядины, засиженный мухами, лежал рядом с ним на полу. Зверь линял, шерсть вылезала клочьями.
– Ваше величество… судя по всему, Петака умрет. – Румпф, на время занявший место Вацлава, от всей души ненавидел дряхлого зверя, но не желал, чтобы его обвинили в кончине императорского любимца.
– Что? Что ты сказал? – заблудившийся в глубоких и мрачных коридорах своего сознания, император все же услышал голос советника. – Петака, Петака, что с ним такое?
И тут точно острая спица вонзилась ему под лопатку. Рудольф припомнил предсказание Браге: когда умрет лев, умрет и император.
– Писторий предлагает его исповедать.
– Что? Кого исповедать? Льва? Идиот! Он же безгрешен!
Внезапно император с приступом острой досады вспомнил, что город наводнен бандами бродячих мародеров, что из‑за слухов о войне толпы горожан скопились у ворот со всеми своими пожитками. Империя… Кто вообще что‑то знает о текущем положении дел в империи? Собирают ли налоги, удается ли сдерживать турок, соблюдаются ли интересы императора при заключении торговых сделок?
Но сперва самое главное. Петаке надо вернуть доброе здравие при помощи мелко нарубленной телятины, мягкого хлеба, вымоченного в крови ягненка, а также голубиных грудок, посыпанных сахарным песком. Сотня лучников получила приказ незамедлительно выйти под дождь и самыми тонкими стрелами настрелять голубей. Одновременно велись поиски самой лучшей телятины.
Вторая забота: раввин. Раввин и его слова, дарующие вечную жизнь.
– Раввина нигде не найти, в Юденштадте жуткий беспорядок, – сообщил императору Румпф. – Горожане ропщут, требуя смерти прелюбодейки. Они говорят, что это она навлекла на Прагу беды, и если ее сожгут, проклятье будет снято.
– Ложь, болтовня, сплетня и полный бред. Убить прекрасную женщину? Абсолютная чушь! Старые, уродливые ведьмы – это я еще понимаю. Но отправлять на костер подобную красоту?
– Еврейку, ваше величество.
– В ней есть христианская кровь, Румпф. По слухам, она наполовину христианка, и когда она станет императорской любовницей, ее можно будет быстро и легко обратить. Послать отряд стражников для охраны Юденштадта.
– Ее там нет.
– Тогда ее следует найти, доставить прямо в замок, помыть, напудрить, умаслить, одеть, подготовить… А как только дождь прекратится, Келли будет казнен. Мы и так слишком долго медлили.
– Скоро падет ночь, ваше величество.
– То же самое случится с твоей головой, Румпф, если ты будешь уклоняться от исполнения своего долга. Скажи мне, где Кеплер и Браге?
– Браге умер, ваше величество.
– Что? Как умер?
– Говорят, он проглотил немного отравленного вина. Вы же сами назначили Кеплера императорским математиком. А Киракос болен оспой.
– Только не говори мне, что он тоже умер.
– Его нигде не могут найти.
– А в собственной кровати его никто не искал?
– Его кровать пуста.
– А под кроватью? В шкафу? Все либо померли, либо разбежались. Ты хоть раз видел, чтобы я куда‑нибудь уезжал на целое лето? Нет, я всегда здесь, в этом душном замке. А теперь здесь еще и дождь льет. Безусловно, вестовой уже должен был добраться до Карлсбада.
– Дорога, ведущая к мосту, перегорожена процессиями монахов и священников, распевающих псалмы и подвергающих себя бичеванию. Монахини, страшась гнева протестантов и притворяясь, будто их обручальные кольца указывают на земное замужество, покидают свои монастыри.
– Вот‑вот. Самое время что‑нибудь сделать что‑нибудь с этими монахинями. Скажи начальнику стражи, чтобы он расчистил проход к воротам. Именно расчистил! Чтобы никто не путался под ногами. Хотя… вообще‑то, Румпф, мне нужен Ди. Его как будто след простыл.
– Ди? Говорят…
– Да кто эти сплетники, надоеды, нытики, соглядатаи, болтуны, трепачи, языки без костей? Где они подцепили этот словесный понос? Боже милостивый, упаси меня от пражской болтовни! Как только буря пройдет, должен быть поставлен помост для казни Келли и Ди. Его к тому времени найдут. А сейчас, Румпф, беги в «Золотой вол» и притащи мне оттуда старьевщика.
Когда небо ночью расчистилось, Кеплер вышел на безмятежную беломраморную террасу Бельведера – летнего дворца чуть к северу от замка, рядом с поющим фонтаном. Именно здесь он любил проводить ночи с тех пор, как закрылась обсерватория в Бенатках, оставаясь наедине с секстантом Браге, большой книгой для записей, остро отточенными перьями и бутылочками свежих чернил – немногочисленными инструментами своего ремесла. Кеплер унаследовал толстые фолианты Браге, в которых скурпулезно отмечались положения планет и созвездий. Наступающий сентябрь обещал быть великолепным для наблюдений, ибо Марс, в предыдущие ночи маленький и смутно видимый, теперь должен был быть показаться к северу от Регула в созвездии Льва, медленно продвигаясь в сторону от Солнца. Обычно Кеплер ощущал тесную связь с планетами и звездами, тогда как Земля оставалась для него лишь островком в звездном море. Каждая точечка света служила астроному камнем для следующего шага по этому морю, однако в последнее время (и, в частности, этим вечером) небеса, не омраченные ни одним облачком, казались ему загадочными и непостижимыми. Словно небу был неприятен его взгляд, словно он был недостоин исполнить свою задачу. «Впрочем, – подумал Кеплер, – на самом деле все было хуже. Это не звезды не желают делиться с ним тайнами. Это он, жалкий человечишка, решил вершить дела земные и навлек горести на братьев своих. Занимался бы ты своими звездами, Йоханнес Кеплер», – сказал себе астроном. Ведь именно он и никто иной приветствовал Келли и Ди в тот злосчастный день в «Золотом воле». И не остановился на этом, впутал в эту лживую историю рабби Ливо – в историю, которая в итоге привела к катастрофе. И Кеплер делал это, прекрасно зная, что Земля вертится сама по себе, что день переходит в ночь без всякого вмешательства со стороны человека. Насколько мы способны планировать собственный курс, в какой степени можем вмешиваться в чужие дела? Что определяют звезды? Учитывая, какие великие тайны хранит небо, – действительно ли существует некая взаимосвязь между разумом Божественным и разумом человеческим? Удастся ли нам когда‑нибудь понять, что удерживает планеты на их путях, что это за пути и каким образом Земля стала спутницей Солнца? Или лучше оставить загадки неразгаданными, парадоксы – неразрешенными и просто брести дальше, собирать жито, печь хлеб? Как потрясает великолепие мира планет, несравнимое с нашей будничной жизнью! Но будничная жизнь протекает на одной из множества планет.