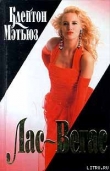Текст книги "Книга сияния"
Автор книги: Френсис Шервуд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Шнурки, которыми Браге обычно крепил свой серебряный нос, были сняты, и его лицо, с лощиной на месте гребня, теперь напоминало руины. Однако для его жены, которая каждую ночь видела Браге таким, его обезображенное лицо было родным и знакомым.
– Позвольте мне уйти с миром. Хоть эту милость мне подарите, – стонал толстяк.
– Теперь все зависит от евреев, – сказал император Румпфу, вручая ему разнообразные сокровища – корень мандрагоры в форме человечка, агатовую чашу, которая предположительно была Святым Граалем, пороховой рожок из бивня нарвала. – Я не могу лишиться вечности из‑за этих лживых британцев. Евреи от меня не отделаются. Никто от меня не отделается. Где голем, где раввин, где еврейка?
– Где этот негодяй Кратон? – спросила фрау Браге у Йеппа.
– Папа, папа! – стайка радостных ребятишек набилась в спальню.
– А знаешь что? – спросила ясноглазая девчушка, пухлая, как ее отец. – Солдат позвали на подмогу. Свиньи ломают свои загоны. А можно мне лошадку? Па‑апа, пожа‑алуйста!
Браге застонал.
Кратон прибыл к смертному ложу астронома с саквояжем в руках. Этот дряхлый старик едва мог ходить и почти ничего не видел. Дорогу к пациенту ему приходилось искать на ощупь, при помощи трости. Из обеих ноздрей густыми пучками торчали волосы, такие же пучки торчали из ушей, а брови были так густы, что глаза казались погруженными в настоящую волосяную берлогу. Увидев лекаря, Кеплер понял, что все пропало.
– И в чем тут, как предполагается, дело? – в своей рассеянной манере осведомился Кратон.
– Предполагается, что я умираю, – съязвил Браге.
Безвременно поседевший дракон, тень лекаря… Кратон кивнул, словно соглашаясь.
– Сказать по правде, Кратон, я не могу помочиться. Просто разрываюсь. Бога ради, проколи меня где‑нибудь.
– Ну да, похоже, здесь требуется кровопускание. Кто‑нибудь, позовите астролога, чтобы он сказал, благоприятно ли расположены звезды. Когда вы родились, Браге, в какой день?
– Бога ради, Кратон, я сам астролог, астроном, и я прекрасно знаю, что кровопускание мне не требуется. Меня нужно проткнуть. Кто‑нибудь, дайте мне зубочистку, иглу, шило, кинжал.
В спальню, шаркая ногами, вошел еще один человек – еще более дряхлый, чем Кратон (оказывается, такое было возможно), со свитком карт и большим томом в руках. Тем временем Кратон уже достал свои лезвия, небольшую миску и мешочек с опилками, чтобы остановить кровь.
– Да что же это такое? – простонал Браге.
– И еще пиявок? – спросил Кратон новоприбывшего астролога. – Посмотрите, удачное ли сейчас время.
Лекарь вытащил из саквояжа целую банку склизких черных пиявок и поставил ее прямо перед носом у страдающего Браге.
– Я также думаю, что, раз уж мы этим занялись, нам следует послать за Писторием, исповедником, – предложил Кратон.
Закрыв глаза, Браге пожелал себе сию же секунду умереть.
– Слава богу, что сейчас не мертвый сезон августа, иначе мы не смогли бы пустить кровь, – объявил астролог. – Никакого кровопускания, никакого совокупления в пору летающих змей.
Его смутный стальной взгляд пронзил Браге.
– Если флегматик, пускать кровь в Овне. Для меланхоликов – в Весах, для холериков – в Раке. Когда Луна в Раке, пускать кровь не рекомендуется ввиду нарушения функций селезенки.
– Луна сейчас как раз в Раке, идиот, – сказал Браге, припоминая, что когда он сегодня утром составлял для себя гороскоп, звезды сказали ему, что этот месяц будет обременен различными тяготами.
– Ах, так значит, она в Раке? Получается, мой дорогой друг, это просто ваша хандра? Как насчет вашего темперамента?
Браге взглянул на Кеплера. Два астронома обменялись грустными понимающими взглядами. Браге жалел, что тратил столько времени на ненависть к своему другу и коллеге, третируя его, придерживая ценную информацию и лишая множества мелких знаков любезности. Подумать только, он гордился обсерваторией, которая некогда была у него на острове в Дании. Саму обсерваторию Браге теперь помнил смутно, зато хранил в памяти озеро и густой лес, быстрые переклички птиц по утрам, внезапные всплески рыбин, что выпрыгивали из воды. Какой же он был глупец! Нежный ветерок теперь залетал в окно. Браге по‑прежнему испытывал сильную боль, глубоко вдыхая свежий воздух, но эта свежесть приносила некоторое облегчение. Было уже поздно, и шум на улице стих. Ночь накрыла землю – черное решето с точечками яркого света. Теперь Браге очень хотел жить – пусть даже еще только один день.
– Быть может, глоток воды? – сказал Кеплер.
– Нет, воду я уже никогда пить не захочу.
Смеяться было больно.
– Очень важно, Кеплер, чтобы вы распространяли мои идеи. Я знаю, что по некоторым вопросам наши мнения расходились. Так, например, вы считаете, что солнце является центром планетной системы. И все же не пренебрегайте всем тем, что мне удалось проделать.
Императору уже надоело расхаживать взад‑вперед, он устал дожидаться вестей о поимке Ди и прихода раввина, а диковины его больше не интересовали. Рудольф решил развлечься книгами из своей обширной библиотеки – фолиантом, подаренным дядей, Филиппом II, королем Испанским. В книге описывались орудия пыток, которые использует инквизиция. Каждое описание сопровождалось иллюстрацией. В частности, гаррота изображалась в виде рамы, прикрепленной к потолку. С этой рамы свисали шнуры, которыми следовало обвязывать конечности узника, после чего затягивать их до тех пор, пока они не дойдут до кости.
– Овен – это знак огня, порождающий жаркие, холерические недуги, – монотонно гудел астролог. – Не брейтесь, когда Луна находится в этом знаке. Вредоносные пары могут проникнуть через поры. Недуги соответствуют временам года. В частности, изъязвления и фурункулы бывают зимой, мигрени и проказы – при смене одного года другим. Весной наиболее часты душевные расстройства, а также ревматизмы, подагры и колики. Лихорадка – определенно зимний недуг.
Благополучно выбравшись за городские ворота в телеге Карела, Ди скрылся под кипой одежды в фургоне кукловода, что направлялся в немецкие земли. Алхимик непрестанно молился о том, чтобы снова увидеться со своим другом, чтобы они встретились в Лондоне и, после нескольких славных кружек доброго британского эля, посмеялись о времени, проведенном в Праге. Над головой у Ди вместе с фургоном раскачивалось множество кукол – Каспарек, чешский народный герой, Ночная Ведьма на своей метле, еврей, лесной дикарь, дьявол, прелестная девушка, злой император.
Дыба представляла собой обычный блок, который поднимал узников за вывернутые назад запястья, тогда как к их лодыжкам привязывались грузила. Таким образом руки вырывались из плечевых суставов. Оригинально и находчиво, размышлял император. Именно такой пытке был подвергнут Макиавелли, когда он впал в немилость у принца, своего покровителя.
Кеплер заснул, сидя в углу комнаты Браге, Йепп заснул на кровати по одну сторону от умирающего астронома, фрау Браге по другую, а дети расположились вокруг кровати, словно их отец был очагом и мог их согреть. Браге прислушивался к стуку собственного сердца, которое билось словно бы само по себе. В течение ночи астроному удалось немного отлить, и это принесло ему некоторое облегчение, хотя моча оказалась кровавой. Когда же врач при свете свечей внимательно разглядел жидкость в прозрачном стеклянном мочеприемнике, то обнаружил в ней комочки гноя. Скверный признак.
«Пытка водой – вот что самое подходящее», – придумал император. Узника привязывали вверх ногами к наклонной лесенке и заставляли проглотить полоску льняной ткани. Затем лили ему в рот воду, которую он вынужден был глотать, чтобы не подавиться тканью. В конечном итоге живот узника переполнялся, и вода лились из всех отверстий.
Когда первая серая полоска прорезалась на горизонте, Рохель выпрямила затекшие ноги и представила себе Йоселя в далеком северном городе, высоком и чистом. А может статься, он изменил свое решение и направился на юг к Италии. Само слово «Италия» казалось Рохели теплым, полным радости. А слово «Венеция» звучало словно «победа». Рохель никогда не каталась на лодке, даже по Влтаве, и сама мысль о целом городе казалась невозможной… «Как не стыдно, – упрекнула себя Рохель». Какое легкомыслие – барахтаться в подобных фантазиях, когда именно такие мечтания и желания заставили ее сбиться с пути! Катание на лодке под лучами яркого солнца… Какая страшная самонадеянность! Тщеславие не привело Рохель к победе, наоборот – навлекло беды на всю общину. В точности как предсказала дочь раввина, в тот день, давным‑давно, когда она сопротивлялись, не давая остричь себе волосы.
Тут Рохель услышала звук. Мгновенно сжавшись в комочек, она притворилась кучкой старого тряпья.
– Скорее, Рохель, – прошипел раввин. – Они догадались, что ты здесь. Мы должны спрятать тебя в другом месте. Зеев заберет тебя домой.
– Зеев?
Рохель не осмеливалась даже думать о том, сколько горя она ему причинила.
– Я не могу туда вернуться.
– Ты должна. Никому и в голову не придет, что ты у себя в комнате, вместе с ним.
Для женщин больше всего подходил паук, прочел император. Крюки использовали, чтобы рвать в клочья груди, особые штыри и клещи применяли к влагалищу, на лобок сыпали порох, длинные волосы вымачивали в масле и поджигали, в подмышки вкладывали раскаленные камни, ладони погружали в горячий жир, а потом пальцы горели как свечи.
32
Киракос понял, что ему суждено выжить, когда почуствовал запах цветов.
– Сергей, – прохрипел он.
Русский, как всегда, оказался рядом. Он поддержал Киракосу голову и помог ему приподняться на локтях.
Привстав, Киракос увидел цветные букеты – бело‑голубую, ярко‑оранжевую герань, ослепительно‑желтые маргаритки, раскрытые тигровые лилии, а также цветы, названий которых он даже не знал, – свежесобранные, в вазах, сосудах, больших ведрах у его постели. Киракос был словно в саду.
– Я жив, – сказал Киракос, обращаясь как к русскому, так и к самому себе. Все его вещи, его книги и большая подушка, ковер на полу, похожий на пруд с темными розами, прекрасный сам по себе в своем изяществе – все это так впечатляло. Это был его мир, самый драгоценный из миров. Киракос взглянул на русского – бесстрастного, с длинными темными волосами, грубо высеченными чертами лица, в крестьянском одеянии – бесформенной рубахе, прихваченной на поясе грязной полоской ткани, жестких длинных штанах, заправленных в поношенные сапоги.
– Кто принес цветы?
– Я, хозяин.
– Кто меня обмывал?
– Я, хозяин.
– Кто меня кормил?
– Я, хозяин.
– И ухаживал за мной днем и ночью. Сколько суток?
– Больше семи, хозяин.
Киракос поднял руку и внимательно ее осмотрел. Кожа не почернела, а просто облезла большими лоскутами. Кишки не вылезли из его чрева через задний проход. Кровь не вытекла у него из ушей. Он мог говорить. На коже больше не было бесчисленных розовых лепешек, которые он наблюдал, когда еще был способен открыть глаза. А теперь он мог не только открыть глаза. Киракосу казалось, что у него никогда не было такого ясного зрения.
– Сергей, ты смотрел за мной в течение всей оспы.
Сергей так повесил голову, словно совершил что‑то постыдное.
– Почему ты сделал это для человека столь грубого и злонравного? Я, сам раб, держал тебя рабом. Почему ты меня спас?
Русский пожал плечами.
– Ты мог заразиться оспой, ты это знаешь? Ты так мало ценишь свою жизнь?
– Я очень ценю жизнь.
– Послушай, Сергей… – Киракос вздохнул. – Друг мой, я плохо к тебе относился. И к другим тоже.
– Вы спасли мальчика, и он теперь живет, – Сергей слегка улыбнулся.
По‑прежнему чувствуя слабость, армянский врач вынужден был осторожно опуститься назад на подушку. Однако, надо признаться, он еще никогда не чувствовал себя… таким живым. Вся комната была как фреска, которую заново расписали мягкими красками, а осознание происходящего стало исключительно ясным. Переполненный радостью, Киракос слушал кончики своих пальцев. Его руки и ноги, все его тело словно светилось изнутри.
– Человек – удивительное создание. Мне кажется, чем больше я узнаю, тем меньше способен постичь. Послушай, Сергей. Прежде чем я помолюсь, скажи мне: как дела в замке?
Сергей глубоко вздохнул:
– Они попытались убить императора, а потом передумали.
– Кто? – Киракос опять сел прямо.
– Келли и Ди.
– О чем ты говоришь? Что случилось? Как бабочки?
– Сдохли. Все сдохли. А перед тем как они сдохли, Келли и Ди подложили яд в императорский кубок с вином – большую дозу опиума. Но когда император на своем дне рождения уже собрался его выпить, они вдруг закричали: «Не надо, не пейте».
– Келли и Ди попытались отравить императора?!
– Ну да.
– Понятно. Значит, они все‑таки не смогли его убить. Интересно.
– Император не слишком им благодарен.
– Значит, чтобы его спасти, они раскрыли себя как убийц и были арестованы?
– Келли арестовали. А Ди сбежал. Стража ищет его.
– Неглупо. Опиум в вине вызывает сонливость, но все зависит от дозы. На дегустатора он не подействует. Нужно выпить весь кубок, чтобы погрузиться в глубокий сон. Очень глубокий сон. Никто не решится будить императора после великого пиршества. Весьма оригинальная мысль. Однако им не хватило терпения и отваги…
Киракос посмотрел на балки потолка. Минуту назад мир казался ему таким прекрасным… И вновь это мерцающее чистое озеро предстало ему замутненным и загаженным его собственными злодеяниями.
– Но погоди. Я смутно припоминаю, что сюда заходил Йепп. Зачем?
– Браге умер.
– Умер? Отчего? Как он мог умереть? Мы играем с ним в шахматы…
– На празднике он никак не мог помочиться. Говорят, у него мочевой пузырь лопнул.
– Мочевой пузырь не может лопнуть. – Киракос попытался спрыгнуть с кровати, но обнаружил, что его ноги еще слишком слабы. – Сергей, помоги мне подойди к окну.
Сергей обнял лекаря и осторожно помог ему доковылять до окна. Купаясь в теплых солнечных лучах, Киракос ясно понимал, что может позволить себе лишь эту краткую передышку. Он видел всю Пражскую долину, змеистую ленту Влтавы, верхушки деревьев, шпили костела Девы Марии перед Тыном, попадающиеся тут и там красные черепичные крыши. Да, он должен набраться сил, встать прямо, решить задачи, которые еще не решил. Браге умер? Киракос представил, как пересекаются их пути: Браге на пути к смерти, а он назад к жизни. Если на то пошло, умереть должен был именно он, Киракос.
– Значит, ему положили теплые компрессы на пах и живот, дали валерианы и опиума от боли, а также заставляли пить много мятной воды с несколькими каплями меда. Еще был постоянный массаж живота, ванны, мягкое очищение кишечника…
– Не знаю. Туда пошел Кратон.
Киракос горестно покачал головой и повернулся, чтобы снова смотреть из окна. Один глаз чесался, и лекарь потер его рукавом. Внизу, в каком‑то смутном пятне, он увидел, как меняется караул. Во внутреннем дворе слуги выметали прочь остатки праздничного дебоширства – битое стекло и фарфор, объедки, обломки мебели.
– Последние его слова были к Кеплеру. «Пожалуйста, не думай, будто я зря прожил жизнь».
Киракос закрыл глаза. Ему пришлось прислонить голову к плечу своего русского слуги.
– Пусть не покажется, будто я зря прожил жизнь, – повторил врач.
– Вам опять плохо? – спросил Сергей.
– Глаза. Глаза что‑то болят. Пожалуйста, помоги мне, Сергей.
Они медленно прошли обратно к кровати, и Сергей помог Киракосу лечь.
– Кеплер теперь придворный математик.
– Славная честь. Надеюсь, он поможет бедняге получать хоть немного жалованья. Браге умирает, а я живу. Мальчик живет, но… Стража не нашла Ди?
– Не нашла, хозяин.
– Не хозяин. Киракос. Как думаешь, возможно, теперь, когда мне полегчало, мы сможем выпить немного вина?
– Возможно, через день… Киракос. Возможно, через день‑другой.
– Да. Ты совершенно прав. Мягкий хлеб, инжир, чашка миндальных орехов. И еще одно. Ты сам знаешь, Сергей, что мне действительно по вкусу, хотя никогда этого не пробовал. Но этот напиток способен разбудить мертвеца и сделать жизнь достойной того, чтобы ее прожить. Кофе. Кофе. В моей стране мы ежедневно его пьем, даже чаще, большими чашками. А еще можно зайти в кофейню вроде местных трактиров, сесть на низкий табурет и откинуться на подушки. Можно вести беседы, играть в шахматы, пить кофе с разными сластями. Может ли быть что‑то приятнее? Воистину это почти рай на земле.
Киракос потянул за шнурок колокольчика у своей постели, вызывая слуг.
– И мы, конечно, должны туда отправиться. В Стамбул.
– А это далеко?
– Если место благотворно и безопасно, Сергей, оно не бывает слишком далеко. Если оно благотворно и безопасно, нет ничего невозможного. Но ты должен еще кое‑что мне рассказать. Итак, все они сидят за обеденными столами на праздновании дня рождения. Могу представить себе этого венценосного глупца императора. Как он одной рукой обнимает тарелку, словно у тарелки есть ноги и она от него убежит, если он только ее не очистит в ближайший миг.
Тут в комнату вошел слуга:
– Вы звали, господин?
– Да. Две больших чашки кофе, блюдо винограда, хлеб с маслом, инжир и финики, миндаль.
Едва дверь за слугой закрылась, Сергей подхватил нить рассказа.
– Там, на пиру, актеры играют представление, а музыканты – мелодии, тра‑ля‑ля. Все время подносят вино и еду с кухни и из погребов: вверх‑вниз, вниз‑вверх, туда‑сюда, туда‑сюда. На столе у императора золотая посуда, всем остальным подают на серебряной.
– Да‑да. Самоцветы на каждом пальце, дорогой мех на каждом плаще… дамы в своих широченных юбках подобны лилиям. Меня от одного их вида тошнит.
– И туда приносят такую большую птицу, на которой по‑прежнему есть все перья, роскошные.
– Несчастный павлин. А ты, Сергей, где все это время находишься?
– Сперва я на кухне – поглядеть, нет ли там какой‑то еды, которая бы вам пригодилась. Какой‑нибудь каши, скажем, овсяной, сваренной на молоке. Чего‑нибудь такого, что проскочит вам в горло, что не придется жевать, – и тут я вдруг слышу над головой звуки, как будто дикие кони несутся по степи. Татары. Казаки. Вся земля дрожит от топота копыт. Я скачу вверх по лестнице, перепрыгиваю через ступеньки и что вижу? Женщины визжат. Мужчины выхватывают мечи.
– Хорошо, хорошо, мне это нравится. Итак, Ди и Келли не смогли убить императора даже ради спасения собственных шкур.
Сергей был взволнован, раскраснелся, захваченный собственным рассказом. Впервые за все это время Киракос отметил, что малый довольно красив.
– Надо бы раздобыть тебе новую одежду, Сергей, славные сапоги и сводить тебя к цирюльнику, – проговорил он. – Сапожник в Юденштадте и его жена, как я понимаю, могут сшить превосходную одежду и крепкую обувь.
– Сапожник и его жена, хозяин, они…
– Киракос, Сергей. Какой славный нынче воздух. Ты любишь лето? А видел ли меня кто‑нибудь, кроме Йеппа?
– Человек, который носит твои донесения.
– Ты знаешь про человека, который носит мои донесения?
– Да.
– Что еще ты знаешь, Сергей?
– Знаю про шелковый шнурок.
– Ах да… – Киракос невольно потер шею. – Пожалуй, пусть лучше это все‑таки будет не Стамбул. Ладно, давай пока что оставим эту тему. Ты говорил, что сапожник и его жена…
– Сапожник и его жена… люди хотят ее убить.
– Почему?
– Потому что она ложилась с големом.
– Ну и ну! Вот, значит, что здесь случилось…
Киракос снова попытался сесть, и Сергей поправил ему подушку.
– Спасибо, Сергей. Хотя в конце концов… голем – полноценный человек.
– Они побьют ее камнями, – сказал Сергей. – Люди в городе побьют ее камнями, и они говорят, что люди в Юденштадте не желают держать ее у себя, они ее выставят. Она прячется.
Киракос вздохнул:
– Побитие камнями. Один из тех старых обычаев. Для женщины прелюбодеяние – серьезное преступление. Как еврейку, ее, конечно, нельзя отправить в монастырь, но она могла бы пойти в публичный дом.
– Император говорит, что она любит его, хочет стать императорской любовницей.
– Очередное заблуждение. Но оно помогло бы решить проблему. Лучше стать императорской любовницей, чем быть побитой камнями. Однако я почему‑то не думаю, что она на такое согласится.
Киракос снова выбрался из постели. На этот раз он чувствовал себя сильнее. Лекарь снова подошел к окну и посмотрел в небо. Предпочитая солнечные часы механическим, он с легкостью определял время по положению дневного светила. Сейчас оно стояло почти в зените. Интересно, куда подевался слуга? Киракос не на шутку проголодался.
– А что Йосель, этот голем?..
– Он ушел.
– Не самый мужественный поступок. Но, с другой стороны, кому охота умирать? В Праге, похоже, – никому. И я это прекрасно понимаю. Взять хотя бы императора с его поисками вечной жизни. Какое чудо: его жизнь продолжается, в каком‑то смысле благодаря тем людям, которых он для этого нанял. Хотя им отчаянно хотелось, чтобы результат был прямо противоположным.
– Говорят, император видит своего покойного брата, думает, будто он в Испании, зовет Румпфа доном Карлосом. Он спит на полу в кунсткамере, вообще оттуда не выходит. Еще он думает, что Петака болен оспой, и за льва теперь постоянно молятся в соборе святого Вита. А Кратона призвали его лечить.
– Будем надеяться, что Кратон не попытается устроить зверю кровопускание. В отличие от императора, у Петаки еще осталось несколько зубов. Пожалуй, императора с Петакой следовало бы куда‑нибудь удалить.
– Куда?
– В одну из свободных комнат. Безусловно, в замке их множество. Раньше такое уже делалось. Дон Карлос. Дон Юлий Цезарь. Хуана Капризная. Болезнь передается по наследству, никаких сомнений. Слишком много браков между близкими родственниками. Габсбурги женились друг на друге, и все это оставалось внутри семьи – королевская кровь, куриные мозги, выпирающий подбородок, плохие зубы. Карл V вообще не мог закрыть рот – брызгал слюной на пяти языках. Они раскапывали могилы, чтобы узнать про эту нижнюю челюсть. И выяснили, что она появилась у одной венгерской княгини – она была даже не из Габсбургов. Рудольф был одновременно племянником и шурином Филиппа Испанского, который был сыном Карла V, отец которого был также отцом и его матери, и его отца. Или еще что‑то в таком духе. Все очень запутанно.
Наконец‑то явился слуга с подносом. Две чашки черного кофе, исходящие ароматным паром, хлеб и виноград, а также несколько ломтиков сыра, финики и миндаль, фиги и колбаса. Киракос принялся поспешно утолять голод, и лишь к колбасе не прикоснулся.
– Это кофе, Сергей. Потягивай его понемногу, со вкусом, с удовольствием. Прекрасно помогает от головной боли. А вот это – вилка. Такими пользуются при дворе. Ее зубцами ты сможешь крепко придерживать мясо, пока его режешь, а потом совать куски прямо в рот. Она годится для всего, кроме супа и соуса. Вилками здесь очень гордятся.
Русский попытался воспользоваться вилкой.
– Да, вот так, покрепче держи. А теперь скажи мне вот что. Я просто не могу поверить, что стоит только человеку на несколько дней заболеть, ненадолго от всего отвернуться, как в целом мире тут же воцаряется хаос.
– Люди говорят, что будет гражданская война. Караваны, горожане – все пытаются покинуть Прагу, но никто не может выйти. Стража ищет Ди во всех домах. Горожане хотят сжечь ведьму, говорят, будто это она навлекла беды на Прагу.
– Какую ведьму? Тут еще и ведьма завелась?
– Та прелюбодейка.
– А мне казалось, ты сказал, что ее хотят побить камнями.
– Они и то и другое хотят.
– К счастью, бедная женщина может умереть только один раз.
Врач снова протер глаза.
– Это тревожные новости, Сергей. Думаю, сейчас самое время покинуть Прагу. И куда ехать, если не в Стамбул?
– Я вырос в Новгороде. В этом городе есть прекрасный собор святой Софии, подобный тому, что в Киеве. Еще у нас были гильдии всех ремесел, школы для детей, монастыри. Городское вече выбирало князя. И вот однажды в наш город пришел царь Иван Грозный. Он стал пытать людей. Если они переживали пытку, их сажали на сани и спускали вниз по холму в ледяную воду, где опричники в лодках насаживали их на пики и рубили на куски топорами. Двадцать семь тысяч людей было тогда убито, каждый день убивали по тысяче. Погиб каждый третий житель города. Когда я вырос, я не захотел служить в царском войске. И сбежал на Запад.
– Правильно поступил. Впрочем, чем на Западе лучше? Иван Грозный, Сулейман Великолепный, Рудольф Помешанный… Да, я согласен, но ворота в город закрыты. Разве ты сам мне не сказал?
– Карел каждый день вывозит мусор к свалкам у Чумного кладбища.
– В самом деле?
– Ну да.
– Я слышал, Сергей, что в Новом Свете есть такие места, где на деревьях растут мощные стебли с нежнейшими желтыми фруктами, орехи там размером с бычий пузырь, внутри у них сладкая мякоть, а кофе там растет как сорняки.
33
Рохель всегда считала пальцы самой послушной частью своего тела. И в то же самое время они казались ей независимыми, слова Ха‑шем – или, по крайней мере, нечто не менее могущественное и, как и он, находящееся за пределами понимания ее ничтожной личности – руководили ее руками, направляя иглу. Всю жизнь Рохель возилась с какой‑нибудь одеждой: или начинала новую, или дошивала старую. А когда занималась чем‑то другим – готовила еду, прибиралась, лежала в постели с Зеевом (еще до Йоселя), даже мечтала – все равно шитье как будто незримо находилось у нее в руках. Выходило так, словно Рохель одновременно жила в двух мирах. Когда ей бывало грустно, у нее всякий раз находилось чему порадоваться, а если все окружающее выглядело тусклым и серым, она всегда могла собственными руками сделать что‑то яркое и восхитительное. Хотя вид нарядов и рисунков был определен заранее – фасон камзолов, плащей, брюк и платьев, узоры в виде цветов и виноградной лозы, – каждое одеяние начинало жить собственной жизнью. Ее пальцы творили таинство, каким бы тяжелым трудом оно ни могло показаться. Умела Рохель и оценить чужое шитье. От мастера Гальяно она слышала о том, что в далеких восточных странах шелковые ткани украшают драконами, делая такие тонкие стежки, что вышивка кажется частью самой материи. Еще Рохели очень хотелось увидеть коронационную мантию, используемую Габсбургами. Красная, как описывал ее мастер Гальяно, она была расшита золотой нитью мусульманской выделки. В самой середине там красовалась пальма, вокруг нее – верблюды и тифы, а по всему краю тянулась арабская вязь. Имей Рохель возможность сшить мантию по своему замыслу и желанию, там были бы люди, стоящие на шахматной доске, ибо именно такие шахматы она видела в доме рабби Ливо. Маленькие армии белых и коричневых деревянных фигурок были сработаны с той же деликатностью и изяществом, что и игрушки для принца, и каждая стояла на предназначенном для нее квадратике. Да, шахматная доска и небо, сыплющее разноцветными звездами. Или Рохель изобразила бы там большую голубую рыбину, плавающую в розовой воде. Еще ей хотелось сшить длинный‑длинный плащ с кисточками и пуговками, оборками и бубенчиками, вышитыми лицами. Или птицами с ярким оперением, которые взлетают над городом подобно фейерверкам, возносясь высоко‑высоко в небо.
Рохели хотелось бы вышивать платья и камзолы заморскими животными. Целый Ноахов ковчег, чудесных тварей, обнаруженных в дальней Африке. Животных длинных, как змеи, толстых, как свиньи, с чешуйчатыми бронированными шкурами и длинными рылами, которые живут под водой, или с одним рогом на носу, чья шкура подобна кожаной кирасе. Слонов Рохель никогда не видела, но знала, что они самые большие из всех. Первым львом, которого ей довелось увидеть, был императорский любимец. Рохели ужасно хотелось увидеть тигра, мартышку… И существо под названием «жираф», длинношеее, все в белых и бурых пятнах. Некоторых из этих животных приводили на ярмарки, показывали на представлениях по всей Европе.
Теперь Рохель знала, что никогда ей уже не увидеть этих животных, никогда больше ничего не сделать, никогда не побывать на ярмарке. С тех самых пор, как молодая женщина снова оказалась в комнате Зеева, она не осмеливалась взглянуть своему мужу в глаза. Забившись в тесную норку между кроватью и стеной, она думала только о страхах смерти и сожалела о своей жизни. Теперь она одна в этом мире, беззащитна и одинока. Даже ее веры в Ха‑шема уже недостаточно. Ей нечего противопоставить этим страхам. Совсем нечего. Она даже с трудом могла вспомнить лицо своего любовника. Как будто Йосель был просто воспоминанием или сном. Будто он только затем и появился, чтобы причинить ей горе и привести ее к окончательному падению. Рохель была слишком напугана, чтобы помнить его нежные прикосновения. То, что она любила, теперь уже ровным счетом ничего не значило. Рохель сидела, забившись в уголок, в комнате Зеева – и ее комнаты, – и в голове множились противоречиями. То, что она прежде считала воссозданием своей жизни, теперь представлялось ей вершиной недомыслия.
И все же Рохель была жадной до жизни. Ей отчаянно хотелось жить.
– Жена, прошу тебя, вылезай оттуда.
Зеев присел на кровать, умолял Рохель, растирал ей плечи, а она сжималась в комочек и все глубже забиралась в норку между кроватью и стеной.
– Пожалуйста, Зеев, оставь меня, оставь меня в покое.
– Как же я могу? Ведь ты моя жена.
Рохель содрогнулась. Если бы он избегал ее, обвинял, рвал и метал, требовал развода, она бы все поняла. Рохель потеряла его ребенка, ребенка Зеева, их ребенка. Она обесчестила его, опозорила всю общину. Зло, которое она сотворила, казалось беспредельным. И все же Зеев ее упрашивал – словно это ему требовалось прощение. С того самого дня, как Рохель снова вернулась домой, она вылезала из‑за кровати лишь однажды – чтобы выплеснуть помои в канаву. Она ничего не ела, но ее тело жило как ни в чем не бывало, и нечистоты с неумолимым безразличием выходили из нее.
– Рохель, любовь моя…
Как Зеев может ее любить? Разве он не согласился взять ее в жены только из милости? Разве его не радовала исключительно ловкость ее обращения с ниткой и иголкой, разве не находил он удовольствия лишь в ее молодости и своем праве владения?
– Как ты можешь выносить меня, Зеев, когда я сама себя не выношу?
Пока Рохель пряталась между кроватью и стеной, Зееву была видна лишь ее согнутая спина. Но эта спина была ему дороже всего на свете. И жилки, которые натягивались на ее шее – самой дорогой для него шее, – заставляли его сердце разрываться от боли. Пятки Рохели, торчащие из‑под ее бедер, на которых сквозь порванные чулки виднелись кружочки покрасневшей плоти, вызывали почти невыносимую нежность. Только бы увидеть ее глаза, осмотреть, как они расширяются в два идеальных кружка, увидеть ее рот, созданный для свадебной пищи – пышного белого хлеба, золотистого куриного бульона… Тогда Зеев был бы самым счастливым человеком на свете. И если бы дело было только в плоти, легкой походке, юношеских надеждах. Все дело было в том, как Рохель произносила слово «муж», как она застывала, когда близилась ночь, – подобно маленькому зверьку, спрятавшемуся в своей норке. Как она любила утреннее солнце, как она превратила их комнату в дом и готовила еду из продуктов. А еще – смел ли он об этом сказать? – как она пела. Как пташка. Зеев отчетливо помнил взмах натруженных, усталых ладоней Рохели над свечами в Шаббат, ее насмешливую полуулыбку, с которой она внимала словам правды за целыми миром лжи и обмана. И еще ее каждодневную женскую чуткость к присутствию Бога. Нет, не то чтобы Зеев не горевал. Он просто не мог думать, не позволял себе думать о том, что кто‑то другой касался Рохели. И не то чтобы он не знал, что потерял ребенка – их ребенка. Зеев был уже в годах, отчаянно нуждался в сыне, ибо, будучи бездетным, еврей жив лишь наполовину. Сказать, что он не переживал из‑за этого, – значит солгать. Скорбь гнула его к земле, но собственное сердце казалось ему куском потертой кожи для башмаков. И все‑таки он ее любил. Он безумно любил Рохель. Что же он мог поделать?