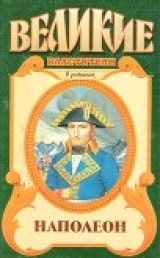
Текст книги "Наполеон"
Автор книги: Фредерик Бриттен Остин
Соавторы: Алан Патрик Герберт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 37 страниц)
Из сказанного следует, что совершенно необходимо иметь во главе армии одного-единственного генерала и что ничто не должно мешать этому генералу совершать марши и проводить операции. (Это должно было заставить их отказаться от посылки к нему нового комиссара, менее сговорчивого, чем Саличетти, с указанием не сводить с него глаз!) Я провёл кампанию, ни с кем не советуясь; мне не удалось бы ничего достичь, если бы я был вынужден примирять между собой людей, которые по-разному смотрят на одни и те же вещи. Я одержал победу над противником, обладавшим огромным численным превосходством (весьма скромным!), не имея абсолютно ничего (следовательно, не благодаря вам), только потому что считал, что обладаю вашим доверием, и это позволяло мне осуществлять мои замыслы так же быстро, как и рождать их. (Скромно, но со вкусом!)
Если вы наложите на меня массу ограничений; если мне придётся каждый свой шаг обсуждать с комиссарами правительства; если они будут иметь право вмешиваться в вопросы передвижения войск, забирать у меня или же присылать мне те или иные отряды, из этого не выйдет ничего хорошего. Если вы ослабите вашу армию, разделив руководство ею, если вы помешаете выполнению моего стратегического плана, я с глубоким прискорбием вынужден буду заявить, что вы утратите прекрасную возможность подчинить себе Италию. (Вот им прямо в лоб, пусть почешутся!)
Учитывая нынешние взаимоотношения Республики с Италией, не вызывает сомнения, что возглавлять Итальянскую армию должен генерал, который полностью заслуживает вашего доверия. Если это буду не я, я не стану жаловаться; я бы удвоил усилия для того, чтобы заслужить ваше уважение на том посту, который вы сможете мне доверить. (Он дорого дал бы за возможность увидеть их лица в тот момент, когда они будут читать эту ханжескую фразу!) Каждый воюет по-своему. Генерал Келлерман (этот безмозглый старикашка!) имеет больше опыта и сможет командовать армией лучше меня, но вместе мы сделаем это куда хуже, чем каждый из нас порознь.
(Ну, а теперь главное!) Я мог бы сослужить большую службу своей стране только в том случае, если бы удостоился вашего полного и абсолютного доверия. (Никогда ещё правительство Французской Республики не удостаивало своих генералов полного доверия. Совсем наоборот!) Мне потребовалась вся моя смелость, чтобы написать вам такое письмо: теперь вам так легко обвинить меня в честолюбии и гордости! Однако я должен был выразить вам все мои чувства – вам, неизменно оказывавшим мне такое уважение, которого я никогда не забуду. (И эти недоумки, эти мерзавцы составляют правительство, которое имеет право уволить его, сломать его карьеру!)
Сейчас разные дивизии Итальянской армии овладевают Ломбардией. Когда вы получите это письмо, армия будет в походе (он должен показать, будто верит в их ребяческий план!); возможно, ваш ответ застанет нас уже под Ливорно. (О Ливорно он и не думал. Этот порт был битком набит поселившимися там богатыми английскими купцами. Было бы и приятно, и полезно ограбить их, когда придёт время!) Решение, которое вы примете в сложившихся обстоятельствах, будет иметь для хода кампании куда большее значение, чем пятнадцатитысячное подкрепление, которое император может прислать Болье.
Бонапарт».
Письмо было шедевром. Бонапарт был доволен им. Но он всё же нервничал. В каждой строчке письма читался вызов и неповиновение, а он, молодой республиканский генерал, был ещё не так силён, чтобы открыто взбунтоваться против законной власти Республики. Он боялся их, боялся их ревности, их подлости. Им ведь ничего не стоило уничтожить всю его работу! Он взял другой лист бумаги и начал писать члену Директории Карно.
«Гражданину Карно
Когда я получил письмо Директории от восемнадцатого числа, ваши желания были исполнены – Милан стал нашим. Скоро я, выполняя ваш план, пойду походом на Ливорно и Рим. На всё это не понадобится много времени. Я посылаю Директории свои соображения относительно её намерения разделить армию. Клянусь вам, что, поступая таким образом, думаю только о благе страны. Вы никогда не сможете обвинить меня в криводушии. Нет такой жертвы, которую я не принёс бы на алтарь Республики. Если некие люди пытаются очернить меня в ваших глазах, то вы прочтёте ответ в моём сердце и моей совести.
Вполне возможно, что это письмо к Директории будет неправильно истолковано; поскольку вы всегда относились ко мне по-дружески, я взял на себя смелость обратиться к вам с просьбой вмешаться, используя вашу обычную осторожность и осмотрительность.
Келлерман будет командовать армией не хуже меня – ибо я, как никто другой, знаю, что армия обязана победами только собственной смелости и дерзости; но я думаю, что объединить меня и Келлермана в Италии – значит потерять всё. Я не могу служить с человеком, который считает себя первым генералом Европы; кроме того, я думаю, что один плохой генерал лучше двух хороших. В войне, как и в управлении государством, всё решает такт.
Я могу быть полезным вам только в том случае, если ко мне будут относиться с тем же уважением, которое вы оказывали мне в Париже. Мне безразлично, где воевать – здесь или в каком-нибудь другом месте; все мои честолюбивые стремления заключаются только в одном – стремлении принести пользу своей стране, заслужить уважение потомков, вписав славную страницу в историю Франции, и доказать правительству мою преданность и искренность. За эти два месяца без восьми дней, прошедшие с моего отъезда из Парижа, у меня на сердце накопилось столько горечи, что не хватает слов. Однако я готов терпеть любую усталость и боль, подвергать себя новым опасностям, лишь бы мне не мешали. Я уже завоевал кое-какую славу и хотел бы и в дальнейшем быть достойным вас. Как бы то ни было, верьте, что ничто не в состоянии поколебать того неизменного уважения, которое вы вызываете у всех, кто вас знает.
Бонапарт».
Ах, Париж, Париж... Он не мог придумать ничего лучшего, чтобы отвести от себя грозу. Он писал это письмо совершенно искренне. По крайней мере, в словах, которые он написал о необходимости единоначалия в армии, не было и тени лукавства. После этих писем Директории будет трудно опровергнуть приведённые в них доводы и оправдать его смещение. А к тому моменту, когда он получит их ответ, его позиции станут неизмеримо сильнее.
Массена будет в Милане сегодня. Австрийский эрцгерцог Фердинанд, наместник Ломбардии, бежал пять дней назад. Вчера к нему приехали два самых уважаемых в Милане синьора, граф Мельци д’Эриль и граф Джузеппе Реста, представлявшие Совет декурионов[37]37
Декурионы (куриалы) – здесь: члены городских советов (сенатов), ведавшие различными сферами городского самоуправления.
[Закрыть], который выполнял роль временного правительства; они поздравили его с победой и вручили ему ключи от города. Весь Милан был охвачен революционным брожением, кипел патриотизмом, невероятным для города, который был оккупирован австрийцами девяносто лет; на каждом углу слышались крики «Свобода!» и неведомый доселе клич «Италия!». Весь Милан надел новые красно-бело-зелёные кокарды, символизировавшие новую Италию, Италию либералов (в основном аристократы и интеллигенция, относившаяся к среднему классу). Однако не меньшим успехом пользовались якобинские агитаторы – их торжественные речи собирали огромные толпы слушателей, воодушевляли их и заставляли с нетерпением ожидать прибытия Бонапарта, их чудесного Освободителя.
Он назначил свой торжественный въезд в город на завтра. Надо же было дать Парижу тему для разговоров! Однако и в самом деле его итальянскую кровь грел идеал свободной и единой Италии. Он мог бы сделать первый шаг к этому, мог бы основать Цизальпинскую республику. А затем... вы бы узнали, как вмешиваться не в своё дело, господа плуты из Директории!
Он получил бы определённый статус, мог бы тут же встать во главе созданного им независимого государства, и пусть бы парижское правительство попробовало отобрать у него его армию! Если бы они согласились на это, то Цизальпинская республика, конечно, стала бы неким доминионом Франции, дочерью Республики и жила бы в соответствии с принципами Революции, незыблемыми с девяносто второго года.
Он улыбнулся своему отражению в зеркале. У всех его планов было по крайней мере по два варианта. Завтра, когда все остальные набожные итальянцы будут праздновать Троицу, он въедет в Милан и пышно отпразднует все свои неслыханные славные победы. Месяц и два дня прошли с тех пор, как он двинулся из Савоны на битву у Монтенотте. За пятнадцать дней он завоевал Пьемонт. Через семь дней после форсирования По у Пьяченцы он закончил завоевание Ломбардии. Гордилась ли им Жозефина в своём далёком Париже? Думала ли о нём каждую минуту, как он думал о ней?
Он встал, подошёл к двери и позвал начальника штаба. – Бертье! Завтра штаб-квартира переезжает в Милан! Сделайте все нужные приготовления!
Глава 18
Этот Троицын день, пятнадцатое мая 1796 года, которому суждено было навечно остаться в анналах истории знаменитого города Милана, был поразительно солнечным. Кавалерийские полки сверкавших медными шлемами драгун, что составляли эскорт его запряжённой шестёркой лошадей кареты, быстро двигались по великолепной военной дороге от Лоди. Эскорт сопровождала небольшая кавалькада взятых в плен высших австрийских офицеров, к которым относились с крайней учтивостью; это придавало действу некий драматический оттенок, напоминавший блеск триумфов победоносного Цезаря. Пехота, артиллерия и остальная часть кавалерии, которым предстояло вместе с ним войти в город, заранее совершили двадцатимильный марш на Милан.
По обеим сторонам дороги стояли живописные группы крестьян, с любопытством глазевших на кортеж. Он ворвался в жизнь этих простых селян как чудо. Некоторые махали руками и выкрикивали «Да здравствует Освободитель!», но большинство стояло молча, испытывая священный ужас. Они считали его людоедом, пугали им детей и свято верили в то, что он является смертным воплощением самого Антихриста. (Разве не говорили им местные священники, что все эти революционеры-французы сплошь бандиты и безбожники, которые упразднили религию, осквернили церкви и отправили на гильотину своих епископов?) Он не пожалел бы сил, чтобы разуверить этих простодушных фанатиков, чтобы они искренне полюбили его как Освободителя от австрийской тирании (хотя, по правде говоря, при австрийцах Ломбардия имела своё собственное образцовое правительство), сделал бы всё, чтобы рука об руку с лучшими из здешних либералов создать современную просвещённую республику в Италии, самый воздух которой пьянил его как вино. Тогда в знак благодарности они с радостью уплатили бы контрибуцию, которую он обязан был потребовать; контрибуцию, которая была жизненно необходима для его армии; контрибуцию, нужную для того, чтобы удовлетворить эту шайку алчных парижских мерзавцев. Сидевший рядом Саличетти в трёхцветном шарфе был живым напоминанием об этих мошенниках.
Было около полудня, когда он подъехал к городу. Как ни странно для этой равнинной земли, Милана всё ещё не было видно, хотя откуда-то издалека доносился едва слышный колокольный звон. В полях, раскинувшихся по обе стороны от дороги, расположились многочисленные отряды французской кавалерии, пехоты и артиллерии. Со стороны Милана к нему рысью скакали Массена и Жубер, прибывшие сюда вчера. За ними следовали ординарцы, которые вели в поводу запасных лошадей. Он вышел из кареты, сел на маленького белого жеребца по кличке Бижу, с которым был неразлучен всю кампанию, и поскакал к городу под марши расположившихся на полях духовых оркестров. Доехав до изгиба дороги, он увидел развалины древних ворот Порта Романа. Из ворот ему навстречу двинулось торжественное шествие.
Он натянул поводья, ожидая приближения этой церемониальной процессии. Впереди шёл почтенного возраста церковник, возглавлявший группу духовных особ в полном облачении. Они подходили всё ближе, неся огромный золотой крест и распевая латинский гимн. Массена представил ему церковника – это был архиепископ Филиппо Висконти. За священниками следовали по двое в ряд шестьдесят пышно разодетых декурионов, взявших на себя функции временного правительства города. Как разъяснил Массена, во главе их шёл генерал граф ди Тривульцио. Замыкал процессию герцог ди Сербеллони, знаменитый либерал и одновременно один из богатейших и влиятельнейших синьоров Милана (Бонапарт всё разузнал про этого человека, стремясь как можно больше узнать о Ломбардии И её столице). Массена сказал ему, что герцог ди Сербеллони несёт ключи от Милана, по такому поводу заново позолоченные. Массена счастливо смеялся, его обычно мрачное лицо светилось.
– Генерал, похоже, Милан взбесился от радости. Они готовы отдать что угодно, только протяни руку. Вас здесь встретят как бога!
Процессия двигалась к нему. Престарелый архиепископ (Массена сказал, что ему семьдесят пять лет) – бледный, хрупкий, сгибавшийся под тяжестью роскошного облачения – вышел вперёд, поднял руку для благословения и обратился к нему, назвав его «сын мой». Затем с достоинством, которого не смогла поколебать близость этих грубых солдат, архиепископ обратился к тому, кому всемогущий Господь даровал блестящие победы и кто ныне явился в Ломбардию как освободитель угнетённого народа, с просьбой уважать христианскую религию, Святую Церковь, её алтари и свободу отправления христианских культов. (Даже на Бонапарта, почувствовавшего в душе лёгкий трепет, произвело глубокое впечатление величавое достоинство этого старого человека, хранившего верность религии и Церкви). После архиепископа вперёд вышли наиболее видные из декурионов, и каждый по очереди прочитал цветистую речь, смиренно клянясь в покорности и преданности города Освободителю, избавившему его от чужеземной тирании, и прося его быть защитой жизни и имущества обитателей Милана. А затем герцог ди Сербеллони – длинноносый мужчина лет пятидесяти, пристально смотревший на него своими круглыми глазами, – опустился на одно колено и протянул ему лежавшие на подушечке позолоченные ключи.
Нельзя было отвечать им, сидя в седле. Это слишком напоминало бы поведение чужеземного полководца, отдающего им приказы. А в данную минуту ему не хотелось играть роль завоевателя, диктующего покорённому народу свою волю. После успеется... Он желал, чтобы его восторженно восхваляли как человека, который принёс им свободу, как основателя нового государства. Заметив у двери ближайшей хижины охапку сена, Бонапарт спешился и сел на неё. Члены депутации собрались вокруг, перешёптываясь друг с другом и дивясь его молодости.
Он улыбнулся им и любезно, но властно заговорил на их звучном итальянском языке. Эта маленькая приветственная речь была заготовлена им заранее.
– От имени Французской Республики вступая во владение городом Миланом и провинцией Ломбардия, я заверяю, что Республика испытывает к вам чувство неизменного уважения. Это предполагает, что каждый будет вносить свой вклад в общественное благосостояние, что каждый будет иметь возможность пользоваться своими правами и в полной мере осуществлять их. Каждый человек может молиться любому богу и соблюдать культы той религии, которую он исповедует, не боясь, что к его убеждениям отнесутся без должного уважения. Республика приложит все усилия, чтобы сделать вас счастливыми и устранить препятствия, стоящие на пути к этому счастью. Отныне единственным различием между людьми будут только их личные заслуги; всех объединит дух братства, равенства и свободы. Каждый человек будет беспрепятственно пользоваться своей собственностью. Но помните, что для установления полной справедливости требуется время; добродетель и умеренность позволят нам исправить ошибки, которые могут быть допущены на этом пути ко всеобщему счастью.
Эта речь была встречена шумными одобрительными выкриками «Да здравствует Освободитель!» Даже священники стали улыбаться с облегчением. Может, эти злокозненные французские атеисты вовсе не такие ужасные люди...
Затем он сел на коня и двинулся к Порта Романа. Саличетти ехал по одну сторону от него, Кильмэн – по другую. Они натянули поводья и позволили ему первым проехать сквозь узкие ворота, сохранившиеся со времён Древнего Рима.
За порталом его встретили буря оглушительных криков и лес машущих рук. Вдоль улицы стояла городская стража, одетая в зелёные мундиры и головные уборы с новыми красно-бело-зелёными кокардами. Взявшись за руки, стражи пытались сдержать лихорадочно возбуждённую толпу. Молодые женщины расталкивали стражников, чтобы бросить ему букет цветов, посылали воздушные поцелуи и смеялись до упаду, когда букет попадал в коня.
– Да здравствует Бонапарт!
Неподалёку от Порта Романа была воздвигнута триумфальная арка из цветов и листьев. Когда Бонапарт проехал под ней, его осыпал дождь лепестков. По всему городу звонили в колокола, но этот ликующий, радостный звук не мог заглушить гул человеческих голосов. Он различал высокие женские голоса, удивлявшиеся его молодости.
– Какой молоденький! Какой красавчик! Совсем мальчик!
Сияя от счастья и гордости, он ехал вперёд, осыпаемый цветами, а над ним сияло безоблачное небо, в котором плыл колокольный звон. За триумфальной аркой сидела в колясках вся миланская аристократия. Синьоры вставали, размахивали носовыми платками, французскими флагами и новыми красно-бело-зелёными знамёнами и с пылким энтузиазмом, который не уступал энтузиазму толпы, кричали: «Да здравствует Бонапарт!» Одетые в яркие разноцветные платья, эти аристократические дамы напоминали собой длинную цветочную клумбу.
Он слышал, что маршировавший позади военный оркестр играл «Марсельезу», но эту торжественную мелодию заглушали звон колоколов и возгласы ликования. Все дома были увешаны флагами и знамёнами. На каждом балконе, в каждом окне хорошенькие девушки в праздничной одежде неистово размахивали носовыми платками и трёхцветными флагами, бросали ему цветы и звонко приветствовали. Позади вновь вздымалась волна криков: там, следом за ним, окружённые восторженной толпой, осыпаемые со всех сторон цветами, маршировали его войска. Казалось, Милан действительно сошёл с ума от радости. Его сердце готово было разорваться от счастья, на глаза наворачивались слёзы. Эти колокола надрывали ему душу. «Да здравствует Бонапарт!» В это невозможно было поверить! Он улыбнулся.
Хор славословий, заставлявших его улыбаться направо и налево, сияющие лица приветствовавших его людей вновь наполнили его чувством триумфа, но всё же он не забыл об ответственности и о множестве дел, которые ему предстояло совершить. Реальностью была лишь работа; все эти взрывы народного ликования, все эти цветы и знамёна скоро канут в прошлое... Он поймал себя на мысли о том, что подсчитывает, как за несколько дней пребывания в Милане создать новое правительство, собрать наложенную на Ломбардию контрибуцию, реорганизовать и переоснастить армию для продолжения кампании против Болье, которая позволила бы окончательно изгнать австрийцев из Италии и сделала его полновластным хозяином Апеннинского полуострова. (А кроме того, предстояло что-то сделать с остававшимся здесь австрийским гарнизоном, который упрямо, если не дерзко цеплялся за миланскую цитадель; надо было поручить Массена командовать осадой и во всех деталях объяснить ему, как окружить крепость, поскольку никто в Итальянской армии не имел подобного опыта и Бонапарт был здесь единственным человеком, который знал, как это делается).
Он подъехал к городскому собору, вонзавшему в голубое небо свои резные беломраморные шпили. Прямая дорога, по краям которой стояла зеленомундирная городская стража, вела к воротам великолепного храма эпохи Возрождения, служившего резиденцией архиепископа. За порталом его встретила ещё более многолюдная толпа, размахивавшая флагами и осыпавшая его цветами. Во внутреннем дворе стоял почётный караул, который довольно неуклюже отдал ему честь. Он спешился; навстречу главнокомандующему поспешили высшие духовные особы из ближайшего окружения архиепископа. Он попросил разрешения остановиться здесь на ночлег, поскольку даже временное пребывание в пустовавшем ныне королевском дворце – расположенном поблизости палаццо Реале – неминуемо вызвало бы недовольство и насмешки всей его республиканской армии. (Тут он некстати вспомнил об этих ревнивых мерзавцах из Директории).
Внезапно он почувствовал себя усталым и измученным. Оказывается, вся эта суматоха, возбуждение и бурное ликование – ужасно утомительная вещь... По-прежнему оглушительно трезвонили колокола, издалека доносились звуки военных маршей и неумолкавший рёв голосов. Только сейчас он понял, что в городе стоит нестерпимый зной. А у него ещё столько дел... Надо устроить официальный приём архиепископу, членам городского совета и прочим важным персонам города. А до этого ему хотелось бы прилечь, поспать хотя бы несколько минут и принять ванну. Лакеи архиепископа, проводившие генерала в предоставленные ему роскошные апартаменты, низко поклонились на прощание. Никто даже не улыбнулся, услышав эту нелепую просьбу. Удивительный гость мог делать всё, что хотел. Именно такой эксцентричности от него и ждали.
Вечером, когда жительницы Милана танцевали с изрядно подвыпившими французскими солдатами на ярко освещённой площади собора (разве можно было запретить горожанам угощать «освободителей» вином?), городской совет устроил в палаццо Реале роскошный обед и бал в честь французского генерала, его старших офицеров и штаба. Очень немногие из этих молодых офицеров, в подавляющем большинстве детей Революции, видели что-нибудь более великолепное, чем эти огромные залы дворца бежавшего эрцгерцога. Очень немногим высшим офицерам раньше доводилось бывать в столь аристократическом обществе. Однако французы ничуть не терялись и, не обращая внимания на миланских синьоров, изо всех сил пытавшихся улыбаться, чувствовали себя как рыба в воде среди толпы прекрасных маркиз и графинь в восхитительно декольтированных бальных платьях и мгновенно добивались успеха у кокетливо улыбавшихся красавиц, томно вздыхавших во время головокружительных танцев, а в перерывах шёпотом, прикрывшись веерами, объяснявшихся со своими надоедливыми супругами; красавиц, которые заранее сдавались этим победителям в потёртых мундирах и поношенных сапогах, этим суровым воинам, только что вышедшим из кровавых битв...
Бонапарт не танцевал; он гордо стоял поодаль, не обращая внимания на порой несмелую, порой дерзкую лесть вившихся вокруг прекрасных созданий, которые улыбались ему, завоевателю, кружась в объятиях своих кавалеров. Он предпочитал беседовать с герцогом ди Сербеллони. Хотя он с первых фраз понял, что герцог обладает весьма посредственным интеллектом, тем не менее это был чрезвычайно обаятельный мужчина, искренне разделявший его высокие идеалы. К тому же он был неслыханно богат, пользовался в Милане огромным влиянием (даже засилие австрийцев не могло помешать ему занимать весьма высокую должность), а потому мог быть чрезвычайно полезен. Он очень нравился Бонапарту, ощущавшему некое духовное родство с этим аристократом. Как раз такой человек был нужен генералу для его новой Цизальпинской республики. В свою очередь, Сербеллони тоже безмерно восхищался молодым французским военным гением, который выгнал австрийцев из его родной Ломбардии. Он выражал это восхищение с типично итальянской страстью к преувеличениям; тем не менее эти немудрёные похвалы были весьма приятны.
– Я не знаю, где синьор генерал собирается остановиться в Милане, – продолжал герцог, вращая глазами, в которых светилось чуть ли не обожание, – но если синьор генерал ещё не сделал выбора, то моё палаццо будет в его распоряжении столько, сколько пожелает синьор генерал. Этой честью будут гордиться несколько поколений моей семьи. – Нельзя было усомниться в его искренности; герцог просто дрожал от возбуждения. – А что до меня, то я не желал бы ничего лучшего, чем служить вам и собственной персоной, и всем, что у меня есть.
Что ж, мысль неплохая. Он знал про палаццо Сербеллони, как знал про всё, что было в Милане самым важным. Бонапарт не мог постоянно оставаться в отведённом ему палаццо Арчивесковиле: там было слишком тесно, а он предпочитал, чтобы руководство штаба жило с ним под одной крышей. Палаццо Сербеллони был очень удобно расположен; он стоял на другом берегу канала, представлявшего собой древний крепостной ров, и был удалён как от шумных городских сборищ, так и от цитадели, которую всё ещё удерживал австрийский гарнизон.
Он улыбнулся этому высокому длинноносому аристократу с невинными круглыми глазами.
– Хорошо, синьор герцог, – решительно сказал он. – Я с благодарностью принимаю ваше предложение. Если это устроит вас, я переехал бы завтра же.
Сербеллони рассыпался в благодарностях за честь, которую «синьор генерал» решил оказать его дому. Синьор генерал может быть уверенна этом месте словоизлияния герцога были прерваны. Один из миланских синьоров подвёл к ним молодую женщину поразительной красоты. Бонапарт уже обратил на неё внимание, поскольку она была прекраснейшей из множества присутствовавших на балу красавиц. Эта женщина была образцом совершенной, головокружительной, царственной красоты. Её кавалер поклонился главнокомандующему.
– Синьор генерал, позвольте представить вам нашу божественную королеву красоты, госпожу маркизу ди Висконти-Айми.
Генерал неловко поклонился и пробормотал какую-то банальность о том, что очарован её красотой. Она тут же овладела его вниманием, прикоснулась к руке Бонапарта и чарующе улыбнулась. Боже, какие глаза!
– Могу ли я признаться вам, синьор генерал? – смеясь, сказала маркиза. – Я сама потребовала, чтобы меня представили! Я тоже хотела положить свою дань к ногам нашего освободителя! Но... – тут её глаза стали льстивыми, – я и подумать не могла, что вы так молоды и так хороши собой! Каким успехом вы, должно быть, пользовались у прекрасных парижских дам! Но и тут каждая женщина будет готова обожать вас! Я сама готова обожать вас! Бот я и призналась вам в любви! – Она засмеялась. – Вы не танцуете, генерал?
Его молнией пронзила мысль, что она говорит искренне, что эта поразительная красавица предлагает себя ему. Он мог овладеть ею. Он мог овладеть любой из присутствующих здесь женщин. Но он здесь не для того, чтобы заниматься любовью. А эти женщины просто бесстыдны. Если бы только здесь была Жозефина! Он изголодался по ней.
– К сожалению, госпожа маркиза, – сказал он, – я не танцую. – Он тут же пожалел о ненужной резкости, с которой отказал женщине. Жозефина права, ему действительно недостаёт светских манер. – Простите меня, госпожа, но я должен вернуться в свою штаб-квартиру. – Она всё ещё Недоверчиво смотрела на него, не в силах смириться с мыслью, что её отвергли. – Я поздравляю Милан, в котором живёт столько прекрасных женщин; но вы, синьора маркиза, лучшее украшение этого ослепительного созвездия.
Может быть, этот комплимент успокоит её... Он ещё раз поклонился на прощание, отошёл к графу ди Тривульцио и попросил передать городскому совету его признательность и сожаление. Пусть они простят его; у главнокомандующего много дел. Он будет вечно благодарен Милану за гостеприимство. Этот счастливый день станет лишь прелюдией к их счастливому сотрудничеству. И с Тривульцио, и с любым другим мужчиной он мог говорить легко и непринуждённо, держать себя с ненаигранным достоинством. Не то что с этими женщинами. С этой маркизой.
Он поймал взгляд молодого Мармона, явно имевшего успех у своей дамы. Хорошо им, этим щенкам-адъютантам, на которых не лежит никакой ответственности... Дай им волю, они бы всю жизнь занимались любовью... Он кивком подозвал Мармона, разлучив молодого человека с его красавицей:
– Проводи меня до квартиры, Мармон, – сказал он. – Потом вернёшься и дотанцуешь.
Мармон весело кивнул. Их объединяла сильная взаимная привязанность: они были старыми друзьями и пронесли свою дружбу через множество испытаний. Ещё были свежи воспоминания о том, как они в Париже умирали с голоду (он никогда не забудет преданность Мармона и Жюно). А сейчас Мармон, несмотря на свои двадцать два года, показал себя первоклассным солдатом; он уже доложил о нём Директории. Именно Мармон несколько дней назад блестяще взял Пиццигеттоне и Кремону, лихой кавалерийской атакой сметая всё на своём пути... Справедливости ради надо было сказать, что первый адъютант по-настоящему обожал своего чудо-генерала.
– Охотно, мой генерал! – засмеялся Мармон. – Но вы разобьёте сердца всех этих дам, если уйдёте так рано! Каждая из них мечтает завоевать вас!
Бонапарт презрительно улыбнулся. Что значили эти женщины по сравнению с Жозефиной?
– Их мечты останутся мечтами, – сказал он, – Пойдём, мой дорогой!
Они вышли из палаццо Реале на Пьяцца дель Дуомо. При свете озарявших площадь огромных костров резные шпили кафедрального собора казались божественно прекрасными. Он вспомнил, будто, несмотря на многие века, прошедшие с его закладки, собор до сих пор остаётся недостроенным. Возможно, в один прекрасный день он прикажет закончить его... Вокруг плясали его солдаты и горожане, кружась под лихую мелодию, которой в Милане ещё не слыхивали. Под звуки «Карманьолы» весёлые гуляки в карнавальных масках отплясывали сарабанду, пели, щипали струны гитар, и казалось, что каждый солдат его армии обнимал за талию хорошенькую девушку. Победа! Весенний воздух был пропитан ароматом победы. Никто никогда не одерживал столь молниеносных викторий, никто не знал такого триумфа. Он тяжело вздохнул. Он чувствовал себя отчаянно одиноким. Пока друзья шли ко дворцу архиепископа, он не прислушивался к шутливым замечаниям Мармона. Ах, если бы здесь была Жозефина!
Мармон проводил Бонапарта до его апартаментов. Следовало сразу лечь в постель. Он устал. Оставшись наедине с Мармоном в этой роскошной спальне, он неожиданно повернулся к своему юному другу:
– Мармон, как по-твоему, что о нас говорят в Париже? Думаешь, они удовлетворены?
– Разве они могут быть не удовлетворены, генерал? Больше чем удовлетворены. Вся Франция просто обезумела от ваших побед. Они и представить себе не могли ничего подобного! Франция опьянена энтузиазмом и восхищением. Каждое письмо, полученное мною из дома, только об этом и говорит. Никогда не было такого генерала, как генерал Бонапарт! А когда до них дойдёт весть о взятии Милана, страшно подумать, что там начнётся!
Бонапарт улыбнулся и секунду помолчал.
– Они ещё ничего не знают, – сказал он больше себе, чем Мармону. В его голосе звучала обычная суровость. – Сегодня мне не улыбнулась Фортуна, потому что я отверг её милости; Фортуна женщина, и чем больше она даёт мне, тем большего я требую. В наши дни никто не стремится к великому. Я должен показать пример остальным.








