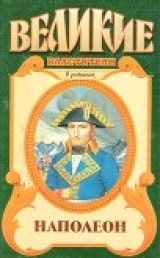
Текст книги "Наполеон"
Автор книги: Фредерик Бриттен Остин
Соавторы: Алан Патрик Герберт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
Но именно потому, что она была никем и не имела никакого значения, он и послал за ней. С любой из остальных было бы невозможно вступить в связь, не испытывая чувства, что он изменяет Жозефине. А отношения с этим ничтожным созданием приносили всего лишь физическое облегчение, позволяли успокоиться перенапряжённым нервам, и о них можно было через минуту забыть. Вперёд! Офицеры городской стражи ещё немного подождут!
Он пошёл в спальню, обходя приёмную стороной. Она была там – ярко накрашенная, кокетливо улыбающаяся. Что он в ней нашёл? Ба! Он был груб с ней и не нуждался в её нежностях. Ему было нужно только краткое животное облегчение.
Когда она стояла перед зеркалом, надевая шляпку, он вынул из кармана несколько золотых монет и протянул ей. Очевидно, от этого полубога, у ног которого лежала вся Ломбардия, она ждала большего, потому что тут же вцепилась в него.
– О, дорогой, ты пришлёшь мне подарок?
Он с раздражением оттолкнул её.
– Ладно, пришлю. Только уходи поскорее и помалкивай! Поняла?
Она вульгарно и жеманно улыбнулась.
– А когда я снова увижу тебя, дорогой?
Он был краток:
– Никогда. А теперь иди, иначе не получишь обещанного подарка!
Слёзы навернулись на её глаза. Она начала жаловаться на его жестокость. Бонапарт отвернулся и с изумлением увидел Массена. На смуглом лице генерала играла сардоническая улыбка. Как всегда, Массена вошёл в его комнату по-кавалерийски, без доклада.
Бонапарт, оказавшийся в смешной ситуации, подавил гнев и негодование; он крепко взял Массена за руку и повёл к себе в кабинет. Там он обернулся к генералу лицом.
– Массена! – сурово начал он, говоря самым резким тоном, – У меня на вас масса жалоб! Жалоб, которые не придутся по вкусу в Париже! Вы ограбили неизвестно сколько дворцов, ободрав их как липку!
Массена засмеялся:
– О чём вы говорите, генерал? Вы считаете, что я пошёл на эту войну из любви к ней? Я воюю за деньги и хочу получить их как можно больше. Вы воюете за другое. – Он цинично и многозначительно усмехнулся. – У всех нас есть свои маленькие амбиции, мой генерал, не так ли? Мне плевать на то, что скажут в Париже. Мы можем делать что угодно до тех пор, пока парижские господа будут получать свою долю и трястись от страха перед армией, которая от генералов до барабанщиков обожает своего командующего. Господи, помилуй! Никто из нас не верил в россказни о плодородных долинах и богатых городах. Но мы здесь! Кстати, генерал, поздравляю! Ваше новое обращение к армии просто великолепно.
Этот ненасытный разбойник Массена был хитрой лисой, хорошо знавшей его слабое место. Бонапарту было чрезвычайно важно знать, что армия по-прежнему обожает его. Значит, «от генералов до барабанщиков»... В том числе и генералы. Преданность генералов была краеугольным камнем, на котором держалась его мечта. Преданность лично ему. Бонапарту не оставалось ничего другого, кроме как посоветовать Массена умерить свою алчность, сказать, что у него будет для этого масса времени и масса других городов, и напомнить, что, если поведение французов заставит местное население восстать, они потеряют всё.
После встречи с офицерами городской стражи (щеголеватыми юными дворянчиками, которые думали, что война – это прежде всего роскошная форма) и принятия у них присяги он вспомнил о своём обещании этой женщине, значившей для него меньше, чем ничто. Он никогда не нарушал своих обещаний, даже самых незначительных. Надо было покончить с этим. Он поднялся, пошёл на узкую, заполненную ювелирными лавками Калле деи Фиджини, расположенную рядом с площадью Дуомо, и купил у ювелира Манини какую-то безделушку стоимостью в сто двадцать восемь миланских лир, составлявших чуть больше сотни французских франков. Эта женщина большего не стоила. Теперь о ней можно было не вспоминать.
* * *
Двумя днями позже, когда Бонапарт сидел в кабинете палаццо Сербеллони, ему принесли долгожданную почту, доставленную парижским курьером. Главнокомандующий расстегнул большую кожаную сумку, из которой посыпалось множество писем. От Жозефины по-прежнему ничего не было. (Удар был нестерпимым. Ну когда же она приедет?) Зато был большой конверт с грифом Директории. Бонапарт нетерпеливо вскрыл его. Директория торжественно извещала, что между Королевством Пьемонт и Французской Республикой подписан мир. Наконец-то он избавлен от постоянной угрозы с запада! Теперь у него развязаны руки для удара по Болье, занимавшему линию обороны по реке Минчо от Мантуи до озера Гарда. Он сможет разделаться с противником ещё до того, как к тому подойдут подкрепления из Австрии!
В эту минуту вошёл Бертье.
– Бертье! – воскликнул Бонапарт. – Мир с Пьемонтом подписан! Мы немедленно идём на Болье! Через несколько дней в Италии не останется ни одного австрийца! – Он жил этим, давно спланировав каждый манёвр и ожидая только одного – устранения угрозы со стороны Пьемонта. – Завтра штаб покидает Милан!
До поздней ночи он писал приказы. Когда он подписал последний по счёту, начался рассвет – рассвет четвёртого прериаля. Надо выкроить время и немного поспать. Он устало откинулся на спинку стула, и воспоминание о том, что курьер вновь не привёз письмо от Жозефины, наполнило его горечью и гневом. Он схватил перо и лист бумаги.
«Милан, 4 прериаля. Год IV
Жозефина, с двадцать восьмого числа ни одного письма! Я получил почту, отосланную из Парижа двадцать седьмого, и не нашёл в ней ни строчки от моей bonne amie! Неужели она забыла меня, или ей нет дела до того, что не существует большей муки, чем отсутствие писем от моей нежной любви? Здесь в мою честь устроили грандиозный праздник, пять или шесть сотен изысканных красавиц пыталось угодить мне, но никто из них не напоминал тебя, ни у кого не было таких нежных и гармоничных черт, которые запечатлелись в моём сердце. Я видел только тебя и думал только о тебе. Я не мог вынести этого и, уйдя оттуда через полчаса, вернулся и лёг в постель, грустно говоря себе: вот пустующее место моей обожаемой жёнушки... Так ты едешь? Как протекает твоя беременность? Ах, моя прекрасная подруга, получше заботься о себе, будь весела, почаще развлекайся, ни о чём не волнуйся и не беспокойся из-за дороги: небольшое путешествие тебе не повредит. Я без устали представляю, что вижу твой маленький животик; должно быть, это обворожительное зрелище...
Прощай, прекрасная подруга, думай хоть иногда о том, кто думает о тебе каждую минуту.
Б.».
Глава 20
Вечером четырнадцатого июня (или двадцать шестого прериаля) Бонапарт писал Жозефине из Тортоны – сильной крепости, доставшейся ему вместе с другими по соглашению с Пьемонтом. С тех пор как он выступил из Милана против Болье, прошло двадцать два дня. Эти дни были заполнены трудными и важными делами.
Пятого прериаля, уже находясь в Лоди, он получил сообщение, что в Милане, как и предсказывал Сербеллони, после его ухода вспыхнул бунт (к счастью, он оставил в городе только шестьсот мушкетов), а в Павии началось настоящее восстание, к которому примкнули крестьяне окрестных деревень. Тем не менее, он со своей армией продолжал марш на Брешию и добрался до Сончино; там он узнал, что восстание в Павии приняло весьма серьёзный оборот: гарнизон, оставленный им в этом городе, был захвачен повстанцами и, возможно, уже расстрелян. Он тут же поскакал в сторону Кремоны, оставив армию на марше. Прибыв шестого прериаля обратно в Милан и, немного передохнув, он собрал остававшиеся в столице силы, посадил к себе в коляску архиепископа для переговоров с мятежниками, но в Бинаско, на полпути к Павии, повстречал тысячу крестьян, вооружённых в основном косами и вилами. Он немедленно атаковал их, спалил деревню, а несколько сотен бунтовщиков расстрелял. Затем он поехал в Павию и обнаружил её ворота на запоре. Под градом черепицы сорвав ворота с петель, он двинул в город своих гренадеров, освободил гарнизон, безжалостно расстрелял вожаков бунта и отдал Павию на разграбление, проведя всю эту страшную ночь в украшенном мозаикой аббатстве Чертоза. На следующее утро он сам поехал в Павию, где опубликовал прокламацию, которая должна была ужаснуть всю Италию. Затем в полдень седьмого прериаля (двадцать шестого мая) он, промчавшись в экипаже сорок пять миль, присоединился к своей армии в Сончино. Двадцать седьмого он уже был в Брешии. Двадцать девятого Бонапарт оставил Брешию и направился в Кальчинато. Там он сел на коня и повёл свои войска в двадцатимильный ночной поход. На рассвете тридцатого его гренадеры достигли Боргетто; держа мушкеты над головой, они перешли вброд реку Минчо, разбили австрийский центр и, как было задумано, погнали его на север. К рассвету следующего дня, тридцать первого мая, он прекратил преследование разбитых частей Болье на плато Риволи, в горловине долины реки Адидже, и дал им возможность удирать дальше. Таким образом к вечеру восьмого дня после начала этой кампании, если не считать гарнизона, засевшего в окружённой озёрами Мантуе, в Италии не осталось ни одного австрийского солдата. Однако взять Мантую одним ударом так и не удалось. Крепость упорно не желала капитулировать.
Последующие дни были наполнены не менее кипучей деятельностью. Первого июня он был в отбитой у венецианцев Пескьере, где принял посла охваченного паникой Неаполитанского королевства: кавалерия неаполитанцев находилась на службе у Австрии. Третьего июня он направился в Верону, также отвоёванную у Венеции, а затем разместил свою штаб-квартиру в Ровербелле, на полпути между Мантуей и Пескьерой (до падения Мантуи он не собирался перебираться за Минчо). Четвёртого июня он отправился инспектировать осаду Мантуи и участвовать во взятии укреплённого пригорода Сан-Джорджо, разместил там свою осадную артиллерию и той же ночью, проехав в экипаже сорок миль, вернулся в Брешию. Там на следующее утро он подписал временное перемирие с устрашённым Неаполитанским королевством. Из Брешии он отправился в Милан, где принял испанского посла в Риме, представлявшего не менее напуганный Ватикан, территорию которого он уже начал захватывать в Романье: его войска овладели Болоньей. Восьмого он выехал из Милана в Болонью. Бешеным галопом он промчался в карете по древней Виа Эмилиа, проделав сто тридцать миль без остановки (если не считать смену лошадей) и всё это время не переставая работать. На следующий день он возвратился в Милан, откуда снова поехал в Болонью и ровно через сутки вернулся в столицу Ломбардии. Двенадцатого он побывал в Павии. Со вчерашнего дня он находился в Тортоне вместе со своими адъютантами Мюратом и Мармоном. Кроме того, его сопровождал отряд конных «гидов», который он создал для собственной охраны после того, как во время трапезы с Массена и Мармоном в Валледжо в тот самый день, когда была разбита армия Болье, едва не был взят в плен одной из отступавших австрийских частей.
Было две причины его приезда в Тортону: во-первых, встреча с представителем пьемонтского правительства для урегулирования мирного договора между Пьемонтом и Францией; во-вторых, инспекция этой важнейшей крепости, стоявшей на линии его коммуникации с Парижем.
Но в данную минуту, усталый и взволнованный, он мог думать только о Жозефине, которой писал следующее:
«Гражданке Бонапарт, улица Шантерен, № 6, Париж.
Штаб-квартира, Тортона, 26 прериаля.
Год IV Республики, единой и неделимой.
Моя дорогая Жозефина, с восемнадцатого числа я надеялся и верил, что ты прибыла в Милан. Едва закончилось сражение в Боргетто, я поспешил к тебе навстречу, но не обнаружил тебя! Через несколько дней курьер сообщил мне, что ты даже и не выезжала, и от тебя по-прежнему не было никаких писем. Моя душа разрывалась от горя. Я считал себя покинутым всеми, кто дорог мне на этой земле. Я никогда не чувствовал себя таким разбитым. Изнывая от огорчения, я написал тебе, возможно, чересчур резко. Если мои письма тебя обидели, я не утешусь до конца моих дней. Поскольку Тичино разлилась, я приехал дожидаться тебя в Тортону; каждый день я жду, и всё понапрасну. Четыре часа назад пришло коротенькое письмецо, в котором сообщается, что ты не приедешь. Не буду пытаться передать то чувство сильнейшей тревоги, которое охватило меня через мгновение, когда я представил себе, что ты больна, что вокруг тебя врачи, что жизнь твоя в опасности и что именно поэтому ты и не пишешь. С той минуты я нахожусь в состоянии, которое невозможно описать! Какое же сердце нужно иметь, чтобы любить тебя так, как люблю я! Ах! Я не думал, что можно испытывать такое горе, такие ужасные мучения. До сих пор я полагал, что всякое горе имеет свой предел; но горе, которое ныне испытывает моя душа, безгранично. Лихорадочный жар струится по моим жилам; отчаяние наполняет моё сердце. Ты страдаешь, а я далеко от тебя. Увы! Возможно, что тебя уже нет в живых. Жизнь действительно стоит того, чтобы её презирать; но мой несчастный разум заставляет меня бояться, что я не найду тебя после смерти, а я не могу смириться с мыслью, что никогда больше не увижу тебя. В тот день, когда я узнаю, что Жозефина мертва, я перестану жить. Никакой долг, никакие обязательства не будут связывать меня с миром. Человечество столь презренно! Ты одна оправдываешь в моих глазах бесстыдство людской натуры.
Всё приводит меня в отчаяние. Ничто не может излечить меня от болезненного одиночества и от змей, сосущих мою душу. Мне прежде всего нужно твоё прощение за те безумные, бестолковые письма, которые я написал тебе. Если ты здорова, то поймёшь, что та же пламенная любовь, которая возвышает душу, может заставить человека ошибиться. Я непременно должен убедиться, что тебе ничто не грозит. Любовь моя, отдай все ради своего здоровья и пожертвуй всем ради своего спокойствия! Ты такая нежная, слабая и больная; а время года такое жаркое, и путь неблизкий. Я на коленях умоляю: не подвергай себя опасности. Какой бы короткой ни была жизнь, пройдут три месяца и... Как, ещё три месяца мы не увидим друг друга!.. Я трепещу, моя любовь, не смея заглядывать в будущее: всё там ужасно, а единственное, что успокаивает других людей, находящихся в таком же состоянии, во мне отсутствует. Я не верю в бессмертие души. Если ты умрёшь, я тотчас же умру следом, но эта смерть будет простым уничтожением, лишённым всякой надежды.
Мюрат пытается убедить меня, что твоё недомогание незначительно; но ты ничего не пишешь; прошёл месяц с тех пор, как я получил от тебя последнее письмо. Ты нежна, полна чувств, и ты любишь меня. Ты, глупышка, борешься с болезнью и невежественными докторами, оставаясь вдали от того, кто избавил бы тебя от всех болезней и даже вырвал бы тебя из объятий самой смерти... Если твоя болезнь затянется, попроси, чтобы мне дали отпуск – я смогу приехать и хоть час провести с тобой. За пять дней я добрался бы до Парижа, а на двенадцатый вернулся бы в мою армию. Без тебя, без тебя Я здесь бесполезен. Сделай это для того, кто любит Славу, для того, кто служит Франции, но душа которого томится в изгнании; когда мой нежный друг страдает, я не могу хранить хладнокровие, необходимое для того, чтобы одерживать победы. Я не знаю, какие выражения найти, не знаю, что делать; мне хочется сесть в почтовую карету и самому отправиться в Париж; но честь, к которой ты так чувствительна, удерживает меня на месте вопреки желанию сердца. Из жалости ко мне попроси кого-нибудь написать за тебя; позволь мне знать, что у тебя за болезнь и чего следует опасаться. Наша судьба действительно ужасна. Только поженились, только соединились, как пришлось расстаться! Мои слёзы орошают твой портрет; он всегда со мной. Мой брат тоже не пишет. Ах! Несомненно, он боится поведать то, от чего я не найду лекарства. Прощай, моя любовь; как тяжела жизнь и как сильно зло, от которого страдают все!!!
Шлю тебе миллион поцелуев; верь, что никогда не встретишь любви, которая была бы равна моей, любви, которая продлится всю мою жизнь! Вспоминай обо мне почаще и пиши дважды в день. Скорее избавь меня от боли, терзающей мою душу. Приезжай, приезжай скорее, но сначала позаботься о своём здоровье.
Б.».
Он посыпал письмо песком, поцеловал, сложил, запечатал, а затем позвонил слуге, чтобы тот взял его и отдал курьеру, собиравшемуся в долгий путь до Парижа.
Жозефина! Каждая мысль о ней отдавалась в его сердце болью. Возможно, он никогда больше не увидит её! Что могло с ней случиться? Когда он расспрашивал Мюрата, тот вёл себя так странно, был таким уклончивым... Какую страшную тайну он скрывал? Не весть ли о медленной, но смертельной болезни?
На следующее утро он вместе с Марионом вышел под нестерпимо яркое, палящее июньское солнце. Несмотря на свою молодость, Мармон был очень опытным артиллерийским офицером и мог сильно помочь ему при осмотре крепости и отборе орудий, которые Бонапарт собирался взять для создания осадной артиллерии в Мантуе. (Просто не верится, что он до сих пор не может взять эту крепость, окружённую со всех сторон озёрами и болотами, словно остров!)
Они вместе с военными инженерами шли к фортификационным сооружениям. Как это ему надоело! Он не мог думать ни о чём, кроме Жозефины – всю ночь он пролежал без сна, мучимый одной мыслью: Жозефина больна! Конечно, она не могла сама сообщить ему, что заболела. Писем от неё не было уже целый месяц. А вдруг это только его фантазия, единственная цель которой – оправдать Жозефину, не желающую уезжать из Парижа? Нет, он не имел права на подобные подозрения! Она не могла обмануть его ожиданий. Нельзя было и думать о том, что она способна лгать. Если бы только она была здесь...
Стоя на крепостном валу и осматривая пушки, многие из которых сохранились здесь со времён войны 1742– 1748 годов, он видел пыльную дорогу, извивавшуюся между виноградниками и уходившую в сторону далёкого Парижа. Если бы он мог сейчас помчаться по этой дороге!
Закончив подробный и обстоятельный осмотр, они возвратились в штаб-квартиру, располагавшуюся в цитадели. Он чувствовал, что не может оставаться один, а потому пригласил молодого Мармона побыть с ним – несомненно отвлекая того от какого-то весёлого застолья.
Сидя в прохладной полутёмной комнате, он велел принести им охлаждённого снегом вина. Два молодых человека подняли свои бокалы.
– За здоровье моей жены, Мармон! – сказал Бонапарт. Выпив и поставив бокал, он вынул из кармана миниатюру с её портретом. – Разве она не прекрасна? В мире нет ей подобной. Ты должен признать это, – Он протянул миниатюру Мармону; но – перст судьбы! – портрет выскользнул из его руки и упал на каменный пол. Стекло разлетелось вдребезги.
Бонапарт был суеверен: это пустяковое событие пронзило его сердце. Мармон оказался проворнее, быстро поднял миниатюру и, отдавая её, озабоченно поглядел на старшего друга.
– Как вы бледны, генерал! – с тревогой в голосе сказал он. – Вы не заболели?
Бонапарт взял себя в руки и заговорил, ещё не придя в себя от шока.
– Мармон, – произнёс он, как лунатик, – моя жена или очень больна... или неверна мне!
– Вздор, генерал! – рассмеялся Мармон. – Кто сейчас верит в такие приметы?
Бонапарт прервал его. Этот случай потряс генерала до глубины души. Он должен был знать, что случилось, должен!
– Разыщи в штабе лучшего курьера! – резко приказал он. – И сию же минуту пришли его ко мне!
Он прошёл в свою комнату, чувствуя себя так, словно получил смертельную рану. Через несколько минут Мармон вернулся с егерем.
– Мой генерал, – сказал Мармон, – это лучший курьер штаба. Когда-то, до Революции, он был жокеем, – улыбнувшись, добавил он.
Бонапарт взглянул на гонца.
– Как тебя зовут? – спросил он.
Егерь отдал честь.
– Простак, мой генерал!
– Прекрасно! Приготовься немедленно отправиться в Париж. Сейчас я напишу письмо. Ты поедешь как можно скорее, останавливаясь только для того, чтобы сменить лошадь, и доставишь письмо мадам Бонапарт. Пробудешь там не дольше четырёх часов, а затем немедленно вернёшься ко мне, где бы в тот момент ни находился штаб. Если обернёшься за восемь дней, получишь щедрую награду. Понял?
Курьер вытянулся в струнку:
– Отлично, мой генерал! Я заслужу награду!
– Теперь иди собираться. Мармон даст тебе достаточно денег, чтобы брать на станциях лучших лошадей.
Они оставили Бонапарта одного. Тот сел и начал писать второе за сутки письмо.
«Штаб-квартира, Тортона, полдень 27 прериаля.
Год IV Республики, единой и неделимой.
Бонапарт, главнокомандующий Итальянской армией.
Жозефине».
Минуту или две он сидел, прикусив кончик пера, которым писал. Нет, он ничего не скажет о разбитом стекле на портрете. Он ни словом не обмолвится о своих сомнениях. Может быть, это только его фантазия. Может быть, она действительно больна, серьёзно больна. Одновременно он напишет в Париж Жозефу и вытянет из него письмо. Жозеф тоже не писал ему. Что они все скрывали от него?
Он начал писать быстро и неразборчиво: некогда было аккуратно выводить буквы.
«Моя жизнь – сплошной кошмар. Ужасные предчувствия душат меня. Отныне я не живу; я потерял больше чем спокойствие, больше чем счастье, больше чем жизнь: я остался без надежды. Я посылаю к тебе курьера. В Париже он пробудет только четыре часа, а затем повезёт мне твой ответ. Напиши мне страничек десять: это единственное, что сможет утешить меня. Ты больна, ты любишь меня, я огорчил тебя, ты беременна, а я не могу увидеть тебя. Эта мысль не даёт мне покоя. Я был так несправедлив к тебе, что не знаю, как искупить свою вину. Я проклинаю себя за то, что оставил тебя в Париже – ты там заболела. Прости меня, моя подруга; любовь, которую ты внушила мне, лишила меня рассудка, и я никак не могу обрести его вновь. Нельзя излечиться от подобного недуга. Меня одолевают ужасные предчувствия; мне хватило бы просто увидеть тебя, на два часа прижать тебя к моей груди и вместе умереть. Кто заботится о тебе? Мне представляется, что ты послала за Гортензией; я в тысячу раз больше люблю это милое дитя за то, что она хоть немного утешает тебя. Что же касается меня, то я не буду знать утешения, покоя, надежды до тех пор, пока не увижу посланного к тебе курьера, пока в подробном письме ты не объяснишь мне, в чём заключается твоя болезнь и насколько она опасна. Если она действительно опасна – предупреждаю тебя, я немедленно отправлюсь в Париж. Мой приезд излечит тебя. Я всегда был счастливчиком; никогда судьба не сопротивлялась моей воле; но сегодня я сомневаюсь во всём. Жозефина, как ты можешь хранить столь долгое молчание и не писать мне? Твоё последнее письмо от третьего дня этого месяца огорчило меня. И всё же оно всегда у меня В кармане. Я постоянно держу перед глазами твой портрет и твои письма.
Я ничего не могу без тебя. Я едва представляю себе, как существовал, не зная тебя. Ах! Жозефина, если бы ты знала, как тяжело у меня на сердце, неужели ты могла бы оставаться в Париже и с двадцать шестого по шестнадцатое не найти времени, чтобы отправиться в путь? Неужели ты послушалась болтовни коварных подруг, удерживающих тебя вдали от меня? Я готов подозревать всех. Я затаил зло на каждого, кто находится возле тебя. Я подсчитал, что если бы ты отправилась двадцать шестого, то к пятнадцатому уже была бы в Милане.
Жозефина, если ты любишь меня, если считаешь, что путешествие может подорвать твоё здоровье, то побереги себя. Я не отважусь уговаривать тебя ехать в такую даль по такой жаре; если только ты в состоянии выдержать дорогу, то поезжай не торопясь, пиши мне с каждой станции, и пусть твои письма опережают тебя.
Все мои мысли сосредоточены на твоём алькове, на твоей постели, на твоём сердце. Твоя болезнь – вот что занимает меня день и ночь, лишает сна и аппетита, убивает стремление к дружбе, к славе, любовь к своей стране. Есть только ты, а остальной мир для меня не существует – он мог бы совсем исчезнуть. Я дорожу славой только потому, что ты дорожишь ею; дорожу победой, поскольку она доставляет тебе удовольствие; не будь этого, я всё бы бросил ради возможности припасть к твоим ногам.
Иногда я говорю себе: тревога напрасна, её уже вылечили, она уже в пути, она уже в Лионе... Пустые фантазии! Ты лежишь в постели страдающая, ещё более прекрасная, ещё более чарующая, ещё более обожаемая; ты бледна, твои глаза печальны; но тебя вылечат, а если в следующий раз кому-то из нас доведётся заболеть, пусть это буду я! Более грубый, более мужественный, я легче перенесу болезнь. Судьба жестока: она причиняет страдания тебе, а бьёт меня.
Одна мысль иногда утешает меня: судьба может заставить тебя заболеть, но не сможет заставить меня пережить тебя.
В своём письме, моя прекрасная подруга, не забудь сообщить, что не сомневаешься в моей любви. Я люблю тебя так сильно, как только можно себе представить; каждое мгновение я посвящаю тебе; не проходит и часа без мысли о тебе; мне и в голову не приходит думать о других женщинах; все они, на мой взгляд, лишены грации, красоты, остроумия; ты именно такая, какой я тебя вижу, и ты нравишься мне такой, какая есть; ты отнимаешь все силы моей души, полностью забираешь меня; в моём сердце нет от тебя тайн, а в голове нет других мыслей, как только о тебе; моё тело, мой разум, мои объятия целиком принадлежат тебе; моя душа переселилась в твоё тело, и именно поэтому день, когда ты перестанешь жить, станет днём и моей смерти; Природа и земля кажутся мне прекрасными лишь потому, что на свете существуешь ты. Если ты ни в чём не уверена, если твоя душа не убеждена, не прониклась всем этим, ты огорчишь меня. Это будет означать только одно: ты меня не любишь. Между людьми, которые любят друг друга, существует магнетическая связь. Ты хорошо знаешь, что я никогда бы не мог смириться с мыслью о том, что у тебя есть любовник; стоило бы мне узнать об этом, и я в ту же минуту вырвал бы у него сердце; а затем, если бы я мог поднять руку на твою священную особу... Нет, я никогда не отважился бы на такое; если бы меня обманула сама добродетель, я просто ушёл бы из жизни. Но я уверен в твоей любви и горжусь ею. Несчастья – это испытания, которые лишь увеличивают силу нашей взаимной страсти. Обожаемое дитя, которое в один прекрасный день предстанет перед глазами своей матери, будет иметь право несколько лет провести в твоих объятиях. Какой я несчастный! Мне хватило бы и одного дня. Тысячу раз целую твои глаза, твои губы, твой язык, твою... Обожаемая женщина, в чём заключается твоя власть надо мной? Я сам болею вместе с тобой. Меня трясёт как в лихорадке. Не задерживай Ле Семпля более шести часов, позволь ему уехать немедленно, чтобы он мог побыстрее доставить мне письмо от моей повелительницы.
Ты помнишь тот сон, в котором я снял с тебя туфли, шелка и заставил полностью войти в мою душу? Почему Природа не сделала его явью? Ей ещё многое предстоит сделать.
Б.».








