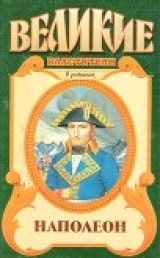
Текст книги "Наполеон"
Автор книги: Фредерик Бриттен Остин
Соавторы: Алан Патрик Герберт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 37 страниц)
Несколько мгновений он рассматривал эту угрюмую и враждебно настроенную троицу. Двое из неё выглядели не лучше разбойников. Он ничего не имел против этого.
Пусть оставляют себе всё награбленное добро до тех пор, пока сражаются за него, Бонапарта. Но сначала он должен подчинить их себе, сделать послушными своей воле. С искренним дружелюбием он подошёл к ним и пожал руку каждому.
– Как ваши дела, Серюрье? Я слышал, что ваша дивизия испытывала недостаток в продовольствии и обуви. И то и другое приказано доставить немедленно. Мне рассказывали, что ваши войска самые подготовленные в армии, и вы сами для них – образец и пример. А вы, Ожеро? Наслышан о ваших подвигах. В Лоано вы показали себя прекрасно. И вы, Массена, тоже. Я читал об этом в Париже и жалел, что меня не было с вами. Должно быть, австрийцы бежали врассыпную! Ваша атака была для них как гром среди ясного неба. – Он широко улыбнулся, чтобы польстить им. – Теперь у вас будет ещё больше поводов прославиться. Мы скоро обсудим это. – Говоря банальности, он старался проявить всё своё обаяние (казалось, в этот момент проснулась его итальянская кровь), чтобы завоевать их расположение. – Да, в Париже было не спокойно, но всё уладилось. Правительство держится прочно. А люди думают только о развлечениях. Театры и танцевальные залы переполнены. Все веселятся. Вы, возможно, слышали, что я женился? На очаровательной женщине, аристократке «старого режима», но настоящей республиканке. Я обожаю её. Я должен показать вам её портрет.
Он достал из нагрудного кармана миниатюру и передал им. Бонапарт не мог не упомянуть о Жозефине. Это был смелый вызов.
Пускай позлословят о ней в открытую – о ней, которой он так явно гордился! Пока генералы флегматично рассматривали портрет, он думал о том, принесёт ли сегодня курьер письмо от неё.
– Разве не красавица? Она так добра, так мила, так грациозна. Кто увидит её, тот сразу влюбляется. Она бесподобна! – Он увлёкся, радуясь возможности поговорить о жене.
Не подмигнул ли Массена своему другу Ожеро? Внезапно посуровев, Бонапарт отобрал миниатюру, взял треуголку и нахлобучил её на голову.
– А теперь, господа, за дело! – Его голос резко изменился, стал сухим и властным. Это был голос человека, привыкшего и умеющего повелевать. В мгновение ока он весь преобразился, как драматический актёр, и, сознавая это, наслаждался своей игрой. Он больше не чувствовал ущербности перед этими старыми воинами, но ощущал себя равным им по званию и превосходящим их во всём остальном. Не давая им опомниться, он начал говорить. – Суть моего плана, господа, очень проста. – Ему следовало бы называть их «граждане генералы», так как обращение «месье», смелое само по себе, непривычно резало их слух, – Я предлагаю вклиниться между австрийцами и пьемонтцами в месте их соединения. – Он разложил на столе карту и указал на тёмные пятна холмов и долины к северу от Савоны. – Вот здесь. Основные силы будут сосредоточены в Савоне и через Кадибонский перевал ударят на Каркаре. Там передо мной откроются три долины, и прежде, чем враг сможет перегруппировать силы, я ударю на австрийцев, находящихся в восточных долинах, и отгоню их к Акви. Затем я поверну на запад, ударю на пьемонтцев и захвачу Чеву. Пьемонтцы непременно отступят для защиты Турина. Они будут всё дальше отходить за высокие горные хребты от своих союзников с их базой в Алессандрии. – Он умолчал о своём намерении нанести удар по пьемонтцам до того, как выступит против австрийцев, так как это шло вразрез с приказами Директории. – Это, messieurs, краткое изложение первого акта. Кампания начнётся двадцать первого жерминаля. Всё будет зависеть от быстроты передвижения. Для наступления у нас будет около сорока тысяч единиц живой силы против шестидесяти тысяч союзников, но мы будем двигаться вдвое быстрее. У нас всегда будет превосходство в силе на местах. А теперь перейдём к обсуждению деталей.
Он оторвал взгляд от карты и посмотрел на генералов, чтобы убедиться в их внимании. Они с интересом, но и с долей скепсиса следили за разъяснениями. С прежней решимостью Бонапарт продолжил:
– Я предлагаю провести кампанию силами трёх корпусов. Вы, Массена, займёте правый фланг. Вам будут приданы части Лагарпа и Менье. Закончите концентрацию войск вокруг Савоны к двадцатому жерминаля, оставив в Вольтри только бригаду Пижона вплоть до дальнейших распоряжений. Ваши солдаты возглавят наступление. А вы, Ожеро, сосредоточите свои отряды на побережье к тому же дню и будете готовы выступить через Сан-Джакомо на Каркаре. Вы, Серюрье, останетесь на прежней позиции в горах вокруг Ормеа, угрожая флангу пьемонтцев, если они решат выступить против нас в Каркаре. В нужный момент вы присоединитесь к наступающей армии, а небольшие отряды Маккара и Гарнье останутся на своих местах, охраняя дальние перевалы на востоке и защищая прибрежную дорогу. Эти перевалы останутся под снегом ещё несколько недель.
Генералы озадаченно переглянулись. В этом главнокомандующем было что-то новое. Он знал всё гораздо лучше, чем они, находившиеся в этих местах уже многие месяцы. Ему удавалось всё держать в голове. Он сам ещё никогда так не восхищался своей великолепной памятью. Казалось, что каждый пункт плана появлялся перед ним в нужный момент, возникал из какого-то неиссякаемого источника внутри него самого, в то время как весь план настоящего и будущего со всеми его взаимосвязями лежал перед ним, словно открытая книга.
Наконец Бонапарт сложил карту.
– Я думаю, этого достаточно, господа, – сказал он. – Мы понимаем друг друга и добьёмся успеха. Италия будет нашей. Армия бедствует, и её боевой дух слабеет, но это армия испытанных солдат. Перед ней лежат богатства Италии. Под руководством таких генералов, как вы, она совершит даже невозможное, а наша победа не только возможна, но и неизбежна. В будущем вы будете получать мои распоряжения через генерала Бертье, а теперь идите и согласуйте с ним свои действия.
Разговор подошёл к концу. Генералы встали. Он взглянул на ветеранов. Удалось ли ему завоевать их доверие? Пока ещё нет. Им нужно было больше слов, убедительных и логичных. Его корсиканский акцент был против него. На смуглом худом лице Массена играла язвительная усмешка. Старый Серюрье выглядел по-прежнему суровым и даже мрачным. Для них он был лишь красноречивым, оптимистично настроенным молодым человеком, неопытным в тяжёлом деле войны. И тем не менее он добился успеха; ему отчасти удалось преодолеть их скепсис, смягчить их враждебность. В том, как они прощались и отдавали честь, было заметно искреннее уважение. На мгновение Ожеро задержался в дверях и обернулся.
– Гражданин генерал, – по-военному грубовато сказал великан. – Рад служить под вашим началом. Я сразу могу отличить хорошего командира. – Он вновь отдал честь, ловко повернулся, как бывалый кавалерист, и вышел из комнаты вслед за остальными.
Молодой главнокомандующий мысленно улыбнулся. Ему уже насплетничали, что Ожеро насмехался над ним больше остальных.
Бонапарт достал из кармана часы и послал за секретарями. Была дорога каждая минута. До начала смотра войск ему едва хватит времени, чтобы отдать несколько приказов Бертье. Он не мог так быстро установить контакт с войсками и навязать им свою волю. Вошли и заняли свои рабочие места два секретаря. Он диктовал быстрее, чем они могли записывать. Но нужно было сделать очень многое, прежде чем армия придёт в боевую готовность. Время – противник, который никогда не прощает. Каких бы усилий это ни стоило, он развернёт военные действия прежде, чем старый Болье со своими австрийцами и более умный Колли с пьемонтцами успеют даже подумать о такой возможности. Он ходил по комнате взад и вперёд, диктуя то одному, то другому секретарю, а они прилагали все усилия, чтобы поспеть записать за ним всё.
Вошёл ординарец и сообщил, что лошадь готова. Он бросил несколько последних фраз секретарям, поправил широкую трёхцветную ленту и поспешил спуститься по лестнице.
На улице стояли двое его адъютантов, держа лошадей под уздцы. Одним из них был Жюно, другим – красивый и сумасбродный Мюрат. Это он, будучи капитаном Двадцать первого стрелкового полка, на рассвете исторического дня вандемьера помчался и успел захватить столь необходимые тогда пушки. Это он, встретившись с Бонапартом три недели тому назад уже в форме бригадного генерала, сказал:
– Гражданин генерал, я вижу, что у вас нет полковника-адъютанта. Я мог бы сопровождать вас в Италию в этом качестве!
И он – конечно, не без поддержки Жюно и Мармона, но главным образом благодаря своей наглой самоуверенности – всё же получил это назначение.
Все трое сели на коней и поскакали рысью по главной улице. Запрудившие мостовую и тротуары жители Ниццы оживлённо занимались своими делами и либо совсем не обращали на них внимания, либо презрительно сплёвывали сквозь зубы. Им уже порядком надоели эти несносные французы. У многих из них, вероятно, были друзья или родственники среди свирепых мятежников и роялистских разбойников, грабивших любой транспорт, двигавшийся без военного сопровождения.
На площади Республики, в архитектуре которой, подобной итальянским «пьяцца», присутствовало множество аркад, выстроилась та часть армии, которая была расквартирована в Ницце – два неполных полка пехоты, полк гусар (тоже в неполном составе) и четыре батареи. Когда Бонапарт въезжал на площадь, оркестр начал играть «Марсельезу», а знаменосцы подняли свои прожжённые порохом знамёна. Он осадил коня и подождал, пока не закончится этот республиканский гимн – гимн первых героических лет, подходивших к концу. Войска стояли неподвижно. Шеренги пехотинцев в старых, потерявших форму треуголках, в залатанных, обветшалых кителях, в самых разномастных брюках. У половины не было форменной обуви. Некоторые были в сабо; другие обвязали ноги какими-то лохмотьями; третьи стояли просто босиком! Только элитные отряды гренадер в коротких киверах из медвежьих шкур и в плотно облегающих трико поверх гетр напоминали о военной гордости. Он знал гренадер как самых яростных зачинщиков всех беспорядков и мятежей. Гусары в оборванных, поблекших доломанах, со свисавшим оружием, с заплетёнными в косы и варварски выбивавшимися из-под конусообразных меховых шапок длинными волосами сидели на тощих как скелеты лошадях и явно не годились на роль боевой кавалерии. Артиллеристы, стоявшие рядом с пушками и одетые во что-то блёкло-синее, отороченное тускло-красным, больше напоминали потрёпанных мастеровых, нежели солдат. Выражение их лиц с выступавшими скулами и запавшими глазами вполне сочеталось с их длинными, уныло свисавшими усами. Вот так армия!
Он смотрел на них, а они смотрели на него. В полном молчании. В их рядах не чувствовалось никакого воодушевления. Он казался им ещё одним бездарным главнокомандующим – низкорослым, тщедушным, худым. Ничто в его внешности не говорило о принадлежности к гордому воинству. Он выглядел шутом. Они уже вдоволь посмеялись над этим генералом-политиком из Парижа – почти все тут были южанами, и Париж казался им далёким и страшным – генералом, свалившимся как снег на головы их боевых командиров, которых они давно и хорошо знали. Он тут долго не протянет. Никто не удерживался надолго во главе этой несчастной голодной армии, заброшенной в дальний, всеми забытый закоулок военных действий. Он чувствовал волну враждебности и насмешливого презрения, исходившую от этой массы одетых в рваную форму постоянно голодных людей, которые в течение многих лет видели, как бессмысленно умирали их товарищи за редкие и никому не нужные победы.
Но если эта армия не знала его, то он хорошо знал эту армию. Та армия, какой он её знал, была лучшим инструментом войны. Война – это в первую очередь внутренний настрой солдат; конечно, экипировка важна, но она на втором месте. А душа этой армии только и ждала, чтобы кто-нибудь возглавил её и направил людской гнев, злобу, раздражение в нужное русло. Они слишком изголодались. В армии ещё были живы иллюзии первых лет Революции. Несмотря на интриги роялистов, пользовавшихся их нищетой, эти солдаты были верны духу тех патриотов, которые бросились к границам, чтобы защитить родину в минуту опасности. Революция сохранила для них романтический ореол, они верили в её великую миссию в деле свержения тиранов и освобождения мира от старых оков силой оружия, верили в перерождение закабалённых народов, в мистическое крещение Свободой, Равенством и Братством. Когда-то он сам разделял эти идеи и теперь цинично понимал их значимость. Солдатам без идеи, без мечты – грош цена. За несколько су в день человек не стал бы убиваться. Им нужен идеал. Он даст им этот идеал, он будет зажигать их сердца тем пламенем, которое так сильно пылало в нем самом. Он превратит их гнев, их мечты в неутолимую жажду Великой Славы, рядом с которой их маленькие человеческие жизни потеряют значение. Он обрушит этих преображённых его волей фанатиков на лишённых вдохновения наёмных солдат врага!
Так думал он, проезжая ряды войск, а его быстрый взгляд замечал все недостатки в экипировке, которые требовалось устранить позднее. Службы тыла требуют особого внимания. Пока Бонапарт ехал верхом, он успел понять причины недовольства солдат и то, какие приказы теперь возымеют действие.
– Солдаты! – прокричал он.
Это было ново. К солдатам Революции обращались «граждане». Это слово выведет их из апатии. Он увидел, как несколько усатых лиц повернулось в его сторону. Он старался говорить как можно громче, пытался придать голосу такой тембр, чтобы он эхом отзывался в окружающих аркадах, в окнах, откуда выглядывали любопытные женщины. У него не было опыта выступлений перед солдатами, и он осознавал этот недостаток.
– Солдаты! Условия, в которых вы находитесь, вызывают во мне жалость и гнев! Позор, что доблестно сражавшиеся солдаты Революции брошены в таком бедственном положении! Я сделаю для вас всё, что смогу – я уже распорядился доставить продовольствие, и скоро вы будете получать регулярное питание. Вы получите также часть не выплаченного вам жалованья. Уже кое-что, но этого мало. Нации предстоит вступить в схватку со многими врагами. Можно ли желать большего? Вы оборваны и голодны. Я поведу вас в Италию. Её плодородные долины, её богатые города станут вашей добычей. Там вы сможете удовлетворить любое ваше желание...
Солдаты заухмылялись. Взрыв хохота прервал её речь. Эта армия уже не раз слышала сказку об Италии. Из строя послышались выкрики:
– Башмаки, башмаки! Эй, Малыш! Сперва подай нам обувь, в которой мы туда дошлёпаем!
Он сдерживал лошадь, беспокойно переступавшую с ноги на ногу из-за этих криков, из-за усиливавшегося шума, и попытался говорить ещё громче.
– Я дам вам всё необходимое – всё, что смогу! Остальное вы должны взять сами. Ваши дисциплинированность и отвага добудут вам всё, что нужно! – Этот проклятый корсиканский акцент... Заметен ли он в этом гаме? – Вашим страданиям наступил конец! Я поведу вас к победе, к славе, к завоеванию богатейшей в мире страны!
Наконец возгласы, перемежавшиеся с насмешливыми жестами самых смелых, окончательно стихли. Ему не удалось расположить к себе этих худых и оборванных людей – они уже наслушались красивых слов. Они требовали действий, нуждались в них. Но они ещё увидят, к каким чудесам он их приведёт...
Галопом он поскакал к генералу Гюйо, командиру бригады.
– Генерал, прибыл запас обуви, и ваша бригада получит завтра первую партию. – Голос его был резким от гнева. – Я заметил, что вашим солдатам недостаёт многого из экипировки. Это можно легко исправить и получить необходимое на складе. В частности, патронташи и ранцы – то, что им нужно в первую очередь. У многих ржавые мушкеты. У других погнуты штыки. Солдаты, не заботящиеся о своём оружии, плохие солдаты. Плохие солдаты – это вина плохих офицеров, а плохие офицеры – вина плохих командующих. Недисциплинированные части представляют угрозу для собственной армии. Ваша бригада нуждается в муштровке, в большой муштровке. Сейчас она бесполезна для военных действий. Я проведу новый смотр через четыре дня. Надеюсь, бригада будет готова для начала кампании по всем статьям. Парад, разойдись!
Он направился обратно в штаб. Жюно и Мюрат скакали за ним. Было слышно, как на площади оркестр громко играл отрывистый марш Революции. Несмотря на досаду от унизительного поражения при первой встрече с солдатами, он суеверно расценил звуки этого марша как доброе предзнаменование. Скоро пушки загрохочут, загремят... Всё будет хорошо. Он приложит для этого все силы. Он вдохновит армию, зажжёт её собственным пылом. Он осмотрит каждое подразделение и выступит перед ними, чтобы все его знали. «Вы раздеты, голодны, лишены всего! А за этими горами – равнины Италии!» – подчеркнёт он. И когда они поверят, то устроят ему овацию и последуют за ним куда угодно.
Через четыре дня прибудут новые подразделения, будет полезно провести на площади Революции новый смотр. Он вновь обратится к ним с пламенными речами. Возможно, у него ещё нет опыта и он не сможет покорить их искусством слова, но он никогда не выдавал себя за оратора. Этот проклятый корсиканский акцент... Наверно, было бы неплохо во время речи раздать солдатам отпечатанное воззвание, которое они могли бы читать и перечитывать. Это был бы звук горна, призывающего их к великим свершениям, к славе. И пока он ехал на коне, живые слова стали складываться в его голове в отточенно ясные и скупые фразы:
«Солдаты, вы раздеты и плохо накормлены... Ваша выдержка, ваша храбрость, которую вы проявили среди этих скал, поразительны, но они не принесли вам славы...
Я хочу повести вас в самые плодородные долины мира... Там вы обретёте честь, славу и богатство. Солдаты Итальянской армии, разве вам не хватит мужества?»
И вот он вновь, вместе с группой ординарцев, перед порталом дома на улице Франсуа де Поль. Часовой, небрежно подпирающий спиной стену, с мушкетом, поставленным между ног, не узнал его и не отдал честь. Он и не ожидал строгой дисциплины в этих вскормленных Революцией войсках, где солдаты, отстаивая республиканское равенство, обращались к офицерам на «ты». Он спрыгнул с лошади, поспешно поднялся по лестнице и вновь окунулся во множество ожидавших его дел. В действительности он мысленно решал эти вопросы всё время. И, возможно, наверху его ждёт письмо от Жозефины!
Курьеры прискакали в его отсутствие. Один из Парижа, другой из Генуи. Большие запылённые сумки лежали у него на столе. Он щёлкнул замком и открыл ту, что пришла из Парижа. Он бегло, но не без интереса просмотрел множество находившихся в ней писем. Сердце неприятно защемило. От Жозефины ничего не было. Она могла бы написать! Ей следовало написать! Она написала бы, если бы любила его так, как он её! Горькое разочарование охватило Бонапарта. Чем она занимается в этом далёком Париже? Он повернулся к сумке из Генуи. Там должно быть письмо от его брата Жозефа, в котором он сообщит, когда присоединится к нему. Среди кипы писем нашлось одно, свёрнутое в секретку с печатью, написанное хорошо знакомым крупным почерком – рукой маленькой Дезире-Эжени Клари, проживавшей сейчас у своей сестры и её мужа. Тогда, ещё до знакомства с Жозефиной, когда он намеревался стать членом семьи Клари, как это сделал Жозеф, он с жадностью набрасывался на её письма. Теперь он распечатал его с холодным безразличием. Он пробежал текст глазами. Наполеоном овладело удивление, и в нем шевельнулись угрызения совести.
«...Вы сделали меня несчастной на всю жизнь, и тем не менее я со свойственной мне слабостью всё вам простила. Теперь вы женаты! Бедной Эжени больше нельзя любить вас, нельзя думать о вас... Теперь моим единственным утешением остаётся сознание того, что вы убеждены в моём постоянстве, и мысль о смерти.
С тех пор, как я поняла, что не могу посвятить вам свою жизнь, она стала для меня настоящей пыткой... Вы женились! Я не могу привыкнуть к этой мысли, она убивает меня, я не могу пережить это. Я заставлю вас поверить, что верна клятве, данной мною во время помолвки, и, несмотря на то что вы порвали соединявшие нас узы, я никогда не обручусь с другим, никогда не выйду замуж... Я желаю вам счастья и процветания в семейной жизни. Желаю, чтобы жена, которую вы избрали, сделала вас таким же счастливым, каким собиралась сделать я. Вы этого заслуживаете. Но даже посреди радостей не забывайте Эжени и пожалейте её судьбу».
Он со вздохом отложил письмо. Бедная маленькая Дезире-Эжени! Наполеон и не подозревал, что она так серьёзно воспринимает их невинную связь, и полагал, что её долгое молчание означает только одно – он не подходит ей в мужья. Ещё полгода назад семья Клари казалась ему чересчур богатой! А теперь выясняется, что хоть он и разбил сердце Эжени, она преданно любила его. Он мысленно представил её в роли своей жены, сравнил с Жозефиной... Нет, она была всего лишь ласковым ребёнком. Она не смогла бы удержать его. Он не смог бы любить её так, как любил эту зрелую, опытную женщину, наполнявшую его сердце муками и радостями, восторгом и болью, но был бесконечно благодарен маленькой Дезире-Эжени. Насколько возможно, он постарается залечить нанесённую девушке сердечную рану и будет до конца жизни помнить, что в долгу перед ней. Если бы только Жозефина любила его так, как любит его этот ребёнок! Жозефина! Жозефина! Он сел за стол и быстро, едва разборчиво написал жене письмо, стараясь отогнать встававшие перед глазами картины парижских вечеринок, её томную чарующую улыбку, подаренную какому-нибудь разряженному щёголю.
Всего несколько драгоценных минут он потратил на письмо, затем вызвал секретарей и принялся, расхаживая взад и вперёд по комнате, диктовать им.
«Седьмого жерминаля, год Четвёртый. Генерал-майору Бертье. Ускорить реорганизацию полков. Я нахожу, что большинство ещё не достигло предписанного укрупнения. Оно необходимо, в противном случае мы начнём кампанию с бригадами, в которых нет порядка. Прикажите генералу Серюрье сосредоточить войска тремя группами – в Гарессио, в Ормеа и слева от Ормеа, вдоль Танаро. Дайте уполномоченному по провианту письменное распоряжение ускорить обеспечение этих остро нуждающихся бригад продовольствием. Прикажите генералу Ожеро сосредоточить основную часть своей дивизии между Финале и Лоано и принять все меры к её обеспечению. Кроме того, он должен выдвинуть легковооружённый полк к Фельино. Дайте указание генералу Массена оставить бригаду генерала Пижона в Вольтри до дальнейших распоряжений и наладить с ней постоянную связь, а также поддержать передовой отряд, движущийся на Монтеледжино и Кадибонский перевал, обеспечив взаимное оповещение и единство действий. Одновременно он со своим интендантом должен принять все меры по сбору припасов и достаточного количества вьючных животных в Савоне.
Штаб оставит Ниццу тринадцатого жерминаля и расположится в Альбенге пятнадцатого жерминаля...»
И так далее, и тому подобное – быстро, тщательно, с большим количеством самых подробных распоряжений.
Он неутомимо работал час за часом, а секретари, склонившись над бумагой, зевали от усталости. Ни одной минуты не должно быть потеряно. Время! Время!
Десятого жерминаля, ещё находясь в Ницце, он быстрым, небрежным почерком написал письмо гражданке Бонапарт, по-прежнему именуя её «гражданкой Богарне».
«Париж, улица Шантерен, № 6.
Я не провёл ни дня, не любя тебя. Я не провёл ни ночи, не сжимая тебя в объятиях. Я не выпил ни чашки чая, не проклиная своё честолюбие и жажду славы, которые удерживают меня вдали от смысла моей жизни. Я по горло в делах, стою во главе армии, объезжаю военные лагеря, но все мои мечты и помыслы только о тебе, обожаемая Жозефина; ты одна в моём сердце... Если я встаю среди ночи и принимаюсь за труды, то только потому, что это может приблизить день приезда моей нежно любимой, а ты в своих письмах от двадцать третьего и двадцать шестого вантоза называешь меня на «вы». Сама ты – «вы»! Ах, негодница, как ты могла написать такое письмо! Сколько в нём холода! Кроме того, от двадцать третьего до двадцать шестого – четыре дня. Что же ты делала, раз не писала своему мужу?., Ах, любовь моя, это «вы» и эти четыре дня заставляют меня жалеть о своём прежнем спокойствии и равнодушии... День, когда ты скажешь мне «я люблю тебя меньше», будет последним днём моей любви и моей жизни. Если моё сердце столь ничтожно, что я не могу рассчитывать на ответную любовь, то я разорву его на куски своими собственными зубами.
Жозефина! Жозефина! Помни то, что я тебе говорил: природа дала мне сильную и решительную душу. Тебя она создала из кисеи и кружев. Неужели ты разлюбишь меня? Прости, душа моей жизни: несмотря на то что в моём сердце столько обширных замыслов, оно целиком занято тобой, но страх за нашу любовь делает меня несчастным...
Прощай! Ах! Если ты стала любить меня меньше – значит, ты никогда не любила меня. И тогда я достоин только сожаления.
Бонапарт.
P.S. Войска в этом году неузнаваемы. Уже доставлены и распределены мясо, хлеб, фураж, и моя кавалерия скоро будет готова к наступлению. Солдаты проявляют ко мне невыразимое доверие. Ты одна огорчаешь меня. Ты одна и радость, и мука моей жизни. Поцелуй детей, о которых ты даже не упоминаешь. Это сделало бы твои письма в два раза длиннее и лишило бы ранних визитёров удовольствия видеть тебя в десять часов утра. О, женщина!!!»








