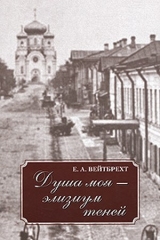
Текст книги " Душа моя - элизиум теней"
Автор книги: Евгения Вейтбрехт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
удивлению, ко мне вышла черноглазая, веселая девочка в институтской форме. Я даже
сразу не узнала свою дочку. Не ожидая моего вопроса, она с места в карьер объявила:
«Знаешь, мамочка, тут так весело, что совершенно некогда скучать». Она была веселого
характера, хохотушка, и большое собрание девочек одного с ней возраста ей понравилось.
Два раза в неделю были приемные дни. Мы никогда не пропускали случая повидать нашу
девочку и снабдить ее конфетами. В институте был установлен хороший обычай делиться
с подругами всем, что приносилось из дома. Поэтому маленькие порции не годились. Как
бы ни было дома плохо, сладкие вещи для Наташи покупались в первую очередь. Лето, двухнедельные рождественские каникулы и пасхальные каникулы наша Наташа проводила
дома. Горячие масленичные блины, тщательно упакованные, привозились ей в институт.
Лучшей ее подругой по институту была Вероника Мец, впоследствии жена
Бориса Александровича Струве , известного виолончелиста, а позднее профессора
Консерватории, скончавшегося в 1947 году.
Когда Оле минуло восемь лет, мы отдали ее в гимназию Таганцевой . По высокому уровню
хорошо подобранного учительского персонала и основательности знаний, даваемых
учащимся, эта гимназия считалась лучшей в Петербурге. В старшем классе этой гимназии
преподавателем западной литературы была моя двоюродная сестра, впоследствии
профессор Мария Исидоровна Ливеровская.
Удобна была для нас и территориальная близость гимназии. Серьезным препятствием
служила высокая оплата за учение – 150 рублей в год в первых трех классах и 200 рублей в
последующих. Плата в казенных учебных гимназиях была 60 руб. в год. Контингент
учащихся гимназии состоял из детей хорошо оплачиваемых на службе интеллигентов или
просто богатых культурных людей. Николай Арнольдович получал тогда зарплату
200 рублей в месяц и, чтобы оплатить годовое обучение Оли в четвертом классе,
приходилось отдавать месячный оклад. А когда через два года в ту же гимназию поступила
Нина, то мы за двух платили почти два месячных оклада. Кроме того, дети получали в
гимназии горячие завтраки, очень хорошие, но дорогие. Девиз «все для детей» был у нас
всегда решающим в вопросах их здоровья и образования. Кроме того неизменно шло
обучение детей музыке и двум иностранным языкам. Оля была очень способна к музыке, преподаватели говорили о Консерватории. Я никогда не забуду, как хорошо звучала в ее
исполнении «Лунная соната» Бетховена. Нина проявляла исключительную одаренность в
изучении языков. В детстве, до революции она свободно говорила на двух иностранных
языках. Английским она занималась после революции. Николай Арнольдович был
недоволен, что все, что он зарабатывал, я тратила на детей. Ему хотелось, чтобы я была
хорошо одета, имела хорошие вещи. «Посмотри кругом, – говорил он мне, – как у детей, когда они вырастают, мало развито чувство благодарности и как плохо они обычно
относятся к родителям». Такие речи я часто слышала и от других людей. У меня всегда
был один ответ: «Я своим детям дам все, что могу, и ничего не буду ждать в обмен».
Этот период вспоминается мне как один из самых светлых в моей жизни. Созданная мною
семья жила в атмосфере взаимного уважения и любви. Не помню, чтобы я когда-нибудь, рассердившись, повысила голос или произнесла бранное слово по отношению к детям или
прислуге, не говоря уже о муже. К прислугам у меня было особое отношение. Я считала
их членами семьи, и моя забота распространялась на всю их жизнь. Нечего говорить о
питании – они имели все наравне с нами. В моем хозяйстве всего было вдоволь, ничто не
запиралось и не контролировалось. Но был период, когда Ядвига плохо себя чувствовала, недомогала. Я устроила ей дополнительное питание – бутылку молока в день. Также
внимательна я была и к няне. Ревнивой Фране казалось, что дети любят веселую, молодую
Ядвягу больше, чем ее. Она приходила ко мне ябедничать: «Ядвига утром мажет себе
булку маслом», – докладывала она. «Очень хорошо, а почему же вы не мажете, масло
покупается для всех». Я смеялась в душе, дело было в том, что сама няня не любила
масла. Другой раз она высказала недовольство, что Ядвига угощает своих гостей вареньем.
Я опять ответила, что «пускай угощает, варенья у нас много, на всех хватит».
41
Няня два раза ездила в Олиту повидаться с матерью. Второй раз привезла с собой 14-
летнего сына, единственного из трех детей, оставшегося в живых. Он мечтал о профессии
портного. Николай Арнольдович устроил его учеником одного из лучших портных
Петербурга. Праздники он проводил у нас. Бедный мальчик не вынес и года пребывания в
Петербурге. Перемена климата оказалась для него губительной. Он буквально сгорел от
скоротечной чахотки. Мы с Николаем Арнольдовичем делали все, чтобы его спасти. Наша
няня очень горевала после смерти единственного сына. Почти в это же время она потеряла
и мать. По воскресеньям утром Франя уходила с молитвенником в костел и часто ездила
на кладбище, на могилу сына.
Про жизнь у меня няня и теперь, вспоминая, говорит: «У Евгении Алексеевны жила, как в
раю». Очень душевно привязана к нашей семье была и Ядвига.
Моя семейная жизнь до 1914 года текла в согласии и была проникнута теплой радостью.
Над нами сияло голубое небо и, если кое-где намечались тучки, то верилось, что они
рассеятся, не нарушая нашего покоя. Но ничто не могло остановить рокового течения
жизни.
По моим долголетним наблюдениям, в женщине всегда можно различить превалирование
одного из трех элементов: «женщина», «мать» или «человек». В себе я отмечала всегда
стремление быть, прежде всего, человеком, затем матерью и, в-третьих, женщиной. Был у
меня в жизни период, когда женщина боролась с матерью, стараясь стать с ней в одну
линию. Но стремление к благородству, порядочности всегда было выше всего другого.
Трудно определить начало, возникновение тяжелого периода моей жизни, который можно
назвать переоценкой ценностей. Все мои переживания этого периода носили характер
стихийности. Сохранить статус-кво велением воли и разума оказалось невозможным. Уже
в 1913 году меня, всегда бодрую и энергичную, стала понемногу одолевать какая-то тоска, апатия. Я и физически стала хуже себя чувствовать, похудела, побледнела. Часто после
бессонной ночи вставала с постели в состоянии физической и душевной прострации.
Теплая ванна материнства со всеми малыми делами и заботами удовлетворяла меня все
меньше и меньше. В обшивании детей мне очень успешно стала помогать Ядвига. В
1915 году младшая моя дочь поступила в гимназию. Дети учились хорошо, готовили уроки
самостоятельно. Гипертрофическое материнство, владевшее мною, начало казаться мне
жизненным банкротством. Особенно тяготила меня в последние годы бездеятельная жизнь
в Журавке. Совершенно изменилось отношение к этому моему бывшему земному раю. В
первые дни приезда весенняя природа попрежнему захватывала меня, и я с наслаждением
посещала любимые места. Но скоро все начинало меня тяготить, я считала дни и часы до
отъезда. Возможно, я в этот период злоупотребляла вниманием детей, зачитывая их,
правда, всегда на свежем воздухе, книгами, которые казались мне для них полезными.
Пробовала я лечиться гипнозом, но оказалось, что я совсем не поддаюсь усыплению. Мне
посоветовали лечиться успокоительными пассами. Такое бесплатное лечение проделывала
очень милая дама. Эти легкие прикосновения вдоль всего тела руками, излучающими
какую-то живительную силу, очень хорошо влияли на нервную систему, но не дошли до
моего, очевидно больного, жизненного центра. Психиатры предписывали мне покой,
усиленное питание и разные микстуры. Самой мне иногда казалось, что во мне
концентрируются какие-то новые потенциальные возможности и мучают меня, не находя
применения.
И когда пришла революция, волна жизни подхватила и бросила меня на большую,
интересную работу, дав мне громадное удовлетворение. Я поняла, чем я болела все эти
годы.
Уже давно самоучкой я овладела пониманием английского текста и читала английские
романы. И вот я занялась переводами и компиляциями с английского и французского.
Небольшие мои статьи печатались в «Современном слове», еженедельном приложении к
газете «Речь». Редактором этого еженедельника была милейшая Татьяна Александровна
Богданович, племянница писателя Короленко. Я имела свой небольшой самостоятельный
заработок.
Зимой 1914 года мне порекомендавали хорошую преподавательницу английского языка
мисс Спенс, и я стала брать у нее уроки. Эта немолодая девушка осталась у меня на всю
жизнь образцом прекрасного учителя и светлой души человека. Каждый урок она
диктовала мне и сама записывала в мою тетрадь по памяти большой материал детских
песенок, классической прозы и поэзии, поговорок, идиом, даже молитв, псалмов, которые
англичане хором поют в церкви. Весь этот материал, накопивишйся за несколько месяцев
наших занятий, я сохранила на всю жизнь, как драгоценность. И как он помог мне
организовать интересные и содержательные уроки, когда я сама стала
преподавательницей! Мои ученики высоко расценивали мои уроки, занимались у меня по
несколько лет, успешно изучая один язык за другим, и моя благодарная память всегда
обращалась к дорогой мне мисс Спенс. При преподавании других языков я использовала
ее метод привлечения к уроку разнообразного, интересного материала по данному языку.
Мисс Спенс увлекла меня своими вдохновенными уроками. Успешности занятий
содействовали и наши дружественные отношения. Придя на урок, мисс Спенс проводила у
нас много времени, завтракала с нами. Я бывала с ней в англиканской церкви и пела
псалмы вместе с другими прихожанами. Бывала я и на английских собраниях и чаепитиях
с чудесным печеньем. Изучение языка отвлекло меня от сложных личных переживаний
того времени. Осенью мисс Спенс хотела съездить в Лондон навестить свою мать, и я
собралась ехать вместе с ней, но разразилась Первая мировая война, было не до
заграничных поездок. Мисс Спенс уехала и больше не вернулась. Зимой 1915 года я
продолжила занятия английским языком. Преподавательница моя, тоже англичанка, была
совсем в другом роде. Не обладая большими теоретическими знаниями, она была очень
разговорчивая, и мы с ней болтали весь урок. Но мне и это было очень полезно. Через
несколько месяцев я настолько овладела английской разговорной речью, что
преподавательница стала передавать мне свои уроки с начинающими. Так у меня появился
заработок.
42
Николай Арнольдович, обеспокоенный моим состоянием, старался всячески баловать и
развлекать меня. Особенно тревожила его часто владевшая мной апатия. «Ты бы хоть
посердилась на кого-нибудь», – говорил он. Как-то он взял какую-то дополнительную
чертежную работу и на полученные деньги купил мне золотые ручные часики и уговорил
съездить в Кисловодск, где в это время находилась моя мачеха. В мае 1914 года я уехала, впервые за время материнства расставшись на две недели со своими детьми. Несмотря на
мои почтенные 38 лет, я выглядела так моложаво, что меня все принимали за «барышню», как тогда называли девушек. Был даже такой случай, что в вагоне меня спросили: «Как это
родители вас отпустили одну на погибельный Кавказ?».
Мачеха наняла мне комнату в доме рядом, а перейти через улицу – начинался знаменитый
Кисловодский парк. Лучшего места не придумать. В том же доме занимала квартиру
старинная знакомая Елены Георгиевны – вдова известного профессора А.П. Доброславина.
Его бюст был только что поставлен в Музее Медицинской Академии. С ней вместе жил ее
сын Борис Алексеевич, инженер, занимавший какое-то видное место на Кисловодских
Минеральных водах. Хорош был парк в своем весеннем убранстве. Хороши были
знаменитые «Красные камни». Порадовал меня какой-то животворящий воздух
Кисловодска, наэлектризованный испарениями нарзана. Но самое большое место в моих
кисловодских впечатлениях заняла семья Доброславиных. Мать – Мария Васильевна –
интересный человек, умница, прекрасная музыкантша, любимая ученица Рубинштейна.
Несмотря на возраст и пальцы, изуродованные подагрой, она виртуозно аккомпанировала
своему сыну, тоже хорошему скрипачу. В день приезда мачеха рассказала мне о своих
знакомых, предупредив, что сын – Борис Алексеевич – закоренелый 45летний холостяк, ненавистник женщин. Перед моим приездом Елена Георгиевна дразнила его: «Вот
погодите, приедет моя дочь, давайте пари держать, что влюбитесь». Он ни о каком пари и
слышать не хотел, уверенно говорил: «Нет на свете такой женщины, которая могла бы мне
понравиться». «Уж очень они, наверное, ему насолили», – смеялась Елена Георгиевна.
Знакомство наше состоялось в день приезда. Он был высокого роста с лицом средней
красоты, ничем не отмеченным. Когда мачеха нас знакомила, я даже немного
взволновалась. Мне пришла в голову мысль, что этот человек ненавидит женщин, значит и
я заранее обречена на его ненависть. Но дело обернулось совсем иначе. Уже вечером на
другой день моего приезда из открытых окон квартиры Доброславиных полились
чудесные звуки скрипичного концерта Мендельсона. «Знаешь, – сказала мне мачеха, –
ведь это концерт для тебя. Мы здесь живем вместе полгода и никакими силами мы с
Марией Васильевной не могли уговорить Бориса Алексеевича сыграть что-нибудь. Он
всегда отговаривался плохим настроением». Скоро обнаружилась моя полная победа –
«Veni, vidi, vici» (пришла, увидела, победила). Борис Алексеевич взял на несколько дней
отпуск, и мы много времени проводили вместе. Он был моим чичероне во всех прогулках
по Кисловодску. А вечерами или играли в винт, или наслаждались музыкой. Доброславин
мне определенно не нравился, но после 13 лет монастырской жизни возбуждающий воздух
Кисловодска давал себя знать. На все его признания я отвечала молчанием, которое он, очевидно, принимал за взаимность чувств. Я не была ни легкомысленной, ни кокеткой, но
мне так нравилось слушать его восторженные речи обо мне и о чувстве, на которое он
никогда не считал себя способным. И все эти речи произносились среди такой чарующей
природы! Жалко было нарушать очарование переживаемого момента.
Николай Арнольдович написал мне, что дети немного кашляют, и он велел держать их в
постели. Меня потянуло домой, я забеспокоилась и решила уехать двумя днями раньше, чем предполагала. Май кончался, надо было везти детей в Журавку. Борис Алексеевич
провожал меня до Пятигорска. Прощальный разговор в вагоне носил уже совершенно
конкретный характер. Необходим развод, трое детей его не пугают. Зимой он приедет в
Петербург. Почему я все молчала – не знаю. Наверно, судьбе было угодно, чтобы этот
эпизод пережился красиво до конца.
Разразилась первая мировая война, зимой Борис Алексеевич приехать не смог, отложил
приезд, а в 1915 году заболел тяжелой формой тифа и умер. Каково же было бедной
Марии Васильевне хоронить любимого сына. Все сведения о Борисе Алексеевиче я
получала от мачехи.
Николай Арнольдович занимал должность начальника какого-то ответственного отделения
Главного артиллерийского управления. Поэтому война 1914 года, сделав его работу еще
напряженнее и ответственнее, внесла улучшение в наши финансы. Он стал получать
ставку 250 рублей в месяц и еще наградные. В марте 1915 года я совершила свое второе
путешествие – на этот раз в Ялту, где тогда проживала Елена Георгиевна. Я уехала от
наших мартовских морозов и снежных бурь. В Ялте все цвело и благоухало. Сказочно
красивы были городские сады, белоснежные массы цветущих фруктовых деревьев,
освещенные ярким солнцем юга. Но в Ялте, также как в Кисловодске, я ясно
почувствовала, что южная природа, сначала поразив своей нарядной и яркой красотой, быстро вызывает во мне чувство пресыщения. Недаром Чехов где-то называл ее
бутафорской. Очевидно, нам северянам, живя на юге, присуще испытывать тягу к нашим
привычным, милым сердцу левитановским пейзажам. До поездки в Ялту я никогда не
загорала, но из Крыма вернулась коричневая и с тех пор стала загорать, как только
начинает припекать весеннее солнце.
Я чудесно провела время в Ялте, взбиралась на Ай-Петри, каждый день по несколько
часов сидела на набережной, любуясь голубыми красками Черного моря. У мачехи
оказались знакомые, с которыми я едила на экскурсии вокруг Ялты. Совершенно
неподготовленная к быстро наступающей темноте Крыма, я испытала очень неприятный
момент. Я с детства очень плохо вижу в темноте – кажется, это состояние называется чем-
то вроде куриной слепоты. Как и в Кисловодске, мачеха наняла мне комнату недалеко от
себя. В первый же вечер, когда я вышла от нее, чтобы пройти в свою комнату, на меня
вдруг сверху опустилось черное покрывало. Меня обуял какой-то ужас, и я ощупью,
держась за стены домов, вернулась к мачехе и попросила ее проводить меня. Больше я по
вечерам в Ялте не выходила.
43
В 1916 году на нечетной стороне Фонтанки, близ Невского, было организовано какое-то
англо-русское общество, не помню точно, как оно называлось. В нем деятельное участие
принимал Корней Иванович Чуковский . Там мне удалось получить перевод
антимилитаристической книги. Я перевела, получила деньги, но, насколько мне известно, книга никогда не была напечатана. На заработанные деньги я сшила себе хорошее платье и
снялась.
В этот период у моего двоюродного брата Всеволода Исиодоровича Борейши
устраивались интересные, оживленные вечера. Известный в то время адвокат
Михаил Виллиамович
Бернштам покровительствовал тогда моему кузену и рекомендовал его своим клиентам. У
Всеволода Исидоровича хорошо пошли дела. Жена его к тому времени окончила
Консерваторию. Гостеприимный хозяин, Всеволод Исидорович умел хорошо, красиво
принять, угостить и повеселить своих гостей. Всегда было много пения, музыки, я с
большой охотой посещала эти вечера и обеды.
5. Революция
И вот пришла февральская революция. Мне теперь кажется странным, насколько тот слой
мыслящей интеллигенции, к которому я принадлежада, был мало подготовлен к
Октябрьской, настоящей революции. Мы слыхали о Ленине как об авторе научных книг, но не как о вожде рабочей партии большевиков. Да и о большевиках мы почти ничего не
знали. Поэтому моя кузина Екатерина Исидоровна и я, далекие от политики, приняли с
большим энтузиазмом свержение монархии и февральскую революцию. Длинные
разговоры вели мы с ней по телефону, делясь всем виденным и слышанным. О Керенском
мы тоже ничего не знали до момента прихода его к власти, никогда не задавали себе
вопроса, почему Керенский, а не кто другой, стоит во главе революции. Ни в чем еще не
разбираясь, мы ответить на этот вопрос все равно не могли бы.
Внешне наша жизнь текла по-прежнему. До меня дошли сведения, что министром
просвещения назначен Константин Григорьевич Голубков, гатчинец, мой товарищ
детства. Мысль получить большую, интересную работу по-прежнему не покидала меня. Я
пошла к Голубкову. Насколько помню, он принял меня в большом здании на Казанской
улице. Через несколько месяцев там организовался Комиссариат просвещения. Голубков
отнесся сочувственно к моему желанию работать и провел меня к своей помощнице,
сидевшей в комнате рядом. Фамилии этой дамы я не помню. Узнав о моем знании
английского языка, она предложила мне написать статью, вернее доклад о крупном
английском деятеле по детской беспризорности – докторе Бернардо . Указала, где достать
источники. Бернардо был просто добрый человек с большой инициативой. Совершенно
случайно он пожалел и подобрал беспризорника, окружил его заботой и вниманием. Затем
у него появился другой мальчик, отбившийся от семьи. Имея на руках двух питомцев, доктор Бернардо задумал собрать средства и организовать учреждение для
беспризорников. Идея получила большую популярность, богатые люди охотно давали
деньги, и скоро вся Англия покрылась сетью домов для беспризорных детей. Макаренко, автор «Педагогической поэмы», основатель и руководитель знаменитой школы для
беспризорников, своим интересом к этому делу напоминал доктора Бернардо.Я выполнила
порученную мне работу и сдала рукопись помощнице Голубкова. Она просила меня зайти
к ней через две недели. Но это было уже перед самым Октябрем. Про участь рукописи я
ничего не знаю. Дело, основанное на благотворительности, не могло вызвать интереса
пришедшей на смену советской власти... Я побывала в семье Голубкова.
Константин Григорьевич был женат на гатчинской девушке Лиде Киселевой, я знала ее по
гимназии. У него было четверо детей. После прихода советской власти он с семьей бежал
в Париж, там, по слухам, увлекся француженкой и, бросив семью, женился на ней.
Лето 1917 года, как и многие последующие, мы провели в чудесном месте рядом с
Ориенбаумом, в лоцманском селении Лебяжье. Тут было все, что требуется для хорошего
дачного места – песчаный пляж у залива, чудесный сосновый бор, а невдалеке мой
любимый смешанный лиственный лес. Кругом засеянные поля, луга, живописный
скалистый берег тянется вдоль залива. Это было старинное гнездо семьи Ливеровских. В
большом двухэтажном доме жила одна из них – добрая, радушная хозяйка
Зинаида Васильевна – тетя Зина, как ее звали кругом. Летом к ней обычно наезжали
родственники и наша семья в том числе. Наличие коровы давало ей возможность кормить
нас вкусно, сытно и дешево.
В тяжелые годы с 1918 по 1922 нам, как и всем, было, разумеется, не до выездов на дачу.
Рассыпался наш родственный кружок. Бурцевы, Ливеровские, Всеволод Исидорович
Борейша в панике побросали свои гнезда и разлетелись по Союзу. В пути они перенесли
невероятные мытарства в переполненных до отказа вагонах. Вернувшись через два-три
года, они не нашли ни своих квартир, ни обстановки. Приходилось начинать жизнь
сначала. Правда, такого голода, как мы, они не испытали, но зато мы были дома и спали на
своих постелях. Я считаю, что мы поступили разумнее.
Октябрьская революция, коренным образом изменившая жизнь, пришла стихийно и
властно ломала и выбрасывала все, что ей мешало. Наш дом стоял в самом центре
рождения революции, угол Воскресенского проспекта – теперь улицы Чернышевского – и
Сергиевской улицы, теперь улицы Чайковского. Мы жили в первом этаже, наши окна
выходили на Сергиевскую совсем низко над панелью. И день, и ночь около наших окон
шло беспрерывное движение пеших и конных людей. Казалось, вот-вот, и какая-нибудь
лошадь коснется копытом наших стекол, выбьет их, и мы сольемся с жизнью улицы.
Беспрерывная стрельба вокруг дома тоже могла иметь для нас пагубные последствия.
Несколько дней мы провели на вулкане, готовом взорваться каждую минуту.
44
Но эти несколько бурных дней миновали, не причинив нам никакого вреда, кроме
беспокойства, волнений и бессонных ночей.
Незадолго до октября Т.А. Богданович заказала мне для нее несколько компиляционных
статей об Индии для «Современного слова». Я жадно ухватилась за работу, сдала две
заметки (о буддизме и о положении женщины в Индии) и не успела запастись источниками
для остальных статей, боясь, что в тревожные дни мы все будем прикованы к своим
домам, я в первый же день революции отправилась в Публичную библиотеку за книгами.
Мне удалось получить на дом две толстых книги об Индии Олендорфа в чудесном
издании. Схватив свою драгоценную ношу, я быстро помчалась домой. В городе было уже
очень неспокойно. Проходя по Невскому, я видела, как рабочие останавливали трамваи и
из них строили баррикады. Мне удалось благополучно добраться до дому. «Теперь я могу
сесть за работу». Дома у нас всегда были небольшие запасы провизии. Недели на две мы
были обеспечены, конечно, самым необходимым. У меня был обычай каждое 20е, после
получки, закупать провизию на целый месяц.
Война шла. Главное артиллерийское управление бесперебойно продолжало свою обычную
работу. Николай Арнольдович проводил на службе большую часть дня. Один раз мы были
в большом беспокойстве. Был уже поздний вечер, он не возвращался. Тяжелые мысли
приходили в голову. Уложив детей спать, мы с няней сидели пригорюнившись и ждали его.
Он пришел поздно ночью. На возвращение домой он вместо обычных 1015 минут
потратил несколько часов. Везде войска, патрули, пришлось делать обходы в несколько
километров.
Дело в том, что ходить по улицам можно было только до определенного часа, а
Николай Арнольдович всегда долго засиживался на работе. Поздних пешеходов
безоговорочно забирали в милицию и только там выясняли их личность. Все было так
смутно, неорганизованно. Этот день был особенно беспокоен и на службе. Несколько раз
приходили группы уполномоченных рабочих проверять документы служащих.
Николай Арнольдович тут же ночью рассказал нам с няней, как один из его сослуживцев, заслышав шум входивших рабочих, в испуге спрятался под стол. Когда они ушли, он
вылез из своего убежища и бледный, дрожащим голосом объяснил свое поведение: «Я
нечаянно свалился под стол».
Дни шли за днями. В городе стал водворяться порядок. Жители стали понемногу
выползать на улицу. Новые формы обращения вызывали недоразумения. Помню, я была
свидетелем такого разговора на улице: милиционер обратился к женщине, переходившей
дорогу: «Гражданка, здесь нельзя переходить». В ответ послышался голос, полный
негодования: «Какая я тебе гражданка, я не гражданка, а мужняя законная жена!».
Когда после домашнего заключения я собиралась выйти на улицу, няня остановила меня.
«Барыня, снимите шляпу, наденьте платок, теперь все так ходят». Я не пошла на подделку, сохранила свой прежний внешний вид. Но как трудно было втолковать няне, чтобы она не
называла меня барыней. Я объясняла ей, что революция всех сделала равными, и господ
больше нет. Она долго упорствовала. Провизия наша приходила в концу. Костлявая рука
голода надвигалась на молодой Советский Союз. Деньги, жалованье перестали быть
ценными. Чтобы прокормиться надо было измышлять какие-то новые формы жизни.
Правительство могло выдавать жителям только по четверть фунта хлеба на человека.
Вскоре была объявлена новая установка жизни – «Кто не работает, тот не ест». Четверть
фунта хлеба стали получать только работающие и их иждивенцы.
По просьбе Николая Арнольдовича меня устроили делопроизводителем в Главное
артиллерийское управление. Я была очень довольна и пробыла на этой работе почти год.
Деревни в то время были полны хлебом и всякими съестными припасами. Крестьяне
охотно меняли свои запасы на городские платья, пальто, мебель. Но нашей семье эти
поездки по деревням в целях обмена были и не под силу, и не по уменью. Один раз
Наташа с няней съездили куда-то и привезли немного сметаны, творогу, яиц. Но было
ясно, что для нас это не выход из положения. У меня созрел план печь белые булочки и
продавать их на улице. Конечно, весь он упирался в нянино кулинарное умение и
работоспосоность. Я пошла к людям, которые занимались этим делом, узнала все условия
и сообщила их няне. Она, как человек консервативного склада ума, неприемлющий ничего
нового, наотрез отказалась. Мне пришлось поговорить с ней очень серьезно и
категорично: «Нам сейчас живется настолько плохо, что держать вас, как прислугу, мы не
можем. Вам остается на выбор – или, живя с нами, кормиться отдельно от нас, зарабатывая
себе питание поденной работой, или остаться с нами, как член семьи, и подчиниться моим
требованиям. Если мы будем жить по-старому, то погибнем от голода. Надо придумать
что-то новое, и это я беру на себя».
Няня как-то осознала серьезность положения и согласилась на мое предложение. Дело у
нее пошло. К счастью, в доме было запасено много дров. Мы всей семьей доставали муку, няня ночью или очень рано утром выпекала сотню булочек. Днем она продавала их сама
или находила подручных, которые это делали за известное вознаграждение. Дело это было
очень рискованное. Разумеется, вся ответственность падала на нас. Однажды подручная
попала в милицию, мы получили извещение явиться туда для объяснений. Я уже
собралась идти, но Николай Арнольдович категорически воспрепятствовал: «Оставайся, ты нужнее детям. Я пойду». С него взяли слово, что мы больше не будем заниматься этим
делом, и отпустили.
В это время Николай Арнольдович вместе с частью ГАУ перебрался в Москву, где и
пробыл почти год. Отъездом его завершился тяжелый период наших отношений. Мы оба
прошли через большие страдания. Сохранив на всю жизнь взаимное уважение и дружбу, мы закрепили свободу для каждого из нас на раздельную личную жизнь.
Николай Арнольдович воспользовался свободой значительно раньше меня, он нашел себе
новую жену в лице хорошего человека – Софии Петровны Кучиной, с которой и прожил
двадцать лет, причем первые десять лет с 1921 по 1931 год мы с ним и детьми продолжали
нашу общую семейную жизнь.
45
В трудные минуты жизни у меня всегда оказывалось достаточно мужества и сил для
борьбы. А борьба в то время была не на жизнь, а на смерть.
В 1920 году по желанию детей мы перебрались с первого этажа в большую квартиру в
восемь комнат на третий этаж того же дома. Такая большая квартира дала нам всем
возможность устроиться очень удобно. И пока Николай Арнольдович, выйдя в отставку, не
потерял права на эту прекрасную квартиру военного ведомства, мы продолжали жить все
вместе.
Возвращаюсь к нашим булочкам. Раз как-то нас предупредили, что к нам придут с
обыском. Мы разнесли запасы муки по знакомым, целую неделю не пекли, ожидая гостей.
Особенно тревожно было ночью. Но все обошлось благополучно, никто не пришел, и все
пошло по-старому.
Каждый шаг няниной геройской работы требовал неустанного внимания и управления.
Она, например, никогда не могла понять, что, если мука дорожает – а она дорожала все
время – то и булочки надо продавать дороже. Каждый такой случай она рассматривала с
точки зрения покупателя, жалела его, скандалила и уверяла, что такие дорогие булочки
никто не будет покупать. «Тогда мы прекратим это дело и придумаем что-нибудь другое»,
– говорила я.
Это тоже была борьба. Меня очень утомляло и раздражало ее упрямство и неспособность
понять азбуку торгового дела.
Нянины булочки славились во всем районе. У нас появились покупатели, которые сами в
определенный час приходили за булочками. Между ними был известный художник
Эберлинг, живший напротив нас. Он обычно приходил за булочками утром, когда я была
на работе, мы с ним не встречались. Художник видел моих дочерей и высказывал няне
восхищение их наружностью. Как-то летом он просил меня через няню разрешить Олечке
позировать ему в какой-то его картине из греческой жизни. «Старшая ваша барышня
красивее, но мне для моей картины нужна вторая», – сказал он няне. Предложение было
очень лестное, но через несколько дней я уезжала в служебную командировку в Гдов и, разумеется, брала с собой девочек. До отъезда мы с Олечкой один раз были у художника, по его приглашению. Затем мы уехали, и тем дело и кончилось.








