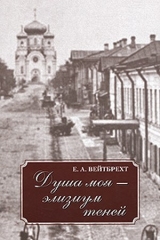
Текст книги " Душа моя - элизиум теней"
Автор книги: Евгения Вейтбрехт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
балкон. Он обратился ко мне с такими словами: «Евгения Алексеевна, вы все упрекаете
меня, что я не привожу новостей из города. Так вот вам новость: сегодня ночью немцы
перешли границу и вторглись на нашу территорию». Рядом с ним стояла ледная, как
смерть, Анна Адриановна. «Мы пропали», – повторяла она со слезами в голосе. Внутри
меня что-то задрожало и заныло, но в такие минуты я всегда сохраняю наружное
спокойствие. «Что вы, что вы, с нашей Красной армией мы никогда не пропадем!» – бодро
ответила я на ее полный отчаяния возглас, и какими пророческими оказались мои слова.
Испуг от страшной вести о начале войны как-то странно сменился разрядкой
ненормальной веселости. За обедом нас смешила до упаду Анна Адриановна, рассказывая
разные эпизоды из своей жизни. Эта маленькая толстушка, немногим младше меня,
сохранила до глубокой старости жизнерадостность и заразительную веселость. Мы
хохотали так, как будто бы стремились истратить весь наличный запас смеха,
предчувствуя грядущие бедствия.
заразительную веселость. Мы хохотали так, как будто бы стремились истратить весь
наличный запас смеха, предчувствуя грядущие бедствия. Черкасовы тогда только что
приобрели прелестный маленький «Форд» (при эвакуации Николай Константинович отдал
его в распоряжение правительства). И вот часов в 7 вечера, когда мы все были в
недоумении, что нам делать, у дачи появляется «Форд» с Николаем Константиновичем.
Сильно встревоженный, он приехал, чтобы забрать нас в город. Он рассказал, что в
Ленинграде вводится осадное положение, в окрестностях летают и сбрасывают бомбы
германские самолеты. Дорогой мы видели их собственными глазами, но проскочили
благополучно. В автомобиль, который проезжал по той же дороге через час после нас, была сброшена бомба. Возвращался с дачи какой-то генерал, ему оторвало обе ноги,
шофер был убит, от автомобиля ничего не осталось. Об этом я случайно слышала разговор
на другой день в «Гастрономе», где покупала провизию.
74

Анна Адриановна Черкасова.
Мы застали Нину в большой панике – как быть, куда спрятаться с ребенком, чтобы быть в
безопасности. Подъехали муж Оли Владимир Владимирович Щербинский, Воробейчиков.
Судили, рядили долго. Владимир Владимирович убедил Черкасовых поехать пожить в
Толмачеве, где на арендуемой им даче жила в то время его мать. Я находила эту поездку
безрассудной – спасаться от врага, идя ему навстречу. Все кое-как улеглись спать. Одна я
не ложилась и просидела всю ночь на диване, слушая радио. Меня тревожил еще
невыясненный вопрос о позиции Англии и Америки. Уже в ночных известиях 22 июня
было сообщение о выступлении этих двух стран в союзе с нами против Германии. Я както
сразу успокоилась и с той ночи и до самого конца войны была твердо уверена в нашей
победе, никогда в ней не сомневалась. Когда немцы захватывали наши города и области, я
всегда неизменно говорила: «Это ненадолго, все возьмем назад», поражая домашних своей
непоколебимой верой.
В ту же ночь с 22 на 23 июня после последних известий по радио передавали I концерт с
роялем Чайковского. Прочно, на всю жизнь, когда я слушаю эту божественную музыку, я
мысленно переношусь в ту тревожную ночь, первую после объявления войны.
Утром Черкасовы, послушав совета Щербинского, отправились с Андрюшей в Толмачево.
Пробыли там несколько дней и вернулись, поняв, что безопаснее всего в то время было
пребывание в городе, который охранялся от налетов. Действительно, до нашей эвакуации
20 августа на город не было допущено ни одного налета.
Утром 23 июня я вернулась в свою комнату. Как провела я эти почти два месяца до выезда
из Ленинграда? Внешне я как будто была спокойна, часто, как всегда, навещала своих
дочерей, попрежнему обедала в вегетарианской столовой, но внутри меня какое-то
гнетущее беспокойство вызывало явно ненормальные психические поступки. Такое
совершенно больное отношение проявлялось у меня к двум предметам моего жизненного
обихода. Выходя на улицу, я надевала на голову довольно большую черную шляпу, на руке
у меня были золотые часы Longine на золотой плетеной цепочке (подарок Николая
Арнольдовича). Не проходило и 10 минут пребывания на улице, как я снимала шляпу и, повесив ее за резинку на руку, так продолжала свой путь. С руки я снимала часы и клала
их в сумочку. Я отдавала себе отчет в ходе мыслей, стимулирующих эти поступки: «Там
воюют, а я в такой большой шляпе, а у меня на руке такие дорогие часы». Мне казалось, что на меня смотрят и осуждают.
Мою дочь Олю вместе с ее сослуживцами посылали за город рыть окопы. Как-то вечером
ко мне зашла моя приятельница Лидия Евгеньевна и передала слухи о том, что на поезд, в
котором, как я предполагала, выехала Оля, брошена бомба, и много жертв. Мой
радиоприемник, по общему распоряжению, был сдан на хранение. В сильнейшем
беспокойстве я пролежала в постели до половины шестого утра, а затем надела халатик и
быстро направилась к углу Восстания и Жуковской, где находился громкоговоритель.
Оказалось потом, что моя тревога была напрасной. Олечка поехала другим поездом. По
дороге я, как всегда, сняла часы и сунула их в карман. Села на скамейку около
громкоговорителя и стала ждать первых утренних известий. Хотела посмотреть, который
час – часиков в кармане не оказалось. Обнаружила я, что в кармане халатика была
небольшая дырка. Сзади меня шли два милиционера, в такой ранний час больше прохожих

не было. Я спросила их, не подняли ли. Разумеется, ответ был отрицательный.
Материальные потери всегда мало трогали меня, но часики прожили со мной 30 лет и уже
сделались моим как бы другом. Я немного огорчилась, но быстро нашла утешение.
Древние греки, чтобы умилостивить богов, выезжали на лодках на середину реки и
бросали в воду драгоценные вещи. Вот и я, по их примеру, предчувствуя бедствия,
бросила богам эту жертву, чтобы сохранить жизнь и здоровье родных и близких. Эта
мысль и смешила, и утешала меня.
24 июля в Олин день мы все по обыкновению собрались у Олечки. Это был наш
последний семейный вечер, проведенный с Николаем Арнольдовичем. За последние годы
его здоровье стало ухудшаться, он все худел, у него бывали мучительные припадки
головокружения. Они появлялись внезапно, и он должен был, как пьяный, держась за
стенку, уходить со службы домой, чтобы несколько часов в полном покое пролежать в
постели.
В эти периоды были затруднения в подвозе питания, бывали периоды, когда только путем
длительных стояний в очереди можно было достать сахар и масло. Николай Арнольдович
и Софья Петровна были заняты на работе. Мать Софьи Петровны, которая раньше вела их
хозяйство, лежала несколько лет разбитая параличем. Меня очень беспокоило здоровье
моего дорогого друга, так хотелось подольше сохранить его жизнь. Моя соседка по
комнате, очень хороший человек, работала на рынке и охотно снабжала меня провизией
для Николая Арнольдовича. Помогала мне и няня, которая в то время была еще очень
бодрая.
Не помню точно даты, когда было дано распоряжение об эвакуации Пушкинского театра в
Новосибирск. Как не хотелось всем покидать теплые насиженные гнезда, удобно
налаженную жизнь, бросать на произвол судьбы свое имущество. Бывали моменты
успокоения, откуда-то приходили сообщения, что театр никуда не едет, остается в
Ленинграде. Эти колебания в распоряжениях заставляли всех откладывать сбор вещей до
последней неизбежной минуты. Администрация театра оказалась очень
распорядительной. Были тщательно собраны сведения о членах семей актеров театра,
едущих вместе с ними. В целях подыскания помещения в Новосибирске для всех едущих, туда была командирована группа актеров, удивительно плодотворно и точно выполнившая
задание.
75
Наконец, был назначен день и час отправки эшелона театра. Кроме меня к Черкасовым
присоединилась семья Щербинских. Николай Арнольдович не мог ехать с нами из-за
жены, у которой была парализованная мать. В смысле отбора вещей – какие оставить, какие взять с собой – мои дочери были в несомненно лучших условиях, чем я. Они решали
все вопросы совместно с членами своих семей, а я была одна, и мозговые центры у меня
были в то время не в полном порядке. В эшелоне театра было три классных мягких вагона, 55 теплушек, два багажных вагона. Черкасовы имели купе в мягком вагоне, няня при
ребенке ехала с ними. Мне было сказано, что я еду вместе с Щербинскими в теплушке.
Теплушка была несравненно вместительней, она давала возможность не стесняться
количеством вещей. Но общеизвестны неудобства теплушки, особенно тяжелые для моего
возраста.
Екатерина Петровна Фомичева отправляла своих девочек в деревню, сына в армию. Она
помогала мне складываться, и сколько глупостей я наделала с ее помощью. Скажу только, что я оставила, например, хрустальную чернильницу с массивной серебряной крышкой, на
ней большая золотая монограмма, а взяла три старые эмалированные кружки. Ясно, что
дорогие картины надо было вынуть из рам, взять ценные чехлы от диванных подушек
и т.д. Все невзятые вещи остались на хранении у Екатерины Петровны, т.е. перешли в ее
собственность. Перепало ей вещей приблизительно тысяч на 1012. Также неразумно
поступила я и в отношении иностранных учебников, взяв с собой, главным образом, все, что было по испанскому языку. За три года пребывания в Новосибирске я ни разу не
раскрыла пакета с испанскимм книгами и горячо жалела об оставленных английских и
французских материалах. Вернувшись, я, конечно, ничего не нашла. Екатерине Петровне
недолго пользовалась моими вещами, она погибла, и никто не знает, как – ушла из дома и
не вернулась.
20 августа, в день нашего выезда, Николай Константинович дал мне знать, что он за мной
заедет, и я должна быть готова к определенному часу. Накануне вечером был у меня
Николай Арнольдович и грустно прощался со мной: «Прощай, моя Женечка, мы больше с
тобой не увидимся». Я старалась его подбодрить, говорила, что мы скоро вернемся, но он
стоял на своем и был прав. На другой день он пришел на несколько минут на вокзал
проститься со всеми нами, и это было прощанием навеки. Готовая к отъезду, я сидела в
передней на своих вещах, и никто за мной не заезжал, я уж начала волноваться. Но скоро
всегда заботливый Николай Константинович прибежал запыхавшись на минутку, чтобы
успокоить меня. «Не волнуйтесь, заеду за вами через час на машине». И действительно
очень скоро он перевез меня с вещами на вокзал. Носильщик взвалил мои вещи на
тележку и, к моему удивлению, Николай Константинович сказал ему: «Вагон № такой».
Оказывается, мой добрый гений уступил мне свое место в купе, а сам поместился на
временно свободном месте в купе директора театра. А потом Николай Константинович
перешел в свое купе и мы все прекрасно разместились. От неожиданности у меня был
момент замешательства. Я готовилась к теплушке и взяла некоторые вещи специально, чтобы устроиться там по возможности удобнее, и между прочими вещами особенно пугал
меня большой матрас. Я хотела его просто оставить на тележке, но тут пришла на помощь
добрейшая Анна Адриановна, мать Николая Константиновича – она немедленно
сговорилась с проводником, чтобы он взял этот большой пакет к себе, сказав, что Черкасов
оплатит его услугу. Как пригодился мне в Новосибирске этот прекрасный матрас, как
удобно мне спится на нем и сейчас.
С одной стороны нашего купе помещалась семья народного артиста К.В. Скоробогатова.
Он ехал с женой, врачом Анной Васильевной, дочкой Лерой и внучкой Анечкой, почти
ровесницей нашего семимесячного Андрюши. Рядом со Скоробогатовыми было купе
народного артиста Николая Константиновича Симонова. Таким образом, в вагоне
оказались рядышком трое новоиспеченных народных артистов и лауреатов Сталинской
премии – Черкасов, Скоробогатов и Симонов. Семья Симонова состояла из жены, тоже
актрисы Анны Григорьевны Белоусовой, тещи и двух дочерей – Лены и Катюши. Леночка, дочь Белоусовой от первого брака, была совсем худенькая, бледная девочка лет 89.
Четырехлетняя Катюша – толстая, румяная, обладала всеми данными будущей русской
красавицы, тип, так удачно запечатленный художником Маковским. Теща Симонова –
приемная мать или мачеха Белоусовой Мария Константиновна – в прошлом
политкаторжанка с очень интересной жизнью вплоть до побега из тюрьмы. Наверное, она
сама напишет свои воспоминания, а я ее видела в роли удивительного педагога, всю свою
душу отдавшего детям Симонова. У Марии Константиновны были неисчерпаемые
источники фантазии для изобретения детских занимательных игр и нужной
самоотверженной любви к ним. В дорожной скуке я, стоя в коридоре вагона с Андрюшей
на руках, часто с интересом следила за их увлекательными детскими играми под
руководством Марии Константиновны. С другой стороны нашего купе помещался
народный артист Юрий Михайлович Юрьев со своей «нянюшкой Настей». Называю я ее
так, потому что это симпатичнейшее существо Настенька была также необходима ему, как
бывают хорошие няни для младенцев. Она участвовала в его одевании и раздевании, не
отходила от его постели, когда он был болен. Настенька ездила с ним на халтурные
выездные спектакли. Раньше она была прислугой его матери, и 30 лет после ее смерти
провела с ним. В какой-то степени она заменяла ему и мать. Настенька обожала Юрия
Михайловича, несмотря на то, что он, избалованный ею, часто сердился на нее и бывал
просто грубым, когда ей не удавалось ему угодить. С Настей интересно было поговорить о
театральных делах. Она знала все пьесы, в которых участвовал Юрий Михайлович,
говорила хорошим русским языком культурного человека. Во время нашей поездки она
часто выходила из купе расстроенная: «Он любит рыбу к обеду и все сердится, что я ему
не даю».
76
Забегая вперед, скажу, как она убивалась после его смерти, а он почему-то никак не
обеспечил ее. Но Юрий Михайлович тоже был очень привязан к Насте. Когда в последний
раз перед смертью он вернулся из больницы, то, выйдя из машины, посмотрев кругом, вдруг разрыдался, говоря: «Почему Настя меня не встречает». А Настенька захлопоталась
в квартире, ожидая его возвращения.
Следующее купе занимали две Катюши, как звала Наталия Сергеевна Рашевская
Екатерину Павловну Корчагину-Александровскую и ее дочь Екатерину Владимировну
Александровскую. Тетя Катя выезжала из Ленинграда в очень тяжелом настроении, в
слезах. Она долго не могла решигь, ехать ей или оставаться. А когда ее, наконец,
уговорили ехать, категорически отказалась от выезда ее старая, преданная Поля.
Насколько помню, следующее купе занимал Леонид Сергеевич Вивьен с женой Евгенией
Михайловной Вольф-Израэль, дочерью Мариной и тещей, которая ехала больная, все время
лежала и не выходила из купе. Леонид Сергеевич, всегда на вид спокойный,
выдержанный, с неизменной трубкой в зубах, пользовался каждой остановкой поезда,
чтобы подвигаться и даже побегать со своей 15летней дочкой Мариной.
В одном купе находилась еще одна лежачая больная – Музиль как мне потом сказали.
Проходя мимо этого купе, я всегда оборачивалась на взгляд ее прекрасных живых глаз, которые с большим интересом всматривались в меня, наверно, как и в каждое новое лицо.
Я всегда с участием смотрела на нее, думая: какая, должно быть, тоска лежать вот так, неподвижно. Ее сын– режиссер Пушкинского театра, только что поставил очень удачный
спектакль тургеневского «Дворянского гнезда». Говорят, его мать очень поправилась в
Новосибирске и возвращалась домой в совсем другом состоянии.
В одном из купе ехали супруги Сушкевич и Бромлейс маленькой собачкой. За все две
недели нашей поездки я ни разу не видела Бромлей без шляпы с вуалью и перчаток.
Всегда в полной форме. Почти на всех больших остановках супруги, а чаше одна Бромлей
с собачкой выходила на прогулку. Горда и величава была она необычайно. За наше
длинное путешествие мы постоянно сталкивались с ней лицом к лицу. После нескольких
таких встреч я как-то однажды невольно поздоровалась с ней. Она не ответила мне, сделав
вид, что не слышала моего приветствия. Экая гордыня!
Во время пути все наше с Ниной внимание было сосредоточено на кормлении и
пищеварении Андрюши. Кормилица моя дочь Нина была такая же плохая, как я в свое
время. Очень рискованная вещь была эта поездка для младенца такого возраста.
Приходилось давать ему молоко, купленное на станции, от неизвестных коров. Но выбора
не было, и, в конце концов, все обошлось благополучно.
До Тихвина два раза над нами показывались германские самолеты, поезд останавливался, желающие выходили из вагонов. Я лично два раза выходила в поле с Андрюшей на руках
и ждала окончания тревоги. В первый налет тетя Катя с дочкой вышли вместе со мной, а
по возвращении в поезд обе подошли и крепко меня поцеловали. Они со мной очень
дружили в Новосибирске, и этот поцелуй как будто скрепил нашу будущую дружбу.
Очень тяжелое впечатление осталось у всех при проходе поезда мимо станции Мга. Там
только что был налет, кругом валялись изуродованные, побитые самолеты и масса еще не
убранных трупов. Я рада была, что близорукость дала мне возможность видеть картину в
сильно смягченном виде.
Мы часто встречали воинские поезда, направляющиеся в Ленинград, и перегоняли
заводские эшелоны. На стоянках красноармейцы и рабочие, узнав, что наш поезд везет в
Новосибирск эвакуируемый Пушкинский театр, вызывали и приветствовали своих
любимцев Черкасова и Симонова.
Питание у всех было свое, но все-таки как нас устраивала возможность получать на
больших остановках кипяток и заранее для нас заготовленную горячую пищу в виде супа
или каши. Очень нас выручал и взятый в дорогу симоновский громадный самовар.
Проводник ставил его несколько раз в день, и мы были обеспечены кипятком. Николай
Константинович Симонов в трезвом состоянии отличается редкой добротой и
благородством, также как его супруга, но раз как-то случилось ему «выпить», и вид
кипящего самовара, из которого, как обычно, все временные обитатели нашего вагона
брали кипяток, вызвал в нем сильное раздражение. Он стал скандалить, кричал на весь
вагон, что никому не позволит пользоваться кипятком из своего самовара, пусть каждый, кто хочет пить чай, обзаведется собственным самоваром и т.д. Все молча разошлись по
своим купе, зная, что в таком состоянии он не способен разговаривать. Накричавшись
вдоволь, он лег спать. Купе было открыто, когда я, проходя мимо, увидела трогательную
картину: Николай Константинович спал рядом со своей дочкой Катюшей, в ногах у него
лежал опрокинутый самовар. На другой день все, разумеется, отказались от услуг
самовара. Несколько дней сконфуженный Николай Константинович на каждой длительной
стоянке уходил с ведром и обслуживал кипятком весь вагон. Конечно, все скоро простили
ему обиду и вернулись к прежнему порядку. Мария Константиновна как-то сказала мне по
секрету: «Хоть бы самовар-то был его, а то ведь мой!»
Я не помню, в каком произведении Толстой отмечает свои наблюдения над течением
дорожных мыслей. В первую половину пути мы, по его мнению, всем существом
продолжаем быть связанными с только что покинутым местом и людьми. Во второй
половине, отрываясь от прошлого, мы переносимся мыслями в будущее. Правильность
этих наблюдений можно было проверить, следя за сменой настроений нашего поезда.
Первое время среди нас царила подавленность от разлуки с Ленинградом и панический
страх перед возможными налетами. После Тихвина, когда эта опасность миновала,
наступил период некоторого успокоения. В нашем клубе-коридоре вагона стали слышаться
оживленные разговоры – шутки, остроты. Тетя Катя стала проявлять признаки
свойственной ей жизнерадостности. Дочь ее, узнав, что я преподаю английский язык, заявила о своем давнишнем желании изучить его и предложила мне заниматься с ней по
приезде в Новосиирск. Л.С. Вивьен захотел побриться и, вспомнив, что забыл запастись
порошком для бритья, пришел к Нине просить, не выручит ли она его. Он ушел
довольный, когда Нина дала ему какой-то свой крем, сказал: «Вы будете пахнуть, как фея».
77
На одной из остановок наш поезд находился на высокой насыпи. Актер Меркурьев, проходя внизу нашего вагона, крикнул мне в момент, когда я выглянула в открытое окно:
«Опустите в окно руку», что я послушно выполнила. Ловким скачком он подпрыгнул до
высоты руки и на лету поцеловал ее. Мы были очень мало знакомы, и эту шалость я могу
объяснить только проявлением молодечества и желанием выкинуть какое-нибудь антраша.
Такое оживление продолжалось несколько дней, пока наши мысли не перенеслись вперед
к будущей жизни в Новосибирске. Начались гадания, где мы будем жить, как разместить
такое количество приехавших, где будет работать Пушкинский театр? В разговорах все
чаще слышалось страшное слово «палатка». Придется жить в палатках. Пугали и
сибирские морозы с неизвестно какой крышей над головой.
Таковы были пессимистические настроения работников Пушкинского театра, когда
2 сентября 1941 г. в 10 часов вечера по ленинградскому времени и в 2 часа ночи по
местному времени наш поезд прибыл в Новосибирск, и мы сразу перешли из
действительности в сказку из «Тысячи и одной ночи».
Первое, что нас поразило, ярко освещенный вокзал и большая толпа встречающих. Среди
них сотрудники местного театра «Красный факел» и актеры-посланцы Пушкинского
театра, которые немедленно взяли распорядительную часть в свои руки. Около вокзала
стояло наготове большое количество автомобилей и грузовиков, к нашему приезду были
освобождены гостиницы города. Мы все сразу были посажены в машины и привезены в
назначенные нам помещения, распределены по комнатам в строго определенном порядке.
Все происходило как по мановению волшебного жезла. Несмотря на поздний час (вернее, наступило уже раннее утро), во всех гостиницах для прибывших был приготовлен горячий
ужин. Какие там палатки! Электричество, паровое отопление, комфортабельные чистые
кровати с сетками и хорошими матрасами. Во всем сказалось удивительное
гостеприимство сибиряков. Актеры местного драматического театра «Красный факел»
активно участвовали в нашей встрече. Они уступили пушкинцам свой театр и свои
квартиры, сами перебрались временно в заводский городок Сталинск, где и пробыли все
три года нашего пребывания в Новосибирске.
В гостинице нам пришлось пробыть около месяца, пока для семьи каждого актера не было
найдено в городе соответствующее помещение. Рядом с нашей гостиницей была баня. Я
бы хотела, чтобы и в Ленинграде поблизости от моего дома была такая баня с отдельными
номерами, снабженными ваннами. Черкасовы получили прекрасную квартиру в самом
лучшем доме Новосибирска на Октябрьской площади. Этот стоквартирный громадный
дом со многими подъездами был построен по одному плану с ленинградским домом для
научных сотрудников на Выборгской стороне. В доме был лифт (правда, почти
бездействующий), паровое отопление, даже механический мусорный ящик.
Для нас этот ящик играл большую роль, посколько наша квартира была в седьмом этаже.
В квартире была отдельная комната с асфальтовым полом – душевая. К сожалению,
горячая вода давалась только раза два в неделю и чаще по ночам. Приходилось иногда
ночью вставать, помыться и опять лечь в постель. Но все-таки горячая вода была для нас
большим подспорьем, так как стирать белье приходилось самим.
Мне с моей внучкой Наташей досталась прекрасная большая комната с видом на реку Обь.
Рядом с нами поместилась Оленька с мужем. Черкасовы взяли себе комнату с балконом, соседняя с ними, самая теплая и веселая, была детская.
Через площадку от нас поселился Малютин с семьей. Этажем ниже такую же квартиру,
как наша, получила Рашевская с семьей и супруги Гайдаровы– Гзовские. В нашем же доме, с другого подъезда жили Симоновы. В другом доме, очень близко от нас жили
Скоробогатовы, Корчагина-Александровская и Вивьен. Очень порадовало всех
ленинградцев прибытие а Новосибирск Филармонии в полном составе. Евгений
Александрович Мравинский, друг детства Николая Константиновича с женой и матерью
получил квартиру в третьем подъезде нашего обширного дома. В той же квартире
поселился директор Филармонии Пономарев с женой и тещей. Таким образом, все эти
семьи оказались в близком соседстве друг с другом. Это дало мне возможность
познакомиться с ними покороче, особенно, когда я начала свою преподавательскую
деятельность, и очень многие члены этих семейств сделались моими учениками.
Мы застали Новосибирск в хорошем продовольственном состоянии. Все знатные люди
театра, Черкасовы в том числе, были обеспечены прекрасным питанием. Каждый день,
помимо вкусно приготовленного обеда в три кушанья, они получали сливки, закуски,
домашние булки и печенья. Но все это было в первый год приезда, во второй – несколько
хуже, а в третий – ничего не осталось от

Н.К.Черкасов и Е.А. Мравинский.
прежнего великолепия. В первый год няня, моя посуду после обеда, с трудом отмывала
слой жира от раковины, а на третий год грязная вода стекала из раковины, не оставляя
никаких следов.
Но все-таки поразительно, как город справился с задачей поселить и накормить в течение
трех лет такое громадное количество эвакуированных. В 1942 г. нас выручала чудесная
новосибирская картошка с собственного огорода. Такой вкусной картошки, как в Сибири, я нигде не встречала. Каждый день у нас отваривалась и съедалась большая кастрюля
этого никогда не надоедающего продукта. Да и едоков было порядочно – Оленька с мужем
и дочкой, няня и я.
Моя новосибирская жизнь сложилась в общем благоприятно, по моему вкусу. Я не люблю
хозяйственных хлопот, ненавижу самый процесс покупок. За три года пребывания в
Новосибирске я никогда ничего не покупала. Масло и сахар мне закупала мать моей
ученицы, тоже ленинградка. Мы с Олей, Наташей и няней получали из столовой по пол-
обеда, и нам хватало. Моя внучка Наташа взяла на себя большую нагрузку приносить всю
провизию из столовой, которая находилась в 5 мин. ходьбы от нашего дома. Я старалась ей
помогать, беря на себя часть ее функций, но все же она была у нас главной хозяйственной
заправилой. Ее физическая сила, работоспособность, энегрия, практичность всегда
поражали и восхищали меня.
78
Хочется отметить особенность новосибирского телефона: раздается телефонный звонок, вы подходите, и часто мужские голоса, особенно вечером, начинают разговор с таких
вопросов: «Вы одна дома, можно сейчас придти к вам?», или «У вас есть муж?» и самые
циничные предложения с обещанием сейчас придти. Как-то в час ночи, когда Николай
Константинович был в АлмаАте, и в квартире бодрствовали только Нина и Олин муж,
раздался телефонный звонок, и было сделано такое сообщение: «Ждите гостей, к вам
сейчас придут грабить квартиру». Нина ответила что-то вроде «сейчас вызовем милицию
и будем ждать». Оба бодрствующие порядком струхнули, плохо спали в эту ночь. А утром
мы узнали, что как раз в это время были взломаны замки и ограблен Облисполком в доме
рядом с нашим.
Климат Новосибирска в сравнении с ленинградским имеет громадные преимущества.
Вопервых, по количеству солнечных дней в течение круглого года Новосибирск может
быть приравнен только к Кавказу или Крыму. Во-вторых, нас поражало постоянство
погоды, почти нет оттепелей. В октябре выпадает снег и лежит до апреля. Каждый год
горячее весеннее солнце заливало нашу Октябрьскую площадь большими и малыми с
трудом проходимыми потоками растаявшего снега. Солнце там необычайно активное, у
нас за три года выгорели пальто всех сезонов и летние платья. Сибирские морозы
переносятся несравненно легче наших. При 45 градусах мороза сибиряки продолжают
свою обычную жизнь. Мы, ленинградцы, при 25 градусах стонем и стараемся без нужды
не выходить из дома. Всегда переполненные людьми улицы, даже Невский проспект
пустеет.
Но при всех хороших климатических данных у Новосибирска имеется один крупный
недостаток, с которым мне пришлось познакомиться впервые при очень тяжелой
обстановке. Случилось это событие в половине сентября, во второй месяц нашего
пребывания в Новосибирске, через несколько дней после нашего переезда на квартиру. Я
была одна дома, шел четвертый час, время моего дневного отдыха. Прежде, чем прилечь
на постель, я выглянула через открытое окно на Обь. Увидела там небольшое темное
облачко и не придала ему никакого значения. Не пролежала я и пяти минут, как в комнате
вдруг сделалось странно темно, и не успела я ничего понять, как в нашу квартиру с шумом
ворвалась и начала хозяйничать настоящая буря. Сообразив, что нужно закрыть окна, открытые во всех комнатах, я стала бегать от окна к окну, употребляя страшные усилия, чтобы захлопнуть сопротивляющиеся рамы. Стихия как пришла, так и ушла, с
невероятной быстротой, но два окна оказались с выбитыми стеклами. От испуга и
сильного волнения я 23 дня чувствовала себя совсем больной. Наученные горьким
опытом, мы никогда больше не открывали одновременно окон, выходящих на разные
стороны.
Однажды мы с Ниной, стоя у окна, наблюдали, как такая внезапно налетевшая буря
сорвала крышу с большого каменного здания новой постройки напротив нашего дома.
Как-то Нина разложила на своем солнечном балконе меховые вещи для просушки, а сама
села с книгой в комнате. Очень скоро ей принесли ее обезьянье пальто, снесенное с
седьмого этажа ветром и подобранное, к счастью, знакомыми людьми.
Белизна снега, чистота воздуха, тихая провинциальная жизнь города напомнили мне давно
забытую, родную Гатчину. Я всю жизнь испытывала физическое наслаждение
(«физическая радость» по терминологии Ивана Петровича Павлова) от беззаботного
движения на свежем воздухе, и для этого жизнь в Новосибирске предоставляла мне
широкие возможности. От Октябрьской площади, на которой высился наш великан-дом,
начинался бульвар, чуть ли не в километр в длину, из сибирских тополей и других
деревьев. Недалеко от нас в том же направлении был расположен очень симпатичный
сквер с хорошими тенистыми уголками, спасающими летом от знойного сибирского
солнца. Много километров прошагала я со своими думами по этому бульвару, свободная
от хозяйственных забот. Много летних часов просидела я с книгой в сквере. Теперь с
удовольствием вспоминаешь эту жизнь и думаешь, сколько правды в изречении: «Что
пройдет, то будет мило». С первого и до последнего дня жизни в Новосибирске меня и
всех моих близких и знакомых без исключения одолевало безумное беспокойство и тоска
по Ленинграду. Эту тоску можно приравнять только к постоянной мысли о дорогом,
любимом человеке, который опасно болен и находится недоступно далеко. Каждая новая
весточка, полученная кем-нибудь с родины, мгновенно передавалась из уст в уста и
облетала всех ленинградцев.








