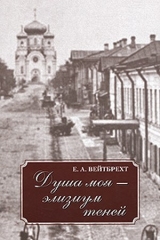
Текст книги " Душа моя - элизиум теней"
Автор книги: Евгения Вейтбрехт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
ней искренности, и слушала, развесив уши. Художница много мне рассказывала про свою
семью, о трагической гибели отца и матери во время блокады, о своей трогательной
дружбе с сестрой. Разговор зашел о ленинградских жилищных условиях. Она
расхваливала до небес свою квартиру и с места в карьер предложила мне занять
прекрасную солнечную комнату в 15 метрах рядом с собой. А меня как раз сильно
тревожил квартирный вопрос, друзья писали, что моя чудесная комната занята – удастся
ли мне ее получить? Я как-то спросила мою новую подругу, есть ли у нее в квартире
ванна, она мне спокойно ответила, что у них две ванны. Это уж был для меня большой
соблазн, отсутствие ванны – единственный недостаток моей голубой комнаты. Одним
словом, я была совершенно покорена и приняла предложение моей поклонницы по
приезде в Ленинград ехать с вокзала прямо к ней на квартиру.
83
Ну и пришлось мне хлебнуть горя, так доверившись мало знакомому человеку, лживому с
головы до пят.
10. Возвращение в Ленинград
Вспоминается мне 27 января 1943 г., один из счастливейших дней моей жизни. У
Щербинских в комнате было радио. Оленька всегда утром слушала последние известия и в
случае чего-нибудь важного, перед уходом на работу сообщала нам с Наташей. Так было и
в это памятное утро. Войдя, Оля с громадным волнением объявила о снятии блокады с
Ленинграда. Радость наша была неописуема. С этого дня я стала деятельно готовиться к
отъезду домой. Мои родные смеялись надо мной, когда уже в марте месяце все мои вещи
были уложены и готовы к упаковке. А мне просто доставляло удовольствие копошиться с
укладкой, мечтая об отъезде. И вместе с тем, я ни минуты не сомневалась во всем
тяжелом, что мне предстоит пережить по приезде. Как в Дантовском Аде волею
божественной справедливости (La tema si volge in disio) страх мучений обращается в
желание, я вся жила только одной мыслью: «скорей бы, скорей!».
Уезжая из Ленинграда, перед тем, как покинуть мою комнату, я нежно с ней прощалась.
Как Лиза в «Дворянском гнезде», ходила я касаясь руками вещей – свидетелей и спутников
10летней жизни, проведенной в их окружении. Совсем в другом настроении уезжала я из
Новосибирска. Наш отъезд состоялся 26 июня 1944 года. Этот день надолго остался
памятным для сибиряков. Машине, отданной в распоряжение Николая Константиновича
для перевозки на вокзал его семьи, пришлось сделать несколько рейсов. Мое место было в
последнем. Я ходила по опустевшим комнатам, прощалась с городом, так гостеприимно
приютившим нас, а сердце радостно билось от сознания, что через несколько дней я буду в
дорогом, родном Ленинграде.
Вокзал я застала в необычайном оживлении. Пушкинский театр реэвакуируется. Эшелон
подан. На перроне большая толпа провожающих. Меня ожидала с букетом моя
очаровательная ученица Берта, сама похожая на только что распустившуюся пунцовую
розу. Ленинградка, она на некоторое время оставалась еще в Новосибирске.
Вагоны заполняются, раздаются звуки оркестра, исполняющего прощальный марш. Тетя
Катя уже в своем купе, утопая в цветах, принимает делегации от учреждений и ласково
прощается с ними. Она победила сердца сибиряков своим сценическим талантом,
большим человеческим обаянием и плодотворной, самоотверженной работой депутата.
Букеты все прибывают, их уже кладут кучами друг на друга. Когда поезд тронулся,
Екатерина Павловна заявила, что она задыхается, и просила разнести цветы по другим
купе.
Думается, что Пушкинский театр с такими корифеями искусства в составе, как Корчагина-
Александровская, Черкасов (хотя он большую часть эвакуации провел в АлмаАте),
Скоробогатов, Симонов, Александровская, Вивьен, оставил по себе хорошую память у
сибиряков. Спектакли, в которых участвовали Черкасов, Симонов, всегда шли с аншлагом.
Скоробогатов, кроме талантливого исполнения ролей Ленина, Суворова и др., проявил
себя, как умелый наездник на скачках. На прощание сибиряки подарили ему коня, с
которым он демонстрировал свое искусство. Эта лошадка ехала в эшелоне вместе с нами.
В поезде, который Ленинград прислал за театром, было на этот раз больше мягких
вагонов, и все разместились как-то иначе. Я ехала в одном вагоне с Черкасовыми, но
отдельно от них. В моем купе была милая кампания актеров – Томилина, с которой мы
много часов провели в беседах, Алешина и Толубеев. Последняя пара только что
поженилась, отстранив своих прежних спутников жизни. Наш трехлетний Андрюша бегал
и шалил в коридоре. Постаревшая и располневшая няня Франя никак не могла угомонить
шалуна. Частенько с Почемучкой в руках забегал он ко мне, к своей самой усердной чтице.
Его рано укладывали спать, и Николай Константинович вместе с Юрьевым и другими
соседями по вагону, приходил посидеть в наше купе. Получался маленький клуб. Юрьев, который казался мне таким напыщенным на сцене и в жизни, здесь держал себя просто, потоварищески. Кто-то придумал написать сообща стенную газету, редактором назначали
Толубеева. Почему и как – никто не знал, но он к этому делу не имел никогда никакого
отношения. Я предложила ему помочь, а он обрадовался и передал мне редакторство. Я
согласилась с тем, что подпишется в газете он, а не я. От нечего делать я с удовольствием
занялась исправлением поступающих немногочисленных статей. Я не видела газеты в
оформленном виде и не знаю, куда она девалась.
Моя поклонница-художница ехала в нашем поезде и писала мне письма из своего вагона, а
раза два приходила с палочкой меня навестить.
В отличие от переезда в Новосибирск, обратный путь не создавал таких общих настроений
и переживаний. Каждый думал о своем угле и о том, в каком виде он его застанет. А, может быть, этот угол уже и не существует. Мои ученики сговаривались со мной о
возможности возобновить наши занятия, мы обменивались адресами. Как это все
оказалось непрочно и призрачно!
Мы прибыли в Ленинград ранним утром 3 июля. Наш поезд был поставлен на какие-то
далекие, запасные пути. Очевидно, мы прибыли раньше срока, потому что приготовленная
торжественная встреча запоздала, пришлось ее подождать.
Общее первое впечатление о состояния города было неплохое, судя по тем улицам, по
которым мы проезжали, по крайней мере лучше, чем мы ожидали. Отдельные
разрушенные дома, представляющие груды камней, мы с грустью разглядели уже потом.
Обращали на себя внимание много развешанных плакатов, изображающих девушку на
кладке кирпичей с подписью: «А, нука, взяли!». Так и вспоминается эта девушка – сколько
было в ней бодрости и сколько теперь, уже через пять лет, выполненных обещаний
воплотилось в ее образе.
84
Сестра художницы встретила нас на грузовике, так что мой первый шаг в родном городе
был как будто очень удачным. Но затем тотчас же по прибытии на квартиру моего нового
«друга» я вступила в чрезвычайно тяжелую полосу жизни и из этой полосы не могла никак
выкарабкаться в течение целого года. Кроме природной доверчивости я в своей родной
семье привыкла к атмосфере честности и правды, за отклонение от которой нас, детей, наказывал отец. Николай Арнольдович был тоже очень правдив и честен, значит такой
была и созданная нами семья. А моя новая приятельница была насквозь лживая. Такого
цельного типа я никогда в жизни больше не встречала. Предложенной мне комнаты не
существовало в природе, и о ней больше не было и речи. Ванной комнаты не только не
было, но и по техническим условиям не могло быть. Ложью были ее рассказы о премиях, полученных за портреты Шостаковича и Халилеевой. Родители ее, убитые, по ее словам, бомбой в Ленинграде, умерли своей смертью, мать от рака, отец от воспаления легких. И
так все, что она говорила – сплошное вранье, ни слова правды. В маленькой комнате, где
мы поместились, стояли три кровати, два стола, а посередине, мешая движению, стояли в
ряд несколько столовых стульев с высокими спинками.
Ввиду того, что маленький сын художницы перенес в Новосибирске воспаление легких, он
спал всегда одетый под теплым одеялом, а комната, несмотря на летний сезон, никогда не
освежалась. Под кроватью художницы какие-то валенки, боты, галоши, старый хлам,
которому место в помойке. Ее кровать – логовище, она никогда не застилается, на ней
масса носильных вещей, зимних, теплых, тут же грязное белье. Многие подобные
предметы развешаны на спинках стульев и на кровати. Все носит типичный запах
затхлости и грязи. На ночь для воздуха открывается дверь в коридор, где почти против
нашей двери несколько ступенек ведут в уборную, в которой все заливается водой.
Поэтому приток воздуха из коридора в соединении с запахами нашей комнаты дает смесь
испарений, от которых я задыхалась. Вся квартира наполнена крысами, которые ночью из
коридора приходят в нашу комнату. Нельзя было оставить что-нибудь съестное
незакрытым, чтобы к утру все не исчезло. Рядом с моей кроватью стоял стол с красками, художница уверяла меня, что крысы ими не интересуются. Но все равно я всю ночь
дрожала, боясь, что они заберутся мне на кровать. Воду можно было получать только на
кухне, которая помещалась этажом выше, надо было подниматься по лестнице. Трудно
придумать более нелепую квартиру.
Художница стала понемногу проявлять свой тяжелый, властный характер. Она выражала
желание, чтобы я сидела дома и стерегла вещи, а сама уходила часто и надолго по делам.
Через несколько дней я запротестовала, мне тоже нужно было выходить хлопотать о
комнате. Моя хозяйка требовала от меня, чтобы я, отлучившись на минуту из комнаты, каждый раз запирала дверь на замок. А в квартире жила только ее сестра и бывшая
прислуга ее родителей. Условия жизни с каждым днем делались для меня все более
невыносимыми. Но деваться мне в то время было совершенно некуда. Щербинские
потеряли свою квартиру, в ней поселились жильцы из разбомбленного дома. Пока что до
приискания другой квартиры они жили тоже в очень тяжелой обстановке общежития и
спали на полу. В квартиру Черкасовых (Кировский 26/28) попала бомба, там нужен был
основательный ремонт. Николаю Константиновичу обещали дать другую квартиру в том
же доме, но пока что она была занята. Они поселилась временно в квартире оперного
певца Легкова, за которым была замужем Нинина подруга. Чтобы выспаться и немного
вздохнуть от художницы, грязи и крыс, я ушла на сутки на Васильевский Остров к своей
приятельнице Лидии Евгеньевне. Я прекрасно выспалась и отдохнула, но если б у меня
была способность раздвоения, то часть меня была бы на Васильевском Острове, а другая
бодрствовала в комнате художницы, невероятные вещи увидела бы я там: в тиши ночной
моя «приятельница» сидела у моего оставленного незапертым чемодана и отбирала для
себя вещи, наиболее соответствующие ее художественному вкусу. Пропажа моих вещей
обнаружилась не сразу, а приблизительно через месяц, когда мне понадобилось что-то, находившееся в чемодане. Я привезла из Новосибирска 4 кгр. топленого масла (1 кгр.
стоил тогда 800 руб.), 2 кгр. меду. В эту же ночь она взяла себе половину того и другого.
Исчезновение провизии я обнаружила сразу, но мне неловко было говорить со своей
хозяйкой. Подумала – может быть, она считает, что я должна оплачивать ее
гостеприимство. Раза два она меня угощала оладьями. Опустошенную банку я отнесла к
Легковым.
Затем художница стала придираться ко мне и скандалить, что, приготовляя пищу, я трачу
много электричества. Тогда я стала готовить обед у Легковых, и в первый же день она
устроила мне сцену с истерикой. Встала передо мной на колени и, обливаясь слезами, просила прошения. «У меня скверный характер, а вы – вы такая замечательная...», –
говорила она, уткнув голову в мои колени. Я еще не знала о пропаже вещей, но как вся она
была мне противна!
Чтобы покончить с ней скажу, что месяца через три, когда я жила уже в своей комнате, она
мне принесла мой ужасный портрет в рамке, ею заказанной, и меховую муфту своей
матери, которую я ни за что не хотела брать, но она все же ее оставила. Я отнесла ее в
комиссионный, где мне дали за нее 600 руб. Портрет по настоянию родных и друзей я
удалила из дома. Она опять облила меня слезами, умоляя простить ее. Насколько я
разбираюсь в ней, она истеричка и больна клептоманией, для меня нет другого объяснения
ее поведения.
85
Светлое впечатление оставила у меня ее сестра, полная противоположность ей, милая, дельная, приветливая. Я мало ее видела, она в это время переживала свое большое личное
горе.
В это время Черкасовы переехали в свою новую квартиру на Кронверкской. Легковы, видя
всю безысходность моей жизни, предложили мне перебраться к ним, что я немедленно и
сделала, поблагодарив художницу за гостеприимство. В день переезда она явилась ко мне
посмотреть любящим оком, хорошо ли я устроена, и принесла несколько конфеток. Она
заявила, что ей скучно без меня, что она ревнует меня к Легковой. Я просила мою новую
хозяйку не пускать художницу ко мне, говорить ей, что меня нет дома. Моя внучка как-то
встретила ее с моим шарфом на шее и передала мне от нее сердечный привет.
Первое время у Легковых я жила как в раю, милые люди, прекрасная, комфортабельная
квартира. Я спала одна в большой спокойной комнате. Легков часто пел, мне очень
нравился его голос и музыкальность исполнения. Приходил Димитрий Алексеевич
Толстой, композитор, и проигрывал на суд Валентина Львовича свои новые произведения
– он очень высоко ценил его музыкальный авторитет.
Но и тут мне не повезло. Я попала на начало супружеской трагедии, которая привела к
разрыву супружества Легковых. Сначала чем-то возмущенная жена ушла из дома дня на
дватри, и мне стало гораздо менее уютно. В эти дни побывали у Легкова в гостях две
дамы-поклонницы, которые не имели права входа при жене. С одной из них
Валентин Львович познакомил меня, и мы провели втроем весь вечер. Поклонница была
немолодая, средне-интересная, в кудрявом черном парике. Очевидно, она была безумно
влюблена в Легкова, задаривала его цветами, вещами, каждый день звонила ему по
телефону. Этот вечер, проведенный с ним, являлся для нее роскошным подарком с его
стороны. Держала она себя томно, загадочно, и говорила, закатывая глаза: «Не говорите со
мной об Италии», и еще я забыла о чем. Через полгода я ее видела в сквере на
Петроградской стороне – она, очевидно, работала в штате по озеленению Ленинграда.
Поклонница Легкова сидела согнувшись на каком-то пне и являла собой фигуру отчаяния.
Товарищи окликали ее, звали приняться за работу, но она застыла в своей позе и ни на что
не реагировала. Через час, уходя из сада, я взглянула на нее – она сидела все также, не
шевелясь. Очевидно, безумная, безнадежная любовь привела ее к психическому
расстройству.
Затем вернулась жена Легкова, и трагедия пошла быстрыми темпами. Мне пришлось
оставить милых, приветливых хозяев и переехать к Черкасовым. С легкими вещами в
руках, я приехала к ним утром. Нины не было дома, меня радостно приветствовал
Николай Константинович «Вы у нас будете жить – вот и прекрасно». Он пошел сейчас же
на кухню и отдал какое-то распоряжение. Няня поздоровалась со мной и проворчала:
«Николай Константинович велел приготовить вам постель – что вы сейчас спать ляжете, что ли!». Затем мой милый зять предложил принести снизу (лифт не работал) на пятый
этаж мой тяжелый пакет, который прибыл с багажом Черкасовых. Я отказалась, также как
и от предложения привезти на трамвае мой чемодан от Легковых, у которых Николай
Константинович был вечером на другой день. Пришлось напомнить Николаю
Константиновичу, что у него еще не прошел радикулит, и ему запрещено носить тяжести.
Я заплатила сто рублей, и мне доставили все мои вещи. Радушие, приветливость моего
зятя, желание помочь даже физически, в ущерб своему здоровью – все эти качества
казались мне в нем всегда на редкость привлекательными.
Весной 1944 года, перед нашим отъездом из Новосибирска, мы с большим
удовлетворением узнали о новом постановлении правительства, гласившем, что жители
Ленинграда, эвакуированные вместе с учреждениями, при реэвакуации получают обратно
свою жилплощадь. Этот закон значительно нас успокоил. Но никто из нас не знал и не был
подготовлен к новой атмосфере «власти на местах», явившейся благодаря блокаде.
Управхозы были хозяевами положения, от них все зависело. Вскоре по приезде в
Ленинград Николай Константинович начал хлопотать об освобождении, согласно закону, моей комнаты, занятой семьей танкиста. Черкасову, как депутату Куйбышевского района, администрация жилищного дела шла навстречу, но на все распоряжения сверху управхоз
нашего дома никак не реагировал. Простояв бесчисленное количество очередей в
Райжилотделе, я получила на руки постановление о предоставлении мне моей
жилплощади. Маленький, нахальный, всегда пьяный управхоз принял меня и данного мне
для подкрепления инспектора Райжилотдела с невероятной наглостью и разорвал на
мелкие клочки врученный ему официальный документ. Он заявил во всеуслышание, что
он так поступает и будет поступать впредь со всеми постановлениями Жилотдела.
Инспектору он наговорил таких дерзостей, что расстроенная девушка, доведенная почти
до слез, тут же составила акт о присутствии управхоза на службе в пьяном виде со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Он скоро был исключен из партии и предан суду.
Николай Константинович нажимал сверху – к кому только он ни обращался. Оттуда шли
приказы управхозу, начальство само приезжало к нему в контору, но он был неумолим.
«Мне некуда девать семью танкиста», – говорил он в трезвом виде и ругался в пьяном.
Октябрь, ноябрь и начало декабря я провела в угнетенном состоянии духа. Темным утром
ехала я после бессонной ночи в контору своего дома. Няня уговаривала выпить чаю, но я
ничего не могла взять в рот. С трудом попадала я в трамваи, от волнения меня тошнило, и
кружилась голова. А на дверях конторы я мысленно вешала надпись из Дантовского Ада
«Lasciate agni esperanzo, vai qu entrale» (входящие, оставьте всякую надежду!). Отношение
ко мне было самое враждебное. «Вам не видать вашей комнаты, как своих ушей, напрасно
вы тратитесь на трамвай». Все служащие конторы, начиная с управхоза, сами занимали в
то время незаконно комнаты и квартиры, которые им пришлось освободить, когда
приехали хозяева. Я была первая ласточка, и потому они меня возненавидели. Потеряв
терпение, я обратилась к адвокату и подала в суд. Дело мое было правое, и суд вынес
решение о предоставлении мне комнаты в назначенный срок. Все-таки танкиста из
комнаты пришлось выселить в принудительном порядке.
86
Наконец, 13 декабря 1944 года судебный следователь позвонил мне вечером, что моя
комната освобождается, и завтра с утра я могу ее занять. Как я была счастлива, от
радостного волнения я не могла заснуть всю ночь. Но это была моя Пиррова победа.
Борьба со звериной ненавистью, грубостью, произволом надломила мои силы (мне было
68 лет), всю зиму я не могла придти в норму.
При моем отъезде от Черкасовых Николай Константинович сказал мне: «Скоро ваш день, Евгения Алексеевна, мы, как всегда, придем к вам пить чай». Несмотря на радость,
которую мне доставляли собрания родных в мой день 24 декабря, я ответила: «Нет,
Колечка, ничего не выйдет, мне сейчас сто лет». Когда в день переезда меня посетила моя
воспитанница Лена Фомичева, она была поражена моим видом. «Евгения Алексеевна, что
с вами, у вас все лицо в морщинах!». Я, всегда такая моложавая, выглядела старше своих
лет.
Возвращаясь назад, скажу, что моя жизнь в коммунальной квартире с 1932 по 1941 г.
протекала в хорошей, дружественной атмосфере. Две большие комнаты рядом со мной
(между нами была незаколоченная дверь) занимал преподаватель хорового пения
Виноградов. Семья его состояла из жены и двух сыновей, которым в момент моего
поселении было 12 и 14 лет. Через дверь до меня доходили только ласковые «Поленька» и
«Пашенька», как называли друг друга супруги, и никогда ни слова, произнесенного в
повышенном тоне. Тихие и хорошие были и дети, ласково воспитывали их родители. Не
было у них радио, которое при злоупотреблении может свести соседа с ума, если у него
слабые нервы. В комнате, выходящей на двор, жил столяр Любавин, который вскоре после
моего поселения женился, при мне же родились его сын и дочь. Маленькую комнатку
рядом с Любавиным занимала сиделка в больнице Лина, которая нас обслуживала.
Религиозная Виноградова очень привязалась ко мне и говорила, что молится за меня утром
и вечером. Мой атеизм ее не смущал, она уверяла, что у бога есть особое место и для
неверующих. «А вы чистая сердцем, бог таких любит», – убежденно заявляла она. Она
имела сильное влияние на мужа, который на все смотрел ее глазами. Любавин, очень
умелый и работящий, охотно и бескорыстно справлял все хозяйские дела по квартире.
Жена его Фрида тоже оказалась умной и милой женщиной. Таких же родили они и деток.
За 9 / лет совместной жизни в нашей квартире никогда не произошло ни одного
недоразумения. Жили одной коммунальной семьей, в затруднениях все всегда находили у
меня совет и моральную помощь, также как я у них – физическую и техническую. Когда
при мне говорили, как трудно складывается жизнь в коммунальных квартирах, я гордо
заявляла, что в таких условиях надо уметь жить, и я этим умением обладаю.
Как-то в парикмахерской я видела интеллигентную женщину, которая вся мучительно
дергалась, как от пляски св.Витта. Парикмахер рассказал мне, что заболевание явилось у
нее в результате неприятностей в коммунальной квартире. А мне опять подумалось, что
вот она не сумела поладить с соседями, а я сумела.
В дальнейшем жизнь доказала мне на опыте, что кроме умения в моем случае было
наличие благоприятно сложившихся обстоятельств. Как я тогда преувеличивала силу и
значение своего «умения».
В 1941 году, к началу войны, ситуация в нашей квартире изменилась, но атмосфера
продолжала оставаться дружественной. Виноградовы имели несчастье лишиться своих
взрослых сыновей еще до войны. Талантливый музыкант, студент Сережа погиб от
туберкулеза, Николай заболел неизлечимой формой шизофрении и был отправлен в
больницу. Супруги по разному реагировали на свою потерю. Она ударилась в религиозное
помешательство, все время проводила в церкви, дома только ночевала. А муж завел себе
вторую жену, выбрав ее среди участниц своего хора. Во время блокады первая жена
Виноградова умерла. В нашей квартире теперь появилась уж законная вторая. Вот эта
женщина свела на нет мое самомнение об умении жить в коммунальной квартире.
Комнату свою я нашла в ужасном виде. Уже не говоря про грязь и запущенность, окно
было не замазано, одно стекло выбито, электричество перерезано, холод адский. В
квартире тогда находились только «молодые» супруги Виноградовы, Любавины были в
эвакуации, Лина умерла в блокаду от голода. Нужно отдать справедливость Виноградовым
за то, что в первые дни моего переселения они оказали мне помощь, иначе я совсем бы
пропала. Не говоря о полном комфорте, в котором я оставила комнату, как трудно было
восстановить хотя бы самую примитивную возможность существования. Сначала
Виноградова мне понравилась. В хорошем настроении, довольно миловидная, с ямочками
на щеках, когда скандалила, она сразу теряла всю свою привлекательность и делалась
ведьмой. Уже через неделю она стала выпускать против меня свои коготки, а через месяц и
скверный характер ее выявился во всей непривлекательности. Жизнь моя сделалась
настолько тяжелой, что я иногда вспоминала даму в парикмахерской и думала, не пойду ли
я по ее стопам. Радио у Виноградовых никогда не выключалось, оно одно могло довести
меня до сумасшествия. Правда, в ответ на мою просьбу выключать на ночь, Виноградов
пошел мне навстречу, но по рассеянности часто забывал. Виноградова стала злобствовать
и настраивать своего послушного мужа против меня. Главное, что ей не нравилось, это
мое происхождение, и на самую законную и скромную просьбу мою вроде выключения на
ночь радио она кричала мне: «Пора бросить ваши барские привычки!». Под влиянием
жены Виноградов тоже стал неприятным и грубым со мной. Всю жизнь беззащитная перед
грубостью, я стала чувствовать себя перед Виноградовыми, как загнанный, забитый
зверек. Я частенько ходила ночевать к Черкасовым, чтобы отдохнуть от соседей и от
беспокойной мысли, выключат они радио или забудут. Комната и кровать, на которой я
спала у Черкасовых, была еще не занята. 31 декабря 1944 года я узнала, что Нина и
Николай Константинович не встречают Новый Год дома и отправилась к ним ночевать. Я
уже стала засыпать, как вдруг услышала громкие голоса, и сразу сообразила, что мои
хозяева переменили решение и пришли с гостями встречать Новый Год у себя. Я решила
не вставать. И вдруг ровно в 12 часов раздается стук в дверь, и входит милый мой зять с
двумя бокалами шампанского. «Я пришел к вам чокнуться и пожелать счастливого нового
года. Вставайте, мы накупили много вкусных вещей, будем ужинать». Я была очень
растрогана его вниманием, но не встала – на душе было тяжело и не хотелось портить
другим настроение.
87
В апреле Виноградовы уехала со своим хором на три недели в Москву, и я осталась в
полном одиночестве. Сначала меня страшила мысль оставаться в квартире одной ночью, но оказалось, что в покое и тишине я не только отдохнула душевно, но даже физически
пополнела и посвежела. Потом скоро вернулись из эвакуации мои друзья Любавины. Он –
инвалид войны с поврежденной ногой. Как мы были рады, что судьба опять соединила
нас. У меня были союзники, и я почувствовала себя спокойнее и крепче. Еще через год
Виноградовы переселились в далекую от меня комнату, а рядом поместились две хорошие
гражданки с четырехлетним мальчиком. Они очень меня полюбили, считаются со мной и
берегут мой покой. В комнате умершей Лины поселился еще один инвалид войны, у нас с
ним тоже дружба. Вокруг меня опять сгруппировалась вся квартира. Виноградова после
нескольких скандалов с жильцами поняла, что один в поле не воин, и ругается и ссорится
только со своим мужем, что не мешает им впрочем жить влюбленными голубками.
Виноградов вернул мне свою дружбу и уважение. Совершенно изменила свое отношение
ко мне его жена, но я все-таки стараюсь, как и все жильцы нашей квартиры, иметь с ней
как можно меньше соприкосновения. Вокруг меня опять создалась атмосфера любви и
уважения окружаюших, которая мне необходима в жизни, как солнце для растений.
За 11 лет Андрюшиной жизни, его родители часто уезжали на месяцы, оставляя сына на
моем попечении. В таких случаях я обычно устраивалась в кабинете Николая
Константиновича. Хороший письменный стол, много полок с книгами, уютная тахта
создавали мне комфортабельную обстановку. Очень меня устраивала, при моем плохом
сне, относительная изолированность, тишина этой комнаты. Но вот однажды
Нине Николаевне надо было уехать одной на две недели. Мне пришлось поселиться в ее
спальне, комнате, по-своему тоже уютной, но мне не созвучной. А главное, рядом
парадная дверь. Николай Константинович обычно возвращается поздно, ужинает в
столовой рядом. Одним словом, я уже приготовилась не спать две недели и примирилась с
этой мыслью. Но, благодаря изумительной деликатности Николая Константиновича, мне
был обеспечен ночью полный покой. Тихохонько он открывал своим ключом входную
дверь, не зажигал электричества, как мышка, прокрадывался в кухню, там ужинал и через
Андрюшину комнату проходил к себе в кабинет. За две недели, при моем жутком сне, он
не только ни разу не разбудил меня, но я не слышала его прихода, даже когда спала.
В 1945 году об уроках не могло быть и речи. Все мои ученики из театра Пушкина прошли
через неприятности с жилплощадью. Кроме того, заработать в Новосибирске актерам
было несравненно легче, чем в Ленинграде после блокады. Я стала давать уроки только в
1946 году, и то с новым составом учащихся, преимущественно студентами. Жизнь моя
после возвращения в Ленинград стала гораздо сложнее. Не организованы были еще
вегетарианские столовые, которые так выручали меня до войны. Отсутствие
хозяйственных забот в Новосибирске позволяло мне легко справляться с учениками.
Кроме того, у меня создается такое впечатление, что частные уроки по иностранным
языкам в Ленинграде умирают естественной смертью. Везде и всюду организуются
кружки по изучению языков, преподавателей много и с каждым годом все больше.
Поэтому в 1947 году я согласилась на давнишнее предложение моих дочерей брать от них
небольшую денежную помощь, которая с добавкой пенсии дает мне возможность
существовать без уроков. Такое отсутствие тревоги за завтрашний день навеяло на меня
мысль исполнить давнишнюю мечту мою – написать воспоминания. Сейчас в мае
1950 года, когда я подхожу к финишу и жизни, и воспоминаний, приходит в голову
подходящее для этого случая арабское изречение «Сказал свое слово – иди».
В первый год по возвращении в Ленинград Дачный трест дал возможность театру
Пушкина организовать недалеко от Кексгольма по Финляндской железной дороге
театральный поселок для сотрудников. Окруженный лесами, на берегу богатого рыбой, большого озера театральный поселок Пюхя-Ярви обладает необычайно благоприятными
данными для дачной жизни. Как-то особенно легко и приятно вдыхается тамошний
воздух, напоенный ароматом цветущих душистых трав. Чистые, уютные домики бывшей
финской деревни, масса малины, земляники, грибов тоже является положительным
фактором. Но 160 километров по железной дороге плюс 11 километров пешком от станции
затрудняют поездки в этот благословенный край. Правда, за четыре года дачники
обзавелись сторожем, лошадью и телегой, что значительно облегчает задачу
передвижения, особенно с вещами, а также сохранения дачного имущества.

Обитатели Пюхя Ярви:
стоят: Н.К.Черкасов с сыном Андреем, Варя Ипатьева и Наташа Щербинская, сидят:
Л.О.Ипатьева, Е.А.Вейтбрехт, О.Н. и В.В.Щербинские и В.В.Ипатьев. Вдали: шофер и
домработница Черкасовых. Собаки: поинтер Дик Щербинского и сеттер Лада Ипатьева.
Дача Черкасовых стоит на расстоянии полукилометра от других дач, на самом берегу
озера, с хорошим песчаным пляжем – так удобно – прямо с постели идешь на берег
мыться. К даче ведет отдельная колейная дорога, обсаженная рядами малинников. Проходя
несколько раз в день по этой поэтичной дороге, я никогда не устаю любоваться
засеянными по обе стороны полями и лугами, сплошь покрытыми клевером. Вообще
местность Пюхя-Ярви, так не похожая на обычное представление о ленинградских дачах, пришлась мне очень по сердцу. Ее просторы напоминают мне Журавку и Новое Почвино.
88
Дача Черкасовых состоит из двух стоящих рядом небольших домиков, построенных по
общему плану – одной большой проходной и двух маленьких комнат. С 1947 года один из








