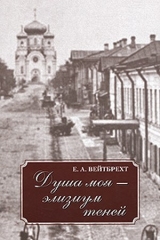
Текст книги " Душа моя - элизиум теней"
Автор книги: Евгения Вейтбрехт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
У моей кузины Наташи была подруга по гимназии и педагогическим курсам Вера
Ивашева, внучка декабриста . У нее была хорошо сложенная, стройная фигура, красивая, длинная коса и лицо интересное, способное иногда загореться внутренним светом и
делаться прекрасным. Мне пришлось встречаться и наблюдать ее в период, когда эта
способность проявлялась особенно ярко. На южной стороне Невского, помнится, между
Литейной и Надеждинской, проживала семья Катоминых. Известный архитектор Катомин, очевидно, является членом этой семьи. Это были гостеприимные люди, в их приемный
день у них собиралось много молодежи и, главным образом, студентов. Посещали эти
вечера и мы с Верой Ивашевой, студентки в ту пору. Среди мужской молодежи выделялся
необычайной красотой студент Университета Константин Петрович Фандерфлит. В его
присутствии расцеветала Вера Ивашева, и он не отходил от нее. С большим сочувствием я
наблюдала, как развивается и крепнет их чувство. Вскоре после моего отъезда из
Петербурга я узнала, что они поженились. Брак получился не очень удачный. Милый,
симпатичный Фандерфлит в ответственной роли главы семьи оказался пустоцветом. Он не
кончил Университет и никак не мог пристроиться ни к какой работе. Был у него
небольшой домик с флигелем на Васильевском Острове. Жили они очень трудно. У них
было трое детей. Энергичная, дятельная Вера взяла на себя все бремя жизни. Она
оказалась прекрасной матерью и, сумев сочетать строгость и дружбу, была авторитетом и
другом своих детей. Наш родственник, врач Ливеровский, всегда отзывался о ней с
восхищением, называя ее «лучшей из матерей». Одна из ее дочерей окончила Академию
художеств. С приходом советской власти Вера Петровна Фандерфлит была
руководительницей детского сада.
Осенью 1897 года мы с Леночкой поступили на историко-филологический факультет
Бестужевских курсов. Я опять поселилась у Борейш. Первое время посещения курсов я
ходила как в тумане. Сидя на лекциях, слушая профессоров, я все ждала момента
приоткрытия дверей в мир просто и убедительно разрешенных вопросов бытия. Но время
шло. Были лекции интересные и неинтересные, определились профессора любимые и
нелюбимые. Никаких дверей в другой мир не оказалось. Эти заветные двери широко
распахнулись для меня много позже, когда уже в зрелом возрасте я познакомилась с
законами диалектического материализма. В своем разочаровании я была виновата сама.
Мало ли о чем мечтают глупые девочки! Нам давали возможность учиться, приобретать
знания, расширять свой кругозор. А вопросы о целях и смысле жизни, если они вставали
перед нами, предоставлялось каждому разрешать самому. Нравились мне профессора
истории и литературы, такие, как Ф.А. Браун, И.М. Гревс, Нестор Котляревский. Помню, как захватила меня книга «История греческой культуры» Фюстель-де Куланжа, тогда еще
не переведенная на русский язык. Но увлекалась я страстно лекциями по философским
наукам. На первом курсе я занимаясь логикой в историей древней философии, на втором –
психологией и историей новой философии. Профессор А.И. Введенский , читавший
философские дисциплины, пользовался нз курсах необычайной популярностью. Его
лекции устраивались в самых больших аудиториях, которые всегда бывали переполнены.
Все мы знали, что он болен изнурительной, неизлечимой болезнью, вид у него был
тяжелобольного. Это заставляло студентов относиться к нему особенно бережно. Стоящие
старались не тесниться около кафедры, чтобы дать ему больше воздуха. Я не говорю о
тишине, которая соблюдалась во время его лекции. Меня восхищала логичность и
простота, с которой он давал слушателям труднейший материал философских систем. Как
легко было записывать его лекции. В организации, носившей название Вольно-
Экономического общества , делал зажигательные доклады по истории французской
революции талантливый Тарле (тогда еще совсем молодой). Мне не нравился профессор
русской истории Платонов . Как сейчас помню его гнусавый, неприятный голос. Но
многие студенты восхищались его лекциями. Лекции по латинскому языку я не посещала, не было времени. Весной к экзамену я в две недели прошла курс четырех классов
классической гимназии и сдала на «отлично» несколько страниц «Юлия Цезаря» .
26
В этот год мы очень сошлись с кузиной Катей. Несмотря на то, что она была на два курса
старше меня, мы вместльского языка, с громадным интересом читали дома Lalka Prusa .
Часто вместе шли или возвращались с курсов. Общие курсовые дела и интересы очень
сблизили нас. С Леночкой мы виделись на курсах. Она посещала регулярно все лекции, ничем особенно не увлекаясь.
И вот незаметно подошла пора переходных испытаний. Леночка стала приходить ко мне, чтобы готовиться вместе. Это значительно облегчало работу, посколько способности у нас
были хорошие и приблизительно одного уровня. Чтобы скорее освободиться от
ненавистного бремени, мы все экзамены сдавали в ускоренные сроки. Сдав два-три
экзамена, я стала чувствовать себя плохо. Я всю жизнь не владела сном, а от нервного
напряжения совсем разучилась засыпать. Пролежав до рассвета, я садилась за книги, а в
7 часов, когда швейцар открывал двери, шла в сад технологического института.
Измученная бессонницей, дышала ароматом только что распустившейся зелени.
Освеженная, возвращалась домой к моменту общего вставанья и утреннего чая. Экзамены
я все сдала на пятерки, кроме четверок по двум предметам – законоведению и еще какому-
то. Но это была Пиррова победа. Приехав сразу после экзаменов в Журавку, я заболела
каким-то острым нервным заболеванием. У меня бывала высокая температура и я бредила, впервые в жизни. Врач Е.Н. Турина, лечившая меня, объяснила мою болезнь нервным
переутомлением. Она посоветовала мне сделаться вольнослушательницей. По ее мнению, тяжелая нагрузка экзаменов была не под силу для моей слишком впечатлительной нервной
системы. Через год, когда после долгих колебаний я оставила курсы, этот совет умного
врача был для меня большим утешением.
Все это время я не порывала с родной Гатчиной, наезжала туда, проводила там по
несколько дней. Была у меня там довольно близкая подруга по гимназии Шура
Штернфельс, у которой я останавливалась. За последние два года она часто говорила мне о
желании друга ее семьи мм Мелькау видеть меня женой своего сына. Как-то раз
предполагаемая свекровь пригласила меня на чашку чая и познакомила с сыном.
Совершенно не запомнила его внешности. Он был лесничий по профессии. Помнится, с
тяжелым чувством несвойственной мне неловкости, шла я на эти смотрины. Мне казалась
неправильной, меня смущала такая предопределенность событий. В природе я больше,
чем воду, люблю лес. Но в тот вечер любимый лес вдруг показался мне таким же тусклым, как мой собеседник. Он не поленился снабдить мою чашку чая большим конкретным
материалом по лесному хозяйству. Мои попытки перевести разговор на что-нибудь другое
не имели успеха. Возможно, такое неинтересное многословие произошло от сходного с
моим чувства неловкости. Вернувшись в Петербург, я написала мм Мелькау
дипломатическое письмо, в котором сообщала о решении «никогда не выходить замуж». И
это за полгода до замужества! Через два-три года мой предполагаемый жених выиграл в
какой-то лотерее 200.000 и сделался богатым человеком.
С тех пор, как во мне проснулось сознание, я страстно полюбила чтение. Могу прожить
без обеда, но книга – неоходимая принадлежность моего существования. Иногда задаю
себе вопрос – из множества книг, прочитанных на разных языках, какая произвела на меня
наибольшее впечатление? В течение 50 лет ответ остается неизменным: «Смерть»
Монтегацца. Сейчас, когда уход из жизни – вопрос ближайшего будущего, я ожидаю
смерть, как неизбежное, не задумываясь. Совсем иначе было в ранней молодости. Смерти
близких, любимых надолго останавливали мое внимание на самом факте исчезновения из
жизни. Не помню, как мне попала в руки эта замечательная книжечка Монтегацца. Она
произвела на меня ошеломляющее впечатление. С необычайной убедительностью автор
примиряет жизнь со смертью. Хотела бы перечитать эту книгу, но не знаю, существует ли
она. Да и вопрос потерял для меня свою актуальность.
Лагарп говорит, что книга – это друг, который никогда не изменит. По мнению Монтескье,
«полюбить книги – это значит сменить часы скуки на часы наслаждения» . Книги
помогают мне жить. Они или подтверждают мои мысли, или дают им новое направление.
Книги дают мне новые мысли, над которыми я задумываюсь и проверяю их правильность
на собственном опыте. Книги постоянно дают мне все новые и новые источники знаний, которые расширяют мой кругозор и делают жизнь ярче и интереснее. Французы говорят:
«Мы читаем только себя в книгах». Я понимаю эту мысль так: мы усваиваем, до нас
доходит в книгах только нам созвучное.
Второй год пребывания на курсах ознаменовался переходом нас с Леночкой на
студенческое положение. Поблизости к alma mater мы наняли небольшую комнатку со
столом, двумя кроватями и стульями, в углу набили гвозди для платьев, белье в чемоданах.
Все, как полагается у студентов. Обедать ходили в студенческую столовую. Обед из супа и
котлетки стоил 11,5 коп. Утром и вечером чай и бутерброд с колбасой. Для получения
полного комплекса ощущений, помнится, я без крайней надобности заложила в ломбарде
часы.
А в семье дяди были недовольны моим уходом. «Мы с Исидором Петровичем думали, что
ты проживешь с нами до окончания курсов, разве тебе плохо у нас?» – выговаривала мне
тетя. «Без тебя скучно», – говорили кузины. Я вносила в семью много смеха и веселья.
Помню, как однажды весной мы с Катей, возвращаясь после лекций, попали под ливень и
ураган. Несмотря на погоду, меня не покидало обычное веселое настроение. Промокая
насквозь, стояли мы, прислонясь к стене на Университетской набережной и, совершенно
обессиленные от хохота, не могли сделать ни шага. «Женя, веселая голова», – звала меня
тетя. Когда кто-нибудь в доме болел инфлюенцией с кашлем, и я входила в комнату
больного, тетя предупреждала меня: «Пожалуйста, не смеши».
27
Три месяца прожили мы с Леночкой в новых условиях. Территориальная близость давала
нам возможность принимать участие в общественной жизни курсов. Наверное, виной тому
тогдашняя моя аполитичность, но я не могу припомнить ни одного ярко впечатления от
курсовых сходок и собраний.
3. Замужество
Состояния апатии Леночки случались все чаще и продолжительнее. Наконец, в декабре
она пролежала неделю, и я начала беспокоиться. К нам часто заходил брат Леночки
Володя, юнкер Артиллерийского училища, а просила его написать отцу о болезни
Леночки. В ответ Володя передал мне просьбу отца привезти больную домой. Полковник
Владимир Александрович Бойе был батарейным командиром 43 арт. бригады, только что
переброшенной из Вильно в местечко Олита Сувалкской губернии . Между прочим, командиром этой бригады был в то время отец известного художника Добужинского.
Володя взял для нас отдельное купе и помог нам отправиться в путь.
Леночку в состоянии полного безразличия мы уложили в заранее приготовленную постель
в купе. Я очень боялась каких-либо осложнений в ее состоянии. Случилось обратное, и
через 36 часов я доставила ее домой в нормальном состоянии.
Володю я знала в Креславле мальчиком-подростком. Он был на два-три года моложе меня.
За шесть лет, что мы не виделись, мальчик превратился в рослого, красивого молодого
человека. Часто навещая сестру, он вдруг, по мальчишески, вообразил себя влюбленным в
меня. Чтобы не портить отношений, я на все объяснения мальчика, каким он остался для
меня, отвечала шутками. Он просил меня подождать два года, пока он окончит училище, и
мы поженимся. Я смеясь отвечала, что я никогда не выйду замуж за офицера, «ненавижу
войну, – говорила я, – и считаю, что изучать искусство убивать людей могут только
дураки». На это он возражал, что окончит Академию и будет военным профессором.
«Тогда мне придется ждать вас не два, а семь лет, и я состарюсь», – смеялась я. У него же
на все были готовы ответы. Провожая нас на вокзале, Володя вдруг помрачнел. Он
вспомнил, что бригадный адьютант в Олите замечательный красавец, в него влюблены все
бригадные дамы. «Дайте мне слово, что вы не измените мне, я приеду через две недели».
Я, шутя, успокаивала мальчика. «Вы же знаете, что я застрахована от любви к офицерам.
Вспомните, что я вам говорила». Я осмотрелась кругом – никого не было – и тихо
добавила: «Все офицеры – дураки». Поезд тронулся, когда в воздухе прозвучали мои
последние слова. Как неловко я себя чувствовала через месяц, вспоминая о них.
Казармы 43 бригады были только что выстроены на берегу Немана в чудесном сосновом
лесу. Несмотря на то, что станция отстояла в десяти минутах ходьбы от казарм, за нами
был выслан экипаж и деньщик. Отец и тетка Леночки встретили нас очень приветливо.
Мы сразу прошли в приготовленную для Леночки прекрасно обставленную комнату. Тетя
Анжелика была сестрой покойной матери Леночки. Рано овдовев, бездетная, она,
поселившись у сестры, овладела всеми ее функциями. Леночка тяжело переживала
семейную драму. Но, если правда, что дорога к сердцу мужчины идет через желудок, то
тетя Анжелика владела этой дорогой. Кулинарка она была необыкновенная. Во время
приготовления обеда от ее всегда закрытых кастрюлек шли необычайно аппетитные
ароматы. Особенно удавались ей торты и печенья.
Мы приехали утром и только успели привести себя в порядок после дороги, как в комнату
вошла тетя Анжелика. Она внимательно осмотрела туалет Леночки, заботливо переделала
ее прическу и сказала: «Сейчас подаю обед. У нас сегодня обедает премилый и
пресимпатичный молодой человек». По тому, как был возвещен этот гость, я сразу поняла, что в его лице для Леночки приготовлен жених. И не ошиблась. Он оказался тем самым
бригадным адьютантом, об опасной красоте которого Володя предупреждал меня. За
обедом Леночку посадили рядом с ним, а меня напротив, мое первое впечатление было
неблагоприятное. По-женски застенчивый, скромный, молчаливый, он почти на поднимал
глаз. Полковник почти каждый день приводил его обедать. Красавец-адьютант с каждым
днем завоевывал сердце Леночки. После обеда они часто вдвоем уходили гулять. Стояла
чудесная, умеренно-морозная погода. Луна красиво освещала дорогу, окаймленную
высокими соснами. Тетя Анжелика торжествовала, ее замысел воплощался в жизнь.
«Выйдет замуж – всю болезнь, как рукой, снимет», – делилась она мыслями со мной. И
действительно, Леночку трудно было узнать. Она расцвела, похорошела, вся светилась
счастьем своей первой и, как ей казалось, разделенной любви. Я искренно радовалась
Леночкиному счастью.
А как я сама проводила время? Для скучающей бригадной молодежи, заброшенной в лесу, появление двух столичных барышень-курсисток произвело сенсацию. Мне было 22 года, я
была в полном девичьем расцвете, успех у меня был большой. На вечерах я была
окружена, за мной ухаживали. Один офицер, красивый блондин, ничего не говорящий ни
уму, ни сердцу, сделал мне предложение.
Я познакомилась с одной умной, образованной дамой, и мы очень полюбили друг друга.
Это была полковница Елена Николаевна Терпиловская, ей было уже за сорок, и она только
что произвела на свет очаровательную крошку Танечку. Я влюбилась в Танечку,
няньчилась с ней и все дни проводила около ее колыбельки. Вся, пропитавшись за день ее
милым существом, я и во сне не разлучалась с нею. Однажды, когда мы сидели у кроватки
Тани, ее мать, ласково взглянув на меня, сказала: «Знаете, Женечка, вчера вы ушли, а я
долго мысленно оставалась с вами. Наверное, о вашем обаянии вам не раз уже говорили.
Мне захотелось определить, из каких источников оно вытекает, и вот к какой мысли я
пришла. Вы хорошенькая, но хорошеньких на свете очень много. Вы умная, но и умных
очень много, вы добрая, но и их встречается в жизни великое множество. В отличие от
других вы являетесь редким осуществлением этих трех качеств. Вот как я определила
ваше обаяние».
28
Какой теплотой повеяло на меня от этих слов милой, умной женщины, как живо
запомнила я их на всю жизнь. Моя страстная любовь к чужому ребенку с постоянной
мыслью: как бы я хотела иметь такого, рожденного мною – я ретроспективно определяю, как созревший инстинкт материнства. Говорят, что женщина в тридцать лет или начинает
свою женскую жизнь, или ее кончает. Это определение мне кажется глубоко правдивым. Я
когда-то слыхала термин «матьдевушка». И женщин такого типа гораздо больше, чем
думаю, я бы сказала – большинство. Мое принятие замужней жизни только в той мере, как
она нужна для материнства, таило в себе неизбежную трагедию моего брака. Я
принадлежала к неспокойной категории женщин, созревающих после тридцати лет, и,
когда пришла пора не девичьего, а женского расцвета, были сломаны устои, казавшиеся
незыблемыми.
Возвращаюсь к нашему пребыванию в Олите. Приезжал в отпуск Володя и остался очень
доволен положением вещей. Уехал, напомнив мне об якобы данном ему слове – ждать его
два года.
Подходило время начала лекций и нашего возвращения в Петербург. Накануне отъезда мы
были на прощальном вечере у Терпиловских. Леночка, как всегда, не танцевала, она взяла
на себя неблагодарную роль тапера. Мы с красивым адьютантом составляли в танцах
хорошую пару и вальсировали час под аплодисменты. В тот памятный вечер во время
вальса что-то заставило меня повернуть голову и посмотреть в глаза моему партнеру. Я
прочла в них глубокую, благоговейную нежность. И сразу из каких-то глубин,
бесконтрольно и безответственно, засветились мои глаза ответным чувством. Эта песня
без слов длилась лишь несколько секунд. Вдруг замолкло пианино, закончив вальс каким-
то звуком, похожим на стон. Леночка откинулась на спинку стула, руки ее безжизненно
упали на колени. Она побледнела, глаза тускло уставились в одну точку. Я поспешила ей
на помощь и увела ее, сказав хозяевам, что у нее вдруг сильно разболелась голова. Придя
домой, мы легли, но обе не заснули в эту ночь. Без вины виноватая, я чувствовала всем
существом, как страдает моя дорогая подруга. Но сквозь навалившуюся на меня тяжесть
ее страдания эгоистично пробивались предчувствия возможного счастья. Но все во мне
было так неоформленно, так хаотично, что минутами хотелось скорее сесть на поезд и
уехать. А затем опять сердце забивала радостъ нового, еще неиспытанного чувства.
Несколько часов мы пролежали в полном молчании, обычном для периодов Леночкиного
нервного заболевания. Но под утро она вдруг проговорила: «Женя, ты не спишь? Неужели
ты не отдаешь себе отчета в том, что вы с Николаем Арнольдовичем любите друг друга? Я
давно это подозревала, а теперь знаю наверное». Я была так потрясена ее словами, что
долго не могла выговорить ни слова. Наконец, собралась с силами: «Поверь мне, что я все
время была делека от этой мысли. А сейчас возможно, что это и так». Потом, вспомнив
про наши наполовину наполненные чемоданы, добавила: «Сегодня в 12 часов мы уедем, и, ручаюсь, что очень скоро все забудется. Успокойся, давай кончать укладываться».
Наступило позднее январское утро, рассвело. Леночка вышла из комнаты, часа через пол
вернулась и сказала: «Сейчас Николай Арнольдович будет здесь. Я послала с деньщиком
ему записку, просила зайти перед службой. Я приму его в кабинете, и, если он подтвердит
то, в чем я уверена, пришлю его к тебе. Решайте сами свою судьбу».
Действуя властно, со свойственным ей благородством, Леночка, сама того не замечая, ставила Николая Арнольдовича в затруднительное положение. Еще совсем юный (ему
только минуло 22 года), он был очень плохо обеспечен материально. А главное,
исключительно порядочный, симпатичный, при решении жизненных вопросов он всегда
проявлял большую нерешительность. Таково было свойство его характера. А тут
получался головокружительный экспромт.
Через несколько минут Николай Арнольдович, счастливый, взволнованный, вошел в
Леночкину комнату. И сразу все озарилось громадной радостью, все стало так просто и
понятно, ушла куда-то тяжесть Леночкиных переживаний. Он взял мои руки и, покрывая
их поцелуями, произносил слова, на которые созвучно отвечало все мое существо. Мы
переживали мгновения, ради которых стоило жить. По глубине и чистоте эта первая
любовь юных существ, их взаимное обожание может переживаться только раз. Она
неповторима. Поцелуя не было, поцелуй пришел много позднее. Забегая далеко-далеко
вперед, можно определенно сказать, что Николай Арнольдович был однолюб, несмотря на
страдания, которые я, опять без вины виноватая, заставила его пережить, он пронес свою
большую любовь через всю жизнь. Прошло 43 года с того памятного утра – незадолго до
смерти (в 1941 году) он как-то сказал мне, что его любовь осталась такой же, как в первые
годы нашего брака. Какого нежного друга я в нем потеряла, какую пустоту в моей жизни
оставила его смерть.
Возвращаюсь к событиям морозного январского утра. Очень просто объяснилось
поведение Николая Арнольдовича. Он полюбил меня с первого взгляда, но, явно избегая
его, я казалась ему недоступной. До вечера накануне он считал свою любовь безнадежной.
Он умолил меня побыть с ним еще два дня. Леночка уехала. Мои вещи были перенесены к
Терпиловским, в семье которых я провела чудесных два дня в новом положении невесты.
Воображаю, как тетя Анжелика ругала меня. Ни ее, ни отца Леночки я никогда больше не
видала. Осенью, когда я приехала в Олиту как новый член бригадной семьи, ни Бойе, ни
Терпиловских там не было. Наши с Леночкой отношения оборвались и никогда не
возобновились. Какая-то стена разделила нас. В 1904 году, когда Николай Арнольдович
воевал на Дальнем Востоке, она разыскала и однажды посетила меня. Я была в
Петербурге, у меня было двое детей. Старшей дочери Наташе, очень похожей на отца, было четыре года. Свидание получилось натянутое и больше не повторялось. В день моей
свадьбы Володя Бойе поздравил меня дерзкой телеграммой: «Не поздравляю вас,
поздравляю Николая Арнольдовича». Приблизительно в 1929 г., через тридцать лет после
моего замужества, он разыскал меня. Давно женатый, отец взрослого сына, постаревший, беззубый. Рассказал о Леночке, что она была замужем за ветеринарным врачем и рано
умерла, оставив четырех маленьких детей.
29
При возвращении в Петербург у меня была интересная встреча, которой в то время я не
придала никакого значения, а потом, через десять лет, как я вспоминала и переживала ее!
На вокзале я дала Николаю Арнольдовичу свой кошелек и просила взять билет третьего
класса. Он взял место во втором классе, вернув в неприкосновенности мои финансы.
Неизбалованную в жизни, меня очень тронула такая забота и нежное внимание.
Расстались мы ненадолго, через месяц Николай Арнольдович должен был приехать на
неделю в Петербург. Войдя в купе, я села у окна и погрузилась в чтение английского
романа. Против меня два молодых человека разговаривали по-английски. Ночью один из
них вышел, а утром, когда я взяла книгу и заняла свое место у окна, второй сидел рядом со
мной. На вид ему казалось лет тридцать. Он был высокого роста с интересным лицом
русского интеллигента. Незаметно мы разговорились и провели вместе чудесный,
незабываемый день. Среднюю школу он окончил в Англии, университет в России, был,
очевидно, крупный коммерсант. Страстный музыкант, он в своем имении под Лугой
проводил целые ночи за роялем, играя Шопена. Исполняя произведения любимого
композитора, он находил в них отклики своих настроений. Его профессия требовала
постоянных путешествий, много времени он проводил заграницей. Человек большой
культуры, умный, интересный собеседник, он так увлек меня своими рассказами, что я
забыла все на свете. Наша беседа коснулась личной жизни. Он рассказал свою трагедию –
несколько лет тому назад умерла его невеста. Я показала ему карточку моего жениха. В
Пскове во время обеда он поделился со мной составленным обо мне мнением. «В вас
сочетается прелесть русской девушки с той простотой в обращении, какую я встречал
только у иностранок». Отношения наши приняли еще более задушевный характер. Он
просил меня назвать любимые произведения Шопена – я сказала, что мой любимый
композитор Бетховен, назвала две его сонаты и Impromtu Шопена. «Отныне, – сказал он, –
исполняя эти вещи, я буду всегда думать о вас». Он написал на листке бумаги свое имя, отчество, фамилию и адрес. Записку вложил в свою английскую книжку Марка Твена и
подарил мне на память о нашей встрече, сказав: «На днях я уезжаю в Америку, через
месяц буду дома. Как я был бы счастлив получить разрешение повидать вас. Как тяжело
найти, чтобы потерять».
Поезд подходил к Луге. Он стоял с саквояжем в руке. Я смотрела на него и думала:
«Никогда в жизни ни с кем не было мне так хорошо и интересно, как с ним». А он
говорил, пожимая мне руку: «У меня в характере такая странность. Я прощаюсь с вами как
будто без особого волнения. А потом как буду тосковать». Он вышел. Я вернулась к
мыслям о возлюбленном. Книга была у меня долго, а на записку я не обратила никакого
внимания и не заметила, как она испарилась. Не помню даже, чтобы я прочитала ее.
В марте Николай Арнольдович приезжал в Петербург повидаться и познакомился с моими
родными. В апреле, на пасхальной неделе мы с ним встретились в Риге у его родителей.
Мать его была русская, удивительно милая старушка. Мы с ней прочно подружились на
всю жизнь. Ей очень нравилось расчесывать мои волосы, плести и расплетать косу. Отец
Николая Арнольдовича был отставной полковник, типичный немец-рижанин. Его предок
фон Вейтбрехт был выписан при Петре I из Германии для организации книжного дела в
России. Дед Николая Арнольдовича был вицегубернатором Риги. Помню, как его отец во
время нашего у него пребывания сделал мне замечание относительно неправильного, по
его мнению, употребления глагола «любить» в русском языке. «Как можно говорить: я
люблю маму, люблю жениха и люблю гречневую кашу! Надо сказать – Ich esse gern – я
охотно ем».
В то время я воспринимала замечание своего свекра о слишком широком значении
русского слова «любить» с юмором, объясняя его указание немецкой точностью и
аккуратностью. А вот теперь, когда за истекшие 50 лет мне удалось познакомиться еще с
несколькими европейскими языками, нахожу, что до некоторой степени он был прав.
Я не говорю про гречневую кашу, в любви к которой мы не одиноки, так как французский
aimer также включает и продукты питания. Но некоторые европейские языки имеют даже
точную терминологию, различную для любви дружеской и романтической. Так, например, в английском языке to love и to like, в итальянском – amare и voler bene. Мне нравится
определение дружеской любви у итальянцев – voler bene – желать добра. Испанский глагол
amar и немецкий lieben передают все виды любви и уважения. Но для каши у них имеются
особые выражения – gustar и essen gern. Польский глагол kochat moyce имеет
исключительно отвлеченный, а не материальный характер любви.
Свекр был большой любитель чтения. На книжной полке в его кабинете почти все книги
имели надписи «прочел» и его инициалы. «Чтобы не читать несколько раз одну и ту же
книгу», – пояснил он мне. Я впервые попала в немецкие город и в немецкое общество.
Рига поразила меня чистотой и массой зеленых насаждений. Летом город утопал в цветах.
Такой же несвойственной нам, русским, чистотой и порядком отличались все квартиры, где я побывала. Николай Арнольдович сказал мне, что у них принято надевать на ночь
чехлы на мебель. Чтобы получить полный отдых, жители, рано ложась спать, закрывали на
ночь ставни. Обедали часа в 23, сытно, вкусно, но не тяжело. Не было у них наших
мясных супов, на первое обычно подавалось мясное с обильным соусом из овощей, а на
второе сладкий суп из сушеных или свежих ягод, яблок, пива, молока. В 5 часов рижане
пили кофе с чудесными сдобными булочками, какие выпекались только в Риге. Вечером
легкий ужин, часто только простокваша. Такой режим, возможно, способствовал здоровью
и хорошему настроению жителей. Женщины отличались свежестью и полнотой,
напоминали сдобные булочки. Нигде, ни в каких дачных садах не слыхала я таких взрывов
смеха и веселья, как на рижском взморье. А объект веселья – какие-нибудь качели или
даже просто качальная доска. И веселились отнюдь не дети, а взрослые люди.
30
В июле 1899 года в деревенской церковке близ Журавки состоялось наше венчание.
Присутствовали только мачеха и братья. По дороге в церковь я сказала
Николаю Арнольдовичу: «Обряду, который сейчас совершится над нами, я не придаю
никакого значения. За одно могу ручаться – я никогда не изменю тебе. А если разлюблю, скажу. Хочу думать, что и ты поступишь также».
На другой день после свадьбы мачеха была неприятно удивлена, когда прислуга, в отличие
от новоявленной «молодой барыни» стала называть ее «старой барыней».
Николай Арнольдович перед женитьбой получил отдельную квартиру в три комнаты. Из
Гатчины нам прислали мебель, поставленную у знакомых после смерти отца. Так приятно
было увидеть вещи, привычные мне с детства. Братья дали мне тысячу рублей, столько же
получил Николай Арнольдович от отца на обзаведение. Все это дало нам возможность
устроиться довольно уютно. Кроме того, братья внесли в банк 5000 в порядке реверса.
При царском режиме молодой офицер получал разрешение на женитьбу только в том
случае, если он или его невеста клали в банк неприкосновенный капитал в размере 5000.
Деньги эти по истечении положенного срока полностью им возвращали. На 400 рублей
процентов с этой суммы мы одевались.
Выплатой этой суммы закончилось мое право на наследство отцовского имения. Но закону
мне полагалась только четырнадцатая часть недвижимого имущества.
За мою долгую жизнь мне часто приходилось наблюдать молодоженов в первый год их
брака. У меня почти всегда создавалось впечатление трудности, с которой стирались углы, вырабатывались взаимные компромиссы. Обычно через известный период все входило в
ту или иную колею. А бывало и так, что состояние конфликта делалось постоянным, и
супруги безнадежно тянули свою лямку. На другой день после свадьбы мачеха была
неприятно удивлена, когда прислуга, в отличие от новоявленной «молодой барыни» стала
называть ее «старой барыней».
Николай Арнольдович перед женитьбой получил отдельную квартиру в три комнаты. Из
Гатчины нам прислали мебель, поставленную у знакомых после смерти отца. Так приятно
было увидеть вещи, привычные мне с детства. Братья дали мне тысячу рублей, столько же
получил Николай Арнольдович от отца на обзаведение. Все это дало нам возможность
устроиться довольно уютно. Кроме того, братья внесли в банк 5000 в порядке реверса.








