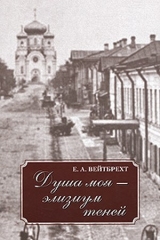
Текст книги " Душа моя - элизиум теней"
Автор книги: Евгения Вейтбрехт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
столе. Ничего не понимая, но, почувствовав недоброе, я громко зову: «Мама, мама», – и
заливаюсь слезами. Меня уводят.
Заканчивая мои краткие воспоминания о родителях, мне хочется мысленно возложить на
их забытые, затерянные могилы венки, сплетенные из теплых чувств благодарности. Отец
передал мне способность уметь до глубокой старости, отъединяясь от будничной жизни, наполнять ее широкими интеллектуальными интересами. От матери я унаследовала
легкость в усвоении и интерес к изучению иностранных языков. Это, помимо заработка, дало мне возможность наслаждаться, читая в оригиналах мировые шедевры на шести
иностранных языках. Результаты моих многообразных работ никогда не были
скольконибудь значительными. Все же я всегда стремилась, чтобы в той или иной форме
они были полезны людям.
Несмотря на то, что в текущем 1948 году мне исполнится 72 года, я сохранила телесную и
душевную бодрость. Внимательно, с громадным интересом слежу за борьбой,
расколовшей на две части земной шар, стараюсь разглядеть намечающиеся на горизонте
будущие судьбы человечества. Флобер писал в середине прошлого века, что через сто лет
люди перегрызут друг другу горло, если к этому времени во всем мире не установится
социализм. Срок истекает... .
Как близки по-существу предсказания двух великих умов человечества. Флобер пишет сто
лет тому назад: «Приближается время, когда национальности исчезнут. "Отечество" станет
такой же археологической редкостью, как "племя"».
Наш современник Горький подтверждает эту мысль, когда говорит: «И несмотря ни на что, все-таки, люди со временем будут жить, как братья».
Трудно себе представить всю степень беспомощности, в которой очутился мой отец после
смерти нашей матери. Нас было четверо. Старшему брату было шесть, младшему – девять
месяцев. Далекий от повседневной жизни, углубленный в мысли, не имеющие к нам
никакого отношения, отец до конца жизни остался нам чужим. Мы боялись и не любили
его. Рано потеряв отца (мне было четырнадцать лет), мы не сумели понять и оценить его
хорошие человеческие качества. Справедливый, честный, при всех столкновениях с нами
он требовал от нас только правды и наказывал за малейшее от нее отклонение.
Вспыльчивость мешала ему разобраться во всех детских провинностях, и он быстро
прибегал, правда, не к очень серьезной, внешней экзекуции, во время которой я всегда
громко плакала и кричала, умоляя: «Не бей». Меня он никогда не трогал, но ужас к
физическим наказаниям в моем присутствии сохранился у меня на всю жизнь. Часто через
час-другой приходил он в детскую и говорил, обращаясь к потерпевшему: «Извини меня, мальчик, я погорячился». Это обращение к детям, как к равным, я помню, всегда трогало
моих братьев. Трудно поверить, что наш рассеянный отец в тот период путал имена своих
сыновей – Вениамина и Виктора, и общее для всех обращение «мальчик» выручало его.
Что касается внешней, формальной стороны выполнения отцовских обязанностей, то
трудно упрекнуть его в недостаточном внимании к своим осиротевшим детям. Учитывая
его природные данные, он делал все, что мог, чтобы мы были хорошо обслужены, он
нанимал двух прислуг, давал деньги на наше питание. При проявлении ими жестокости по
отношению к нам, он немедленно отказывал виновной и нанимал другую.
В своем дневнике мой восьмилетний брат сообщает об особенно жестоком отношении к
нам некоей Маши: «Она нас мучила и учила ругаться. Меня и Веню драла за уши. Один
раз она на дворе толкнула Веню со всей силы. Он упал и разбился в кровь».
Отец произвел следствие. Маша отпиралась. Был призван свидетель – дворник. Отец
выгнал Машу из дома прямо на улицу.
Однажды отец заметил большую царапину у меня на щеке. Другой раз с трудом
передвигался, хромая, мой младший брат. И в том, и в другом случае виновные были
немедленно удалены из дома.
Сами мы никогда ни на что не жаловались, во-первых, считая, вероятно, что у сирот так
полагается (а о нашем сиротстве нам твердили с утра до вечера), а, во-вторых, всецело
отданные в руки постоянно сменяющихся прислуг, мы рано убедились, что жалобы часто
ухудшали наше положение.
Отец вставал рано, уходил на службу. Возвращался в три часа и заходил всегда на
несколько минут к нам в детскую. Брал кого-нибудь из нас, чаще всего меня, на колени и
беседовал в нами. Он любил трепать нас за мочку уха, ласково приговаривая что-нибудь
вроде: «Ну, мальчик, как поживаешь, как дела, много ли шалил?». Мне он постоянно
обещал купить красные сапожки, «если я буду умница». Затем он обедал один, раздевался
и ложился спать. С этого момента и до окончания его отдыха во всей квартире
устанавливалась полная тишина. Ходили на цыпочках, говорили шепотом. Он страдал
бессонницей, спал очень чутко, и горе тому, кто осмелился как-нибудь неосторожно
прервать его сон. Такое деспотичное отношение, создавая тяжелые условия для
окружающих, возможно, способствовало развитию в нас культурных навыков, одним из
которых является уважение к чужому покою.
Вечером мы редко и ненадолго видели отца. Он или уходил, или сидел в халате в своем
кабинете, чтото писал, чем-то занимался. Вход в кабинет нам строжайше был запрещен.
Совершенно не попадали в поле зрения нашего отца вопросы о том, как мы питались, как
проводили время. В дневнике моего брата есть указание на упрек, сделанный Машей
Аннушке: «Ты даешь детям только свои объедки».
Вспоминая в последующие годы наше питание в этот период, мы видели себя сидящими в
детской за небольшим, ничем не покрытым столом. У каждого кружка горячего чая баз
сахара и большой ломоть черного хлеба, намазанный патокой. И так два-три раза в день.
Никаких обедов никто из нас не мог припомнить. Довольны были дети, богатели
прислуги. Кроме младшего брата мы отличались прекрасным здоровьем, чему не мало
способствовал, помимо патоки, прекрасный гатчинский воздух.
Младший брат родился у больной туберкулезом матери, и первые два года его жизни были
сплошным страданием. У него на шее все время были гнойные раны. Я помню его
маленькую фигурку, когда он в два года стал ходить. Все еще с забинтованной шеей, с
лицом, похожим на ангела, он постоянно твердил, подымая кверху ручонку: «Моя мама на
небе, и я скоро пойду к ней». Но вопреки всей нашей тогдашней обстановке и
предсказаниям, он поправился. В детстве он отличался каким-то кротким терпением и
добротой. И если бесконечно меняющиеся прислуги уделяли детям какую-то долю
внимания, то, несомненно, оно перепадало ему.
Старший брат Жорж поступил в малолетнюю школу Гатчинского Сиротского Института, в
котором преподавал мой отец. С тех пор, как он научился читать, он был неразлучен с
книгами.
Второй по счету Вениамин был старше меня только на 11 месяцев. Природа наделила меня
неисчерпаемым источником жизнерадостности и веселости. Веня был не по летам
серьезным, вдумчивым и скорее мрачным. Мы с ним очень дружили в этот период.
Предоставленные самим себе, мы в теплые времена года почти все время проводили на
дворе, в своем садике или в экскурсиях по чудесным гатчинским паркам. Тихий городок с
редкими извозчиками не представлял для нас никакой опасности, тем более, что мы
ходили всегда осторожно, крепко держась за руки. Оба мы страстно любили музыку. В то
время в Царском саду около дворца часто играл духовой оркестр, и устраивались
народные гуляния с танцами. Однажды мы с братом услыхали, что там будут танцы, и
лучшие исполнители польки получат призы. Мой брат был музыкальный, он помнил
мотив польки, и мы с ним решили, подучившись дома, выступить на получение приза.
Брат напевал, мы долго трудились, вырабатывая па. Танец мы исполнили – правда, нас, оборванных грязнушей, на площадку не пустили. Мы танцевали, как умели, сбоку между
деревьев. Из сада мы возвращались, гордые сознанием, что станцевали польку на приз
вместе с другими.
Во время наших прогулок мы все время спрашивали у встречных: «Который час?»,
заботились, как бы не опоздать к приходу домой отца.
К этому времени относится одна моя выходка, о которой много говорили у нас на кухне.
Мы с братом играли на дворе. Раздобыв где-то кусок бумаги, мы делали пакетики с
песком. К нам на двор часто приходила слепая нищая. Она подошла к нам, протянула руку, нащупала мой пакетик с песком. Как это случилось, трудно сказать, но пакетик оказался в
ее руке, и она, поблагодарив, ушла.
«И кто-то камень положил в ее протянутую руку». На другой день она пришла на двор
жаловаться. Дело дошло до отца, он не так сердился, как хотел пояснить мне жестокость
моего поступка. Я обезоружила и рассмешила его, когда на вопрос: «Зачем ты дала ей
песок?» – ответила: «Чистить самовары».
Сохранилась фотография нас с братом, сделанная еще при жизни матери. На нас
бархатные платья с кружевными воротничками. По рассказам очевидцев, она была очень
заботлива к детям, и у нас всего было вдоволь. Но все поизносилось, поистрепалось, и во
время наших прогулок мы с братом постоянно слышали жалостливые: «Вот бедные
сиротки идут». К этому мы привыкли. Но раз как-то, я помню, две кумушки на лавочке у
своих ворот громко поделились своими впечатлениями: «Вот Борейшевские обормоты
идут». Я знаю, что Борейша – наша фамилия, а новое слово меня поразило, я долго не
знала, что оно значит. Грязные, оборванные, но довольные своей ранней
самостоятельностью, мы шли, не обращая внимания на замечания прохожих. Крайняя
рассеянность мешала отцу обратить внимание на то, как одеты и обуты его дети.
Наверное, кто-нибудь из жен сослуживцев имел с ним разговор по этому поводу. Но
однажды он занялся этим вопросом, вспомнил, что наша мать оставила много носильных
вещей, и решил позвать портниху, чтобы обновить наш гардероб. После смерти матери
отец сложил все ее вещи в большой сундук, запер его на замок, ключ положил в бюро. Я
смутно знала об этих сокровищах, потому что иногда вместо красных сапожек он обещал
мне прекрасные вещи из маминого сундука.
Наконец, пришел решительный момент, мы все присутствовали при открытии заветного
сундука. Вот заскрипел замок, вот поднялась крышка, и мы невольно вскрикнули от
удивления – сундук был совершенно пустой. Дно было вынуто. Вообще в смысле пропажи
вещей у нас было совсем неблагополучно. Я помню страшную вспышку гнева отца, когда
он, вернувшись ночью откуда-то и ложась спать, обнаружил отсутствие на своей постели
второй подушки и французского матраса. Крики разбудили меня. Весь гнев обрушился на
прислугу. Отец кричал, что он подаст в суд, так невозможно жить, квартира полна воров.
«Они дошли до предела нахальства». Прислуга заявила, что она ничего не знает. В конце
концов, выяснилось, что Маша, с позором изгнанная отцом за побои детей, приходила за
своими вещами и, вероятно, в отместку, захватила половину постели отца.
Два-три дня отец горячился, обсуждал эту кражу и все собирался подать в суд. Потом по
всегдашней рассеянности забыл и так, до появления второй жены, спал на одной подушке
и пружинном матрасе. Мне иногда кажется, что у нас в этот период работала какая-то
организованная шайка воров. Одним отказывали, появлялись на их место такие же другие.
Ведь на свете много хороших людей – отчего мы, сироты, не вызывали ни в ком
сочувствия, сострадания, никто не отнесся к нам по-человечески? Мы жили, никем не
любимые, и сами никого не любили. Я, как девочка, бессознательно страдала больше всех.
Помню появление у нас новой прислуги Анны Ивановны, которая приласкала меня. Я
ответила ей страстной любовью, счастью моему не было предела. Я целовала ей лицо, руки, платье. Братья издевались надо мной, называли лизуньей, уверяли, что я заражусь от
нее бородавками. Я была на все готова и горько плакала, когда недели через две, встав
утром, побежала к ней и не нашла ее. Отец, найдя меня в слезах, пробовал утешить, потрепал щеку, ухо, покачал на ноге и, наконец, сказал: «Не плачь, скоро у тебя...», я уже
мысленно закончила – «будут красные сапожки», но, к моему удивлению, он сказал:
«будет новая мама». Сказав это, он быстро ушел из комнаты, и я перестала плакать.
Радостная, недоумевающая, побежала искать братьев, чтобы узнать значение этих слов.
Мои два старших брата сидели пригорюнившись. Отец вызвал их в кабинет и сказал, что
он скоро женится, и у нас будет новая мама, которая будет о нас заботиться. Вынул из
кармана и показал карточку своей невесты.
Тут разыгралась тяжелая сцена. Братьям, как видно, уже сообщили в кухне о планах отца.
Они оба возмущенно закричали: «Мы не хотим новой мамы». Один из них плюнул на
карточку. Отец какой-то стороной души, очевидно, понял их и, без гнева, велел им идти в
детскую, сказав, что поговорит с ними после.
Вот что пишет Герцен в «Былое и думы» об отношении детей к мачехе: «Новое лицо,
вводимое вместо матери, вызывает со стороны детей отвращение. Второй брак – вторые
похороны для них. В этом чувстве ярко выражается детская любовь, она шепчет сиротам:
"Жена твоего отца – вовсе не твоя мать"».
В тот же вечер он имел с нами долгую задушевную беседу. Присутствовала ли я – не
помню. Мне, кроме «новой мамы», была обещана «новая кукла», и я радостно
приветствовала и то, и другое. Уже после смерти отца братья с большой теплотой
вспоминали этот разговор. Отец пришел к ним взволнованный, ходил, как всегда в такие
минуты, крупными шагами по комнате. Он называл их «мои друзья». Упомянув, что нашу
дорогую покойницу уже не вернешь, он долго говорил о том, как трудно живется ему и
нам детям, как запущен, заброшен наш дом. Как нужна нам, как мы должны
приветствовать приход хорошей, доброй женщины, которая возьмет хозяйство в свои руки, будет заботиться о нас. Нельзя было не согласиться с этими доводами.
Недоброжелательное отношение к женитьбе отца братьям внушили на кухне. С приходом
хозяйки прислуги теряли все свои преимущества.
Когда через несколько дней к нам пришла молодая, красивая барышня с подарками,
провела с нами несколько часов, приласкала нас, то, уже не говоря про меня, и мои
протестанты-братья были очарованы ею. Мы все просили ее переехать скорее к нам.
Трудно понять, что побудило молодую, 24-летнюю хорошенькую девушку выйти замуж за
45-летнего вдовца с четырьмя детьми. Я нахожу, что это былово всяком случае геройство с
ее стороны. Ее брат, Николай Георгиевич Левлин, был преподавателем латинского языка в
Гатчинском Сиротском Институте, у него было пятеро детей. Жила с ними и его мать.
Разумеется, жизнь Елены Георгиевны в такой большой семье, при всех обстоятельствах, была незавидная. В то время в этом возрасте девушки считались уже перестарками, шансы
на замужество падали с каждым годом. Образование она получила домашнее, т.е.
никакого, умела читать и неграмотно писать. В то время положение женщины было такое
тяжелое, что получить какую-нибудь работу с такими данными было невозможно, надо
было выходить замуж. Кроме отца у нее был еще претендент на руку и сердце – инспектор
Гатчинского института, тоже вдовец с двумя детьми Ф.А. Витберг. Он был интересный, очень моложавый и симпатичный, очевидно, сын знаменитого архитектора, строителя
Храма Спасителя в Москве, о котором так много пишет Герцен в «Былом и думах».
Впоследствии он был инспектором Николаевской половины Смольного института. Лысый, слегка рябой, отец, очевидно, взял верх в этом соперничестве не своими внешними, а
скорее внутренними данными. Человек большой культуры, живой, остроумный,
интересный собеседник, он был всегда и везде душой общества. При взвешивании данных
двух претендентов, очевидно, бралось в расчет еще одно обстоятельство – отец
выплачивал своим братьям и сестрам их доли за небольшое родовое имение в
Могилевской губернии, так что (в будущем) ей предстояло быть помещицей.
Не знаю, откуда у нас, детей, были такие сведения о сватовстве отца, но его победа над
Витбергом трактовалась в очень упрощенном виде. На вопрос отца, согласна ли Елена
Георгиевна быть его женой, она ответила, что ей уже сделал предложение Витберг, и она
не знает, на ком остановиться. На это отец заявил ей: «Решайте сейчас. Если вы будете
колебаться, я выброшу Витберга в окно». Она испугалась и согласилась.
Со вступлением в нашу семью нового члена семьи – Елены Георгиевны– кончается мое
младенчество, и начинается детство.
Гатчина, в которой прошло мое детство, в восьмидесятых годах представляла собой очень
тихий, чистенький провинциальный городок, скорей даже просто дачное место. Население
группировалось вокруг трех центров – Дворца, Николаевского Сиротского института и
23й артиллерийской бригады. Это были отдельные замкнутые группы, как бы касты.
Весь городок состоял из деревянных одноэтажных домиков с садами. Летом очень многие
из жителей переселялись в окрестные деревни, отдавая в наем дачникам свои квартиры.
Так делали и мои родители.
В своей родной Гатчине я прожила почти безвыездно 17 лет. Избалованная чистым
воздухом этого благословенного городка, белоснежного зимой и утопающего в зелени
летом, я задыхалась в Петербурге в редкие свои туда выезды. С тоской смотрела я на
всегда серое небо, с ужасом ощущала вокруг себя грохот и трескотню большого города.
«Как люди могут здесь жить?» – задавала я себе вопрос и всей душой стремилась
вернуться в свои тихие пенаты. Особенно я любила улицу-аллею, ведущую от
Варшавского вокзала через весь город, и наш садик с его ранними душистыми почками на
серебристых тополях.
Второй брак моего отца, несомненно, отразился благоприятно на нашем детском быте. В
доме наладилась организованная жизнь. Первый год нашей жизни с мачехой можно
назвать «медовым». Дети, изголодавшиеся по ласке и вниманию, как-то сразу прониклись
обожанием к молодой, красивой, ласковой женщине. Мягкая по природе, она была
растрогана затопившею ее нашей привязанностью. Наш любимый час был
послеобеденный, когда отец укладывался на полтора часа в постель, а Елена Георгиевна
ложилась в кабинете на диван и была в полном нашем распоряжении. Мои обязанности
были обувать и разувать ее, массировать ей виски – она страдала головными болями.
Младший брат Виктор, сразу сделавшийся ее любимцем, влезал к ней за спину. Старшие
два брата садились на диван у ног и занимали ее разговорами. Беседа велась шопотом из
боязни разбудить отца и потому казалась особенно задушевной.
Перемена моей жизни была особенно значительной. Из уличной девчонки я превратилась
в «барышню», и, когда через полтора года я поступила в гимназию, горничная провожала
и встречала меня. На всю жизнь я осталась благодарна моей мачехе за то, что она научила
меня работать. С шести лет я под ее руководством шила, чинила, штопала, вышивала, и
все это проделывала c превеликим удовольствием.
Неприятной переменой в этот период жизни я считаю потерю своей собственной кровати.
Детская сделалась «комнатой мальчиков», а я начала свое странствование на диванах в
комнатах общего пользования. Оно продолжалось с короткими перерывами в течение
15 лет, до замужества. С тех пор я поняла, что своя кровать – это великая вещь, ей
передается что-то от индивидуальности хозяина, это его друг, его дом. Диваны, высокие, низкие, со спинками, без спинок, клеенчатые и кретоновые, с клопами и без клопов
мерещутся мне, определяя каждый отдельный этап моей жизни. Английский писатель
Deeping . подтверждает мою мысль, говоря: «Единственное в мире несомненно: дружественная концепция – это комфортабельная постель. Она вас приняла, дала вам
тепло и защиту. Смягченный, вы заснули, забыли». Пренеприятная вещь случилась со
мной тотчас же по моем выселении из детской, на низеньком диване в столовой. Я
проснулась ночью от ощущения бегающего по мне живого существа, я закричала диким
голосом. Прибежала прислуга, отряхнула одеяло и недовольно проворчала, что мне это
приснилось. Я не поверила ей, и так как светало, я оделась и села работать в комнате
мальчиков. Не прошло и полчаса, как мне показалось, что у меня в кармане шевелится что-
то, и дом огласился новыми воплями. На этот раз мачеха, узнав, в чем дело, сжалилась
надо мной и взяла меня на свою кровать, где я моментально крепко уснула.
На следующий день Елена Георгиевна сказала, что отец разрешил мне спать на диване в
кабинете. На ночь около дивана ставили ширму. По приказанию отца, мы, дети, всегда
ложились в половине десятого. Но какой это был сон, когда рядом горела лампа, отец
сидел за работой, курил, кашлял, сморкался. В 12 часов он проделывал обычную свою
вечернюю гимнастику, и громко отсчитывал: раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре. Я
знала, что сейчас настанет блаженная тишина и темнота. Но тут часто от нервного
переутомления мной овладевала бессонница. Еще хуже бывало, когда родители уходили на
обычные субботние вечеринки. Кабинет был расположен рядом с гостинои и столовой,
окна его выходили в сад. Кухня и комната мальчиков помещалась в конце, на другой
половине дома. Ближе других комнат к кабинету была спальная родителей. И вот стоило
мне только улечься на свой неуютный диван и почувствовав свое полное одиночество –
кричи, не кричи, никто не услышит, – как страхи начинали овладевать мною. Чудилось, что кто-то ходит, стонет, стучит в окно. Я садилась, мне казалось так менее страшно, и с
нетерпением ожидала возвращения родителей.
С годами эти детские ночные страхи прошли бесследно, но бессонница осталась – этот
крест я пронесла через всю жизнь.
Еще совсем ребенком мне пришлось на собственном опыте убедиться, как иногда
ожидание большой радости дает в результате только неприятности. Вскоре после свадьбы, отец решил поехать с мачехой погостить на дачу к инженеру Борейше, своему
двоюродному брату. У того была дочь моего возраста, решили взять меня. Я была в
восторге и с нетерпением ждала дня отъезда. Дача была в Новгородской губернии, ехали
всего несколько часов. Приехали к вечеру. Подъезжая к дому, обнаружили, что я больна.
На следующий день доктор поставил диагноз – брюшной тиф. Как зеницу ока, оберегали
Марусю, единственную дочь и наследницу громадного состояния. Легко можно себе
представить ужас хозяев и огорчение моих родителей. Меня изолировали, положили около
меня какие-то игрушки и совершенно забросили. Несколько раз в день меня навещала
прислуга. Однажды она принесла мне стакан только что вскипевшего молока и ушла. Была
жара, я лежала под одной простыней и как-то опрокинула стакан себе на ноги, получились
ожоги. Через несколько дней, как только разрешил доктор, меня увезли. Я приехала и
уехала невидимкой. Ровно через десять лет Маруся умерла от той же болезни.
Религиозная Елена Георгиевна, вступая в нашу семью, привезла с собой две иконы. Одну
повесила в детской, другую в спальне. Она научила нас молитвам, и мы молились перед
сном. Ей очень хотелось иметь детей, и она сделала нас орудием исполнения ее желания.
Вечером, прочитав перед образом молитвы, мы все четверо становились на колени,
молитвенно складывали руки и, отвешивая земные поклоны, произносили несколько раз
подряд: «Боженька, дай нам братца или сестрицу».
Шел второй год нашей преданной любви к мачехе. Однажды вечером, в ее отсутствие, мы, как всегда, усердно молились о братце. В комнату вошла наша кухарка, пожилая женщина, умудренная жизненным опытом, и стала смеяться над нами. «Глупые вы дети, – говорила
она, – о чем вы молитесь. Ведь вам и теперь неважно живется, а будут у нее свои дети, вам
будет совсем плохо. Пусть она сама молится, чтобы были, а вы молитесь, чтобы не были».
Растерянные, сбитые с толку, стали мы слушать ее рассказы о том, как живут дети при
родной матери. «Я в жизни никогда не встречала такой скупой женщины, как ваша мачеха
– перешла она к критике, – почему она за целый день дает вам только утром по одному
куску сахара? Почему на ужин вы получаете только кусок хлеба, чуть-чуть помазанный
маслом, и стакан молока, на половину разбавленный кипятком? Почему вы обедаете в
детской, и вам наравне с прислугами дается на второе только суповое мясо, тогда как
папаша с мамашей едят бифштексы, котлеты и другие вкусные жаркие? А уж жадна до
чего! Если что останется, дала бы детям – нет!, все сейчас под замок. Думает, сама съест.
И сколько всего портится, плесневеет и выбрасывается».
10
Скупые и жадные домашние хозяйки, у которых учитывается каждый кусок, и все
держится под замком, редко пользуются любовью прислуг. Наверно поэтому прислуги у
нас не уживались. Скоро ушла и наша доброжелательница. Я даже не запомнила ее имени, но ее разумные слова глубоко запали в наши детские души, дав разные результаты.
Старшие два брата стали отходить от мачехи и скоро перешли в оппозицию.
Все понимая, все выслушивая, со всем соглашаясь, мы с Виктором сохранили свою
привязанность к Елене Георгиевне. Благодаря исключительной доброте и незлобливости, он до конца своей недолгой жизни был с ней в самых лучших отношениях.
Совсем иначе и гораздо сложнее складывались мои отношения с ней. Я была не так к ней
привязана, как сознавала, до какой степени она мне необходима. В то время, как внутренне
во мне очень понемногу, не торопясь, складывался волевой и сложный человек, внешне я
была под сильным ее влиянием. В этот период я была пассивна и очень послушна. Даже
религиозность, правда, примитивную и опять-таки внешнюю, я сохранила надолго. Ни
разу не было, например, чтобы, идя на гимназические выпускные экзамены, я забыла
зайти в церковь помолиться и поставить свечку перед иконой божьей матери. Пожалуй, на
этом и закончился религиозный период моей жизни.
Однажды мы сидели в детской и обедали. Виктор, как более слабый, получал всегда
добавочную порцию от родительского стола. Жорж задумчиво смотрел, как наш младший
делил, по обыкновению, котлетку на четыре части и клал каждому из нас на тарелку по
микроскопическому кусочку. Вдруг наш старший брат горячо заговорил. Он всегда слегка
раздувал ноздри, когда волновался. «Этому безобразию надо положить конец. Сегодня
вечером я поговорю с папой». Мы с восхищением смотрели на него. Геройством было
войти в кабинет отца, когда он работал. А пожаловаться на мачеху? С волнением ждали мы
его выхода из кабинета. Он вышел торжествующий. Он победил. Наш отец был очень
справедлив и умел быть объективным. В кабинет вслед за Жоржем была вызвана мачеха.
На другой день обед в столовой был накрыт на всю семью. У наших приборов лежали
салфетки в кольцах разного цвета. Красота! Мачеха передала нам просьбу отца не
разговаривать за столом. Он всегда был такой усталый после работы. Надо ли говорить, как внимательно мы отнеслись к его просьбе. До самой его кончины наш обед всегда
проходил в полном молчании с нашей стороны. Говорили только отец с мачехой, и мы
кратко отвечали на вопросы.
Чтобы научить нас с Веней первоначальной грамоте, отец пригласил воспитанника
старшего класса Института. Пошли на это дело мы с братом крайне неохотно. Мы хотели
играть, учиться мы не хотели. Вероятно, поэтому мы возненавидели и учителя, и часы
уроков.
Раз как-то мы остались одни дома. «Через полчаса придет учитель, откройте ему дверь», –
сказали нам уходя. У маленькой хитрой Евы мелькнула мысль – «Давай, не услышим
звонка», – предложила я Вене, – «Ну, вот придумала, ведь знаешь, как папа наказывает за
ложь?».
Вместо ответа я повела его в темный чулан около кухни. Дверь мы прикрыли. Просидев
там некоторое время, мы вышли и продолжали играть. «Никакого звонка мы не слышали»,
– говорили мы, честно смотря всем в глаза.
Вскоре после того, как Веня поступил в школу малолетних, мне случилось быть
инициатором игры, имевшей очень тяжелые последствия.
«Давайте испытывать терпение», – предложила я старшим братьям. «Будем тереть
кубиками лбы, кто дольше выдержит». Они согласились. Мы приступили к эксперименту.
Потерев слегка себе лоб, я решила, что это больно и неприятно, заявила, что я больше не
играю. Была уверена, что они последуют моему примеру. Но с ними произошло что-то
странное. Забыв все на свете, они смотрели друг на друга какими-то дикими глазами, терли лбы шершавым деревом, очевидно, терпя сильную боль. Когда они, наконец, со
стоном одновременно отбросили кубики, на их лбы страшно было смотреть. Они стерли
себе кожу до крови. Чувствуя себя виноватой, я залилась слезами. Все кругом обвиняли
меня. Один Витя был моим защитником. «Что вы ее ругаете, – сказал он, – ведь она же
маленькая, они большие» – и тихо добавил: «дураки». Сами пострадавшие были очень
сконфужены. Два дня они просидели дома, стыдно было показаться в школу.
За выдающиеся успехи в науках Жорж был принят на полный пансион во Вторую
Петербургскую классическую гимназию. Мы всегда очень гордились нашим умным
братом. Когда он приезжал домой на праздники и брал кого-нибудь из нас на прогулку, радость наша была беспредельна. Мы смотрели на прохожих, стараясь заставить их
понять, что этот замечательный мальчик в форме с серебряными пуговицами – наш брат.
«В воспитании детей должен быть установлен строгий режим». «Дети должны вести
растительный образ жизни, чтобы вырасти здоровыми, с нормально функционирующей
нервной системой» – так говорил и думал наш отец.
Теперь, когда дети еще в пеленках начинают посещать кино, когда с трех лет их водят в
театры, с утра до вечера они слушают радио, эти теории явно отжили свой век. Надо лишь
избегать излишеств в виду легкой утомляемости детской нервной системы.
Монастырский уклад нашей детской жизни очень облегчал педагогические задачи нашей
мачехи. Она, несомненно, перегибала палку. До 15 лет, например, я была только один раз в
опере вместе со школой. К нам никогда не приходили дети в гости, и мы никогда нигде не
бывали. Ни о каках елках, детских вечеринках мы не имели представления. Если судить по
результатам, то они опровергают правильность отцовских установок – состояние моей
нервной системы было значительно ниже нормального.
И вот на фоне этой серой жизни яркой звездой блестит один незабываемый вечер. Я -
гимназистка, мне десять лет. Родители уехали на два-три дня кутить в Петербург. Мы все
четверо сидим, уткнувшись в книги. И вдруг наша жизнь обрывается, начинается сказка.
Время для сказки самое подходящее – рождественский сочельник. Звонок. Вместо феи
появляется полковник Коверский. Года два-три тому назад мы жили с ним в одном доме. У
него были дети нашего возраста, с ними мы играли в общем садике. Узнав, что родителей
нет дома, он объявляет, что приехал в экипаже за нами. «Дети, одевайтесь скорей. Едем, у
нас сегодня елка. За все отвечаю я». Быстро переодевшись во все самое лучшее, мы
покатили.
Полковник вводит нас в большой зал. Посредине стоит громадная, красиво разукрашенная
елка, залитая светом множества свечей. Мы стоим очарованные. Это наша первая елка, живая, а не на картинке. Затем мы попадаем в какой-то волшебный вихрь. Дети








