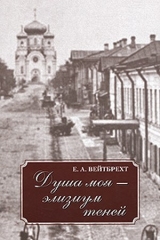
Текст книги " Душа моя - элизиум теней"
Автор книги: Евгения Вейтбрехт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
дневник. Первые записи в дневнике были восторженные по отношению к Софии Ивановне
Казакиной и ее дочушкам. Нравился мне и сам Казакин. Он очень мало бывал дома,
виделись мы с ним редко, но отношение его ко мне было всегда приветливое,
дружелюбное. Надя и маленькая Верочка так и остались для меня на всю жизнь
непревзойденными по детской прелести. Их воспитала француженка, и за время,
проведенное с ними, окончательно окрепла моя французская речь.
Через несколько дней моего пребывания в доме мне было предложено принять участие в
городской прогулке на пароходе по Неману. Было много музыки, хороший обед, высадка
на живописном берегу реки. Гуляли, жгли костры. Вся прогулка оставила у меня хорошее
впечатление, кроме одного – отсутствовала молодежь. Около меня неотступно провели
целый день военврач и преподаватель математики хохол Лысенко. Обоим под сорок. Я в то
время чувствовала себя дома только с людьми своего возраста. Менее удачным оказалось
второе развлечение, предложенное моими хозяевами. На рождественские праздники к
Софии Ивановне приехала ее красивая дочь от первого брака с двумя поклонниками.
Придумали нарядиться в маскарадные костюмы и в масках посетить несколько знакомых
семейств. Им заранее были разосланы анонимные сообщения о дне и часе прибытия
замаскированных гостей. Костюмы были придуманы и воспроизведены очень удачно.
Каждый знал, как себя вести в соответствии с костюмом. Когда нас впустили в первый
дом, мы были поражены пустотой передней. Все было убрано. Лица вышедших навстречу
хозяев были явно испуганные. Казакиным пришлось снять маски, чтобы их успокоить.
Эффект не получился. Скорее отправились в следующий дом, а там еще хуже. Прислуга, держа дверь на цепочке, заявила, что хозяева больны. В третьем доме на звонки не
отвечали. Так, не солоно хлебавши, вернулись домой.
Знакомясь ближе с Софией Ивановной, я стала понемногу разочаровываться в ней.
Сначала, видя мое к ней расположение, она стала жаловаться мне на мужа, рассказывать
про его любовниц. Все сообщения давались в очень вульгарных выражениях. Эти
разговоры дали мне, не искушенной еще в этих вопросах, толчок к неприязни не к нему, а
к ней. Мне очень нравилось ее лицо, сохранившее следы былой красоты. Но при злобных
отзывах о любовницах мужа оно искажалось, делалось безобразным. С набеленного лица
белила сыпались, как штукатурка. Я стремилась уйти от ее разговоров к книгам и к
дневнику. Симпатия переходила в антипатию, и все передавалось коварному другу –
дневнику. К вечернему чаю часто появлялся очень молодой человек, почти мальчик, к
морской форме. Я уходила спать, а он оставался с Софией Ивановной. Я как-то спросила у
Н.Г. Левлина, который знал всю подноготную семьи Казакиных, что это за странный гость.
Он объяснил мне, что этот молодой человек состоит на содержании у Софии Ивановны. Я
пришла в ужас, я еще в жизни никогда ничего подобного не слыхала. Я знала про
проституток, но мужчина-проститутка! Толстая тетрадь дневника наполнилась больше, чем на половину. Большая часть страниц, резумеется, была заполнена моими «девичьими
грезами». Делались и краткие записи новых впечатлений.
Согласно договоренности мачехи с Софией Ивановной, я в феврале получила отпуск на
две недели и уехала в свою родную Гатчину. Там я хорошо провела время. Зная мою
любовь к танцам, все мои знакомые в честь меня устроили масляничные вечеринки с
блинами и танцами. Подъезжая к Ковно, я радовалась, что обниму сейчас моих дорогих
девочек. Как они будут мне рады! Какую чудесную сказку придумала я. Они привыкли
слушать сказки в наши любимые часы перед сном. Маленькая Верочка обычно сидела у
меня на коленях, Надя рядом. Обе слушали, затаив дыхание. Волшебные замки сменялись
заколдованными лесами, где колдун превращал принцесс в роскошные цветы. И куда
девалась моя неистощимая фантазия! Помнится, я злоупотребляла словом tout-ă-coup
(вдруг), при котором глазки моих слушательниц загорались огнем любопытства. И никогда
я сама не знала заранее, что последует за этим tout-ă-coup.
Кто мог думать, что я никогда в жизни больше их не увижу! София Ивановна издалека, склонением головы, поздоровалась со мной. Ее лицо было, как каменное изваяние. Белила
еще усиливали впечатление. Ничего не понимая, я вошла в общую с детьми комнату и
сразу почувствовала недоброе. Кроме предметов, бывших в моем пользования, все из
комнаты было вынесено. Машинально, все еще ничего не понимая, я подошла к комоду, в
котором оставила свои вещи. Машинально открыла верхний ящик – сверху лежал мой
злополучный дневник. Уезжая, я положила его под вещи, на самое дно ящика.
Бессознательно открыв его, я задрожала от ужаса. Мое святое святых все было испещрено
надписями. Две из них бросились мне в глаза: «Вот дура-то!», «Вот идиотка-то!». Взяв с
отвращением тетрадку двумя пальцами, стараясь держать ее как можно дальше от себя, я
отнесла ее в кухню и бросила в горящую плиту. Когда я вернулась, в комнате меня уже
ждала София Ивановна. Я молча вошла, прислонилась к комоду и ждала. «Немедленно
телеграфируйте вашей мачехе, чтобы она взяла вас», – ледяным тоном проговорила она,
«даю вам недельный срок, запрещаю говорить с моими детьми. Еду вам будут приносить
сюда». Она вышла с видом королевы. Я ее никогда больше не видела.
Вспоминая этот эпизод, я не могу простить себе свою пассивность и беспомощность. Я
никогда ничего не делала без разрешения мачехи. Мне надо было немедленно уйти, куда
глаза глядят. Чашу унижения, посланную судьбой, мне пришлось выпить до дна. На
немедленно посланную отчаянную телеграмму мачеха ответила, что выезжает и через
семь дней будет в Ковне. Эта телеграмма через прислугу была показана Софии Ивановне.
Я жила, как прокаженная. В назначенный день мачеха не приехала. Вечером этого дня
София Ивановна через горничную передала мне приказание сложить вещи и самой быть
одетой к 9 часам утра. Ровно в назначенный час прислуга помогла мне вынести вещи на
парадную лестницу. Дверь за мной была с треском захлопнута, наверное, не без участия
самой хозяйки. Меня выгнали!
В каком-то тупом отчаянии сидела я со своими вещами на верхней ступеньке лестницы. Я
не плакала. Часов в 12 дверь открылась, показался сам Казакин. Он остановился в
изумлении. «Бедная девочка, что с вами случилось?» – «Она меня выгнала», – сказала я и
разрыдалась. «У вас тут как-будто есть родные. Я сейчас пришлю дворника, и он снесет
ваши вещи. Не огорчайтесь, такие беды легко переживаются». Он тепло простился со
мною, крепко пожав мне руку. Через полчаса я была у Левлиных. Добрая Мария
Платоновна крепко сжала меня в объятиях. От мачехи была телеграмма. Она
задерживалась на три дня и просила брата взять меня от Казакиных и приютить до ее
приезда. Легко сказать, приютить! Семья жила в невероятной тесноте. Помогло мне, по
всей вероятности, почетное звание «седьмой ковенской красавицы». Девочки сдвинули
вместе три кровати и спали вчетвером поперек, освободив мне целую кровать.
Мы с мачехой прожили в Ковне еще два месяца в гостинице. Я стремилась в любимую
Журавку, куда должны были съехаться моя братья. В гостиницу к нам стал часто
захаживать преподаватель Лысенко. Мы с мачехой были уверены, что он ухаживает за ней.
И по возрасту он был как-раз подходящий для нее жених. Но скоро выяснилось, что
внимание его направлено в мою сторону. По его словам, он не мог меня забыть со времени
нашей прогулки на пароходе. Мы с ним стали встречаться ежедневно и проводить много
времени вместе. Для девочки, только что со школьной скамьи, всегда очень лестно
внимание преподавателя. Он, между прочим, глубоко возмущался наглым поведением
Софии Ивановны в отношении меня. Таково, по его словам, было и общественное мнение
ковенских жителей. Но ведь Казакины были местные магнаты. Кто осмелился бы открыто
выступить в мою защиту?
Мачеха назначила день нашего отъезда в Журавку. Не решаясь сделать мне предложения, хитрый хохол решил косвенным путем выяснить мое к нему отношение. Он просил
отложить на три дня наш отъезд. «Я закончу свои дела, поеду с вами, и возможно, что мы
никогда больше не расстанемся». – «Ни за что на свете, – ответила я, – хочу скорей в
Журавку, хочу видеть братьев. Ведь я два года не видела их».
При отъезде на вокзале мачеха усиленно приглашала Лысенко приехать к нам погостить.
Надо отдать ей справедливость, она никак меня не уговаривала, не давала никаких
советов. Но надо ли говорить, как устроило бы ее мое замужество! В последнюю минуту
Лысенко поднес мне громадную прощальную коробку шоколадных конфет.
В течение этого периода мое отношение к Журавке носило какой-то очеловеченный
характер. С момента приезда туда, первых шагов по чудесной аллее, липовые шапки
которой сходились над головой, меня заливала радость жизни. С книгой в руках я
переходила из сосновой рощи в березовую, просиживала часы, не читая, погруженная в
какой-то пантеистический восторг. Помню, как я, сидя в яблочном саду, испытала
необычайное чувство растворения в нирване. Границы моего тела перестали
существовать, я составляла единое с окружающей природой. Никогда не забуду этого
состояния блаженства. Моменты слияния с прекрасным испытала я часто и в
последующей жизни, слушая музыку Бетховена, Чайковского, часами просиживая около
любимых картин в Русском Музее. Но слияние с природой по интенсивности было
единственным и неповторимым моментом.
Однажды мне случилось быть в березовой роще в период апрельского раскрытия почек.
Только что показались благоухающие молодые листочки. Я была одна. Меня можно было
принять за сумасшедшую. Я бегала, обнимала березки, пела, кричала, бурно выражала
свой восторг.
Даже дом, так неудачно выстроенный дедом, с большими проходными комнатами, казался
мне обителью радости. Аисты, неизменно проводившие у нас каждое лето, являлись тоже
принадлежностью Журавки. Стоя на одной ноге, они из своего гнезда на крыше амбара, казалось, сочувственно наблюдали за нашей жизнью.
Но все-таки как еще велика была свойственная мне в то время пассивность. Как могла я
отказаться от предложения братьев съездить с ними заграницу. «Никуда не хочу, кроме
Журавки!».
И вот после ковенских переживаний я опять в любимой Журавке. Наша встреча с
братьями получилась очень интересная. Кроме младшего подростка Виктора я и два
старших брата впервые встретились взрослыми. Они – студенты. Жорж – естественного
факультета Университета, Веня – Ветеринарного института. Оба показались мне совсем
другими, главное, необычайно умными. Как истые интеллигенты своего века, они вели
бесконечные споры на политические темы. Ложась спать, они еще обменивались
последними репликами. Утром, только что открыв глаза, со свежими силами продолжали
спор. – «Ты вспомни, что говорили Маркс и Энгельс по этому поводу», другой приводил
цитаты из Богданова, Плеханова и др. И так опять на целый день.
Как я потом поняла, они оба, не состоя в партиях, были близки по своим убеждениям –
Веня к эсэрам, а Жорж – к эсдекам. Рядом с ними я казалась себе совершенной дурочкой.
А ведь мне уже минуло 19. Положение казалось мне особенно безнадежным, поскольку
вопросы, так горячо обсуждаемые, не возбуждали во мне никакого интереса.
Но сама я тоже ощущала в себе сдвиги и новыми глазами смотрела на окружающее. Меня
поражала убогость жизни расположенных вокруг нас деревень. Я не говорю о питании.
Хлеба и молока у большинства из них было достаточно. Но эти соломой крытые хатки с
крошечными оконцами, темные, грязные помещения, по вечерам освещенные лучиной – а
главное, абсолютная темнота, безграмотность. Ни одной школы на протяжении 20 км.
Сколько талантов гибло в этих темных углах!
Все это старые азбучные истины, но мне они были дороги, потому что я подошла к ним
самостоятельно. Меня ужасала несправедливость и отсутствие логики существующего
строя. Но дальше этого я не шла. Я только констатировала негодность нашей системы
правления. В то время и долго потом я была аполитична.
Стала я задумываться над вопросами бытия. И, как ни странно, но ответ на поставленный
тогда вопрос «зачем жить?» – «чтобы совершенствоваться» – остался моей путеводной
звездой на всю жизнь. Я не помню, как ко мне в то время попала книжечка Жюль Пейо
«Воспитание воли» – она сыграла большую роль в моей жизни. Необходимость наличия
воли для всех видов совершенствования казалась мне несомненной. Тогда началась моя
работа над укреплением воли, и она являлась ведущей линией всей моей жизни. Я
старалась выработать в себе душевную кнопку «Надо». Если нажмешь ее, то выполнение
решения, принятого, правда, после зрелого размышления, проводится неукоснительно.
В это лето два человека оказали на меня сильное влияние. Мы, дети, всегда гордились
нашим умным братом Жоржем, но только теперь пришла пора близко подойти и
подружиться с ним. Он был несравненно умнее меня, но в нашем мышлении были общие, родственные черты. Он как-то сказал мне комплимент, который я долго радостно
переживала: «Ты обладаешь вдумчивостью, это повышает ценность жизни».
В это лето я познакомилась с очень интересной женщиной-врачом Евдокией Николаевной
Суриной. У мужа ее, юриста по образованию, было в трех верстах от Журавки небольшое
имение, скорее – усадьба. Там проводила обычно лето семья, состоявшая из родителей и
двух дочерей. Мужа ее я мало знала, он отличался необычайной застенчивостью, был
очень нелюдим.
Она – сибирячка, окончив гимназию, приняла решение стать врачом. Для женщин только
что открылся путь к этой новой профессии. Против воли отца, она бежала из дома и путем
страшных усилий и лишений добилась цели. Умница, красивая, дельная, она
познакомилась с нашей мачехой и стала бывать у нас. Мы часто виделись. Ее беседы и
споры с моими братьями были захватывающе интересны. Она имела способность делать
интересной любую обсуждаемую тему.
Каждое лето в деревнях вокруг нас свирепствовал детский кровавый понос. Врачи и
больницы были только в городах. Евдокия Николаевна оказывала медицинскую помощь
соседним крестьянам. Под ее руководством мачеха тоже начала заниматься медицинской
работой. Я помогала мачехе, выполняя ее поручения. Очень тяжело бывало, когда
приедешь с лекарством к вчерашнему пациенту, а его уже нет.
Еще два-три года, приезжая в Журавку, я имела возможность наслаждаться обществом
Евдокии Николаевны. Затем пришло мое замужество, а с ним и длительный перерыв в
моих посещениях Журавки. В этот период Евдокия Николаевна пережила трагедию,
навсегда подкосившую ее силы – в следующее наше свидание в Петербурге я увидела ее
уже инвалидом. Ее сердце было в состоянии ежеминутной угрозы моментальной смерти.
Духом она была по-прежнему бодра и спокойно смотрела на неизбежное. Но уже не
работала, вела хозяйство. Вот что с ней случилось. У ее мужа был брат, значительно
моложе его, он жил с ними. Этот брат имел несчастье страстно полюбить
Евдокию Николаеву. Она всеми силами старалась заставить его победить свою любовь.
Мать двух детей, она указывала на безнадежность его чувства. Наконец, она решилась на
последнее средство. Уговорила его жениться на очень милой, хорошей девушке. Летом, когда вся семья жила в усадьбе, он выстрелом из ружья покончилс собой. В это лето мой
старший брат, уже врач, был в Журавке, за ним послали ночью. Он немедленно приехал, чтобы констатировать смерть. ГеоргийАлексеевич застал Евдокию Николаевну около еще
теплого тела самоубийцы. Она стояла на коленях, целовала его руки и в каком-то безумном
экстазе умоляла его простить ее. Любила она его? Трудно сказать. Жорж , который видел
ее отчаянные страдания у трупа, не сомневался в этом.
Евдокия Николаевна скончалась перед первой мировой войной. И каким трагическим
обстоятельством сопровождалась ее смерть. Ее старшая дочь Юлия, прелестная девушка, в
это время была студенткой Медицинского института. Младшей – гимназистке Соне –
исполнилось 14 лет. Она была застенчивая, нелюдимая, вся в отца. Юлечка, обожавшая
мать, была необычайно к ней внимательна. Она спала в одной комнате с матерью, была
всегда начеку, зная, что вовремя поданная доза лекарства может отсрочить ее кончину.
Совсем иначе вела себя Соня. Юлечка жаловалась мне на ее небрежное отношение к
матери, на нежелание считаться с ее безнадежным состоянием.
Евдокия Николаевна умерла ночью на руках старшей дочери. Как только Соня узнала о
смерти матери, она, не сказав ни слова, побежала в ванную и проглотила большое
количество сулемы. Ее хоронили вместе с матерью. Смерть ее была мучительная, у нее
постепенно отмирали органы чувств. Она поразила окружающих недетской стойкостью
своего решения – ни капли сожаления об уходящей жизни. Пока была в сознании и могла
говорить, она так мотивировала свой поступок: «Я не могу жить без мамы».
Из нашей семьи одна только мачеха умела, а главное, хотела быть помещицей и барыней.
А между тем она была уже выделена и приезжала как гостья. Елена Георгиевна всегда
старалась использовать лето для проведения какого-нибудь курса лечения. То пила сливки, чтобы пополнеть, то, чтобы похудеть, пила четыре стакана молока и ничего не ела. То
брала какие-то травяные ванны. Наша несчастная работница Вулька должна была каждый
день втаскивать и вытаскивать из русской печки громадные чугуны с водой. Бедная
старушка к концу лета совершенно искалечила свои руки.
В это лето, вскоре по приезде, обнаружилось, что по приказанию Елена Георгиевна утром
к чаю кипяченое молоко подавалось в двух сосудах. Сверху сливалось и кипятилось для
нее, остальное – «для детей». Старший брат отменил это распоряжение, сказав, что он тут
хозяин и не желает пить снятое молоко. А молока у нас было вдоволь. С ее стороны это
была просто «отрыжка» прежних времен.
Наш дом стоял на небольшой горке, а баня под горой. Елена Георгиевна требовала, чтобы
к ее выходу из бани подавался экипаж и вез ее в гору. Наш лесник и кучер Гришка должен
был потратить несколько часов, чтобы выполнить ее двухминутный каприз. Меня всегда
это возмущало, я демонстративно шла пешком.
В то время у белорусских крестьян был унизительный обычай целования рук у «господ».
Согласно демократическим традициям отца, братья не допускали целования, поступали с
крестьянами, как с равными, обменивались рукопожатиями, сажали их за стол, угощали и
беседовали с ними, стараясь быть им полезными. Надо ли говорить, как нравился этот
обычай нашей мачехе, как охотно она подставляла для поцелуя свои барские беленькие
ручки.
Но все-таки мы всегда были очень рады пребыванию Елены Георгиевны в Журавке. На
фоне деревенской скуки ее ровный, мягкий характер был особенно ценен. Она была
«уютная», любила посидеть за самоваром, умела побеседовать. Около нее мы подолгу
засиживались за обеденным столом, особенно, когда в хорошие дни обед подавался в
липовой беседке. Вечером для необходимого ей моциона она собирала всех на прогулку.
По дороге пели хором. Старший брат, абсолютно лишенный голоса и слуха, был большой
любитель хорового пения. С большим чувством запевал он любимые «Коробейники» и
«Среди долины ровные».
В течение не менее 50 лет Журавка была в аренде у двух поколений семьи Евзовичей.
Родоначальник ее, Гершек Абрамович, в то время глубокий старик, был из «мудрых»
евреев. Мы любили его и считали членом журавской семьи. Он охотно беседовал с
мачехой и братьями, не прочь был и пофилософствовать, приводя примеры из библии,
каждую свою мысль он подкреплял словами «по всем правилам сказавши». После третьей
порции чая он опрокидывал стакан и обязательно клал на дно его съэкономленный
огрызок сахара.
Что касается ведения хозяйства в Журавке, то оно было из рук вон плохо – трехпольная
система и никаких нововведений, все по старинке. Рабочие-батраки жили в грязной
«семейной» без пола. Кормили их неважно. Братья отлично сознавали, что требуются
коренные реформы. Предполагалось, что Веня, окончив Ветеринарный институт, поедет в
Германию, чтобы в течение двух лет ознакомиться с тамошней постановкой сельского
хозяйства. Затем братья предполагали отдать или по дешевой цене продать большую часть
земли соседним крестьянам. На оставленной для себя небольшой усадьбе Веня
предполагал завести образцовое хозяйство. Он прослушал годичные
сельскохозяйственные курсы в Берлине. И вот не знаю, почему дело затормозилось. А
потом пришла революция, и все вопросы разрешились сами собой.
Мой старший брат Георгий Алексеевич окончил два Высших учебных заведения и был
врачом. Он был хороший оратор и за противоправительственные выступления на
студенческих сходках был выслан на год во Владивосток. Вторично он был наказан
переводом из Петербургского в Московский университет. Блестящий умница, человек
начитанный, он всегда вынашивал в себе какие-то новые оригинальные мысли, охотно
делился ими с окружающими. У него была особая манера оценивать внешность людей,
обращая главное внимание на руки. Помню, однажды в разговоре с ним я восхищалась
красотой новой знакомой. «Разве можно называть красивой женщину с такими
безобразными руками», – возмутился он. Ему нравились мои руки. «Нашел руки
прекраснее твоих», – писал он мне откуда-то.
С большой нежностью относился Георгий Алексеевич к маленьким детям. Какого
замарашку ни встретит на улице, для каждого находил ласковое слово и конфетку, запасы
которых всегда были у него в кармане.
Евдокия Николаевна скончалась перед первой мировой войной. И каким трагическим
обстоятельством сопровождалась ее смерть. Ее старшая дочь Юлия, прелестная девушка, в
это время была студенткой Медицинского института. Младшей – гимназистке Соне –
исполнилось 14 лет. Она была застенчивая, нелюдимая, вся в отца. Юлечка, обожавшая
мать, была необычайно к ней внимательна. Она спала в одной комнате с матерью, была
всегда начеку, зная, что вовремя поданная доза лекарства может отсрочить ее кончину.
Совсем иначе вела себя Соня. Юлечка жаловалась мне на ее небрежное отношение к
матери, на нежелание считаться с ее безнадежным состоянием.
Евдокия Николаевна умерла ночью на руках старшей дочери. Как только Соня узнала о
смерти матери, она, не сказав ни слова, побежала в ванную и проглотила большое
количество сулемы. Ее хоронили вместе с матерью. Смерть ее была мучительная, у нее
постепенно отмирали органы чувств. Она поразила окружающих недетской стойкостью
своего решения – ни капли сожаления об уходящей жизни. Пока была в сознании и могла
говорить, она так мотивировала свой поступок: «Я не могу жить без мамы».
Из нашей семьи одна только мачеха умела, а главное, хотела быть помещицей и барыней.
А между тем она была уже выделена и приезжала как гостья. Елена Георгиевна всегда
старалась использовать лето для проведения какого-нибудь курса лечения. То пила сливки, чтобы пополнеть, то, чтобы похудеть, пила четыре стакана молока и ничего не ела. То
брала какие-то травяные ванны. Наша несчастная работница Вулька должна была каждый
день втаскивать и вытаскивать из русской печки громадные чугуны с водой. Бедная
старушка к концу лета совершенно искалечила свои руки.
В это лето, вскоре по приезде, обнаружилось, что по приказанию Елена Георгиевна утром
к чаю кипяченое молоко подавалось в двух сосудах. Сверху сливалось и кипятилось для
нее, остальное – «для детей». Старший брат отменил это распоряжение, сказав, что он тут
хозяин и не желает пить снятое молоко. А молока у нас было вдоволь. С ее стороны это
была просто «отрыжка» прежних времен.
Наш дом стоял на небольшой горке, а баня под горой. Елена Георгиевна требовала, чтобы
к ее выходу из бани подавался экипаж и вез ее в гору. Наш лесник и кучер Гришка должен
был потратить несколько часов, чтобы выполнить ее двухминутный каприз. Меня всегда
это возмущало, я демонстративно шла пешком.
В то время у белорусских крестьян был унизительный обычай целования рук у «господ».
Согласно демократическим традициям отца, братья не допускали целования, поступали с
крестьянами, как с равными, обменивались рукопожатиями, сажали их за стол, угощали и
беседовали с ними, стараясь быть им полезными. Надо ли говорить, как нравился этот
обычай нашей мачехе, как охотно она подставляла для поцелуя свои барские беленькие
ручки.
Но все-таки мы всегда были очень рады пребыванию Елены Георгиевны в Журавке. На
фоне деревенской скуки ее ровный, мягкий характер был особенно ценен. Она была
«уютная», любила посидеть за самоваром, умела побеседовать. Около нее мы подолгу
засиживались за обеденным столом, особенно, когда в хорошие дни обед подавался в
липовой беседке. Вечером для необходимого ей моциона она собирала всех на прогулку.
По дороге пели хором. Старший брат, абсолютно лишенный голоса и слуха, был большой
любитель хорового пения. С большим чувством запевал он любимые «Коробейники» и
«Среди долины ровные».
В течение не менее 50 лет Журавка была в аренде у двух поколений семьи Евзовичей.
Родоначальник ее, Гершек Абрамович, в то время глубокий старик, был из «мудрых»
евреев. Мы любили его и считали членом журавской семьи. Он охотно беседовал с
мачехой и братьями, не прочь был и пофилософствовать, приводя примеры из библии,
каждую свою мысль он подкреплял словами «по всем правилам сказавши». После третьей
порции чая он опрокидывал стакан и обязательно клал на дно его съэкономленный
огрызок сахара.
Что касается ведения хозяйства в Журавке, то оно было из рук вон плохо – трехпольная
система и никаких нововведений, все по старинке. Рабочие-батраки жили в грязной
«семейной» без пола. Кормили их неважно. Братья отлично сознавали, что требуются
коренные реформы. Предполагалось, что Веня, окончив Ветеринарный институт, поедет в
Германию, чтобы в течение двух лет ознакомиться с тамошней постановкой сельского
хозяйства. Затем братья предполагали отдать или по дешевой цене продать большую часть
земли соседним крестьянам. На оставленной для себя небольшой усадьбе Веня
предполагал завести образцовое хозяйство. Он прослушал годичные
сельскохозяйственные курсы в Берлине. И вот не знаю, почему дело затормозилось. А
потом пришла революция, и все вопросы разрешились сами собой.
Мой старший брат Георгий Алексеевич окончил два Высших учебных заведения и был
врачом. Он был хороший оратор и за противоправительственные выступления на
студенческих сходках был выслан на год во Владивосток. Вторично он был наказан
переводом из Петербургского в Московский университет. Блестящий умница, человек
начитанный, он всегда вынашивал в себе какие-то новые оригинальные мысли, охотно
делился ими с окружающими. У него была особая манера оценивать внешность людей,
обращая главное внимание на руки. Помню, однажды в разговоре с ним я восхищалась
красотой новой знакомой. «Разве можно называть красивой женщину с такими
безобразными руками», – возмутился он. Ему нравились мои руки. «Нашел руки
прекраснее твоих», – писал он мне откуда-то.
С большой нежностью относился Георгий Алексеевич к маленьким детям. Какого
замарашку ни встретит на улице, для каждого находил ласковое слово и конфетку, запасы
которых всегда были у него в кармане.
В своей медицинской работе Георгий Алексеевич по какому-то странному легкомыслию не
принимал достаточных мер от заразы. Еще совсем молодым врачом, прооперировав
больного, он перенес заражение крови. Затем он заразился от своего пациента
обезобразившей его черной оспой, сразу после болезни он приехал ко мне на поправку. В
первый момент мне пришлось собрать все силы, чтобы не крикнуть от ужаса и боли за
любимого брата. Вместо красивого лица я увидела страшную маску. С годами рубцы
несколько сгладились, но брови и ресницы не вернулись. Эти два тяжелых заболевания с
длительной очень высокой температурой очень ослабили его сердце. В 1919 году в
Петрограде свирепствовал сыпняк. Георгий Алексеевич был в это время врачом в
городском распределительном пункте. Самое опасное место для получения заразы.
Заболев, он сразу потерял сознание, положение его было признано безнадежным. В апреле
1919 года его не стало. Ему было 46 лет. Товарищи по работе и друзья всегда отмечали его
исключительную обаятельность. Он был очень хорошим и добросовестным врачом. По
отношению к пациентам отличался полным бескорыстием. В случаях, когда его
интересовала болезнь, или он чувствовал себя ответственным за ее течение, Георгий
Алексеевич часто просиживал ночи около больных, отказываясь от компенсации.
Когда он приезжал летом в Журавку, больные стекались к нему за десятки верст. В
тяжелых случаях за ним приезжали ночью. Он никогда никому не отказывал. О каком-либо
отдыхе в деревне нечего было и думать.
Он не был женат и не оставил потомства. Последние десять лет около него была хорошая
женщина, только невероятно ревнивая. Мы шутили: «Сократ нашел свою Ксантиппу».
Живя с ним, она окончила акушерские курсы и была хорошей акушеркой. Она работала
вместе с тогда еще очень молодым, теперь знаменитым гинекологом К.М. Фигурновым. Он
высоко ценил ее добросовестную, умелую работу и на редкость бережное и любовное
отношение к новорожденным малюткам.
Георгий Алексеевич был мой брат и человек, родственный мне по духу. Так мало
пришлось нам быть вместе. Почти всегда жили в разных городах. Так тяжело было мне его
потерять.
Помню несколько его мыслей, которые заставили меня задуматься и остались в памяти: он
делил человечество на: 1) людей центра и 2) людей периферии. Центр, как он его понимал, внутренняя, постоянно действующая рабочая инстанция, шире и умнее, чем совесть,
актуальнее и повседневнее, чем «святая святых». Человек, обладающий центром, им
воспринимает жизненные явления, анализирует их до предела, в нем же находит
императивы для поступков. В центре нет места для соображений и стимулов личной
выгоды материального порядка. Там все диктуется сознательной честностью,
благородством и если выгодой, то только духовной.
Люди периферии (среди них много добрых и альтруистически настроенных) действуют
бессознательно, не анализируя ни жизненные явления, ни свои реакции, а если и проводят
анализ, то не доводят его до первоистоков, натыкаясь по дороге на тормоза мещанской
морали или религиозных предрассудков, а то и просто материальных выгод. Как у умных
людей мелькают глупые мысли, но они их не высказывают, так и у людей центра бывают
также мелкие периферические мысли, но они не могут быть рычагом основных
жизненных решений и поступков.
Говоря про острый характер, который зачастую принимают семейные ссоры, брат
объяснял эти явления тем, что к повседневным, часто небольшим недоразумениям,
присоединяется атавистическая ненависть полов, поколений, родов, живущая в веках








