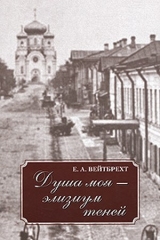
Текст книги " Душа моя - элизиум теней"
Автор книги: Евгения Вейтбрехт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
революции Елена Васильевна поселилась в большой квартире Анатолия Федоровича
вместе со своей преданной прислугой. Их заботливое отношение, разумеется, скрасило, а, возможно, и продлило жизнь Анатолия Федоровича. Но бывали минуты, он ворчал,
присутствие женщин в квартире его тяготило, ему не нравилось. Тяготила его иногда и
излишняя заботливость Елены Васильевны: «Вчера я на нее рассердился, – как-то сказал
он мне, – я был уже на лестнице, она догнала меня с калошами. Я не хотел их надевать, мне и так тяжело ходить, она настаивала. Тогда я сказал ей: "Благодарю Вас за
заботливость, Елена Васильевна, но я не ребенок и привык к самостоятельности"».
Питались они в голодные годы очень плохо. Елена Васильевна была непрактична и
инертна в доставании продуктов питания. Анатолию Федоровичу был вреден сахарин, а он
принужден был постоянно им пользоваться.
В 1920 году как-то, приглашая меня к себе, он писал: «Приходите, угощу Вас чаем с
черными сухарями».
В 1920-1921 гг. у Анатолия Федоровича была вторая прислуга Дуняша, старая и
некрасивая, как смертный грех. Анатолий Федорович был привязан к Дуняше. При всей
его простоте и доступности, старика тешило, когда Дуняша подавала ему на подносе
письма, говоря: «Ваше Высокопревосходительство, Вам письмо!».
Анатолий Федорович часто с грустью говорил: «Люди умирают, а дела их остаются, а мои
дела умерли, а я остался». Очевидно, Дуняша, величая его по-старому, напоминала ему о
прежнем величии.
Во время своей последней болезни Анатолий Федорович оценил самоотверженную
любовь своего друга, дни и ночи проводившей у его постели. Елена Васильевна со
слезами на глазах рассказывала, как трогательно благодарил он ее, умирая, за все
проявленные заботы и внимание. Когда мы с ней стояли у гроба нашего друга Елена
Васильевна шепнула мне: «Вчера взяли его мозг, надо бы взять сердце, а не мозг».
Я так тяжело переживала кончину Анатолия Федоровича, но ее слова кольнули меня, как
сентиментально нелепые.
У меня сохранились два письма Елены Васильевны, адресованные в Лебяжье (где я жила
на даче). Письмо от 9 июля 1927 г. было написано за два месяца до кончины
Анатолия Федоровича:
«Дорогая Евгения Алексеевна! С удовольствием сообщаю вам, что дорогой наш больной
по словам только что ушедшего дра Тушинского, подает надежду на выздоровление. У
него появился аппетит, и мы мечтаем 20го отправиться на автомобиле в Детское Село, где
были в прошлом году. "Конечно, в таком возрасте всего можно ожидать", – прибавляют
врачи. Анатолий Федорович вместе со мной сердечно вас приветствует и радуется, что вам
хорошо. Ваша Е.В.».
Другое письмо (без даты) написано через полгода после смерти Анатолия Федоровича, который скончался 17 сентября 1927 г.
«Дорогая Евгения Алексеевна! Мы собираемся на могиле Анатолия Федоровича в
полугодовой день его кончины (17 марта) в 3/ час. веч., а затем в 7 час. будем при
открытии мемориальной доски. В воскресенье в 2 часа дня а Академии Наук состоится
торжественное заседание. Надеюсь вас увидеть еще в субботу и прошу остаться затем
посидеть вместе. Преданная вам Е.В.».
На торжественном заседании в Академии Наук председательствовал президент
Карпинский. Он сам был в это время очень стар и рассеян. Открывая заседание, он сказал:
«Сегодня полгода, как скончался академик Анатолий Федорович Кони. Почтим память его
вставанием». Затем через несколько фраз, очевидно, забыв свое вступление, опять
произнес: «Почтим его память вставанием».
Часто, побывав у Анатолия Федоровича, я пробовала записать содержание нашей беседы, но обычно выходило так, что все его высказывания уже были напечатаны в книгах. Одно
время мне казалось, что в своих чтениях он тоже только повторяет свои записи. Но скоро я
убедилась, что это не так. Вопервых, очень уж велик был диапазон его докладов, а, во-
вторых, он часто перерабатывал напечатанные материалы, по-новому комбинировал свои
чтения.
54
Так в письме от 11 октября 1920 г. он мне пишет:
«Сегодня у меня очень трудная лекция о Пирогове и психиатрах в Доме искусств, и я
бодро принимаюсь за изучение многочисленных материалов».
«2 ноября 1920 года.
Завтра читаю в Тургеневском обществе прелестные стихи в прозе Блока».
В ответ на мою просьбу сделать сообщение о Лермонтове в собрании ликвидаторов
ликбеза он пишет 20 ноября 1920 года:
«Не найдете ли Вы более соответственным, чтобы я говорил не об одном Лермонтове, но и
еще о ком-нибудь из поэтов для сравнения с ним и его миросозерцанием. Всего ближе
подходит, по моему мнению, Апухтин и Тютчев. Они составили бы такую схему: Тютчев –
пантеист, Апухтин – церковник, Лермонтов – глубоко верующий. Тютчев – печальник
старческой любви, Апухтин – любви роковой и несчастной, Лермонтов – любви
сомневающейся и жестокой. В отношении и людям Тютчев – замкнутый в себе, Апухтин –
пессимист, Лермонтов – мизантроп и т.д.».
Несколькими днями позже:
«А затем я в Вашем распоряжении для доклада о Толстом и Достоевском (со дня смерти
первого исполняется 10 лет, со дня смерти второго – 40) на тему «Наблюдение и анализ»...
Таких доказательств работы Анатолия Федоровича над докладами можно найти очень
много.
В этот период я волею судеб была втянута в чтение докладов о Некрасове, Короленко, Успенском. Я никогда не отличалась ораторскими способностями, но составление
докладов меня увлекало, и, как я уже говорила, Анатолий Федорович всегда приходил мне
на помощь. Однажды мне пришлось выступать вместе с самим Златоустом – Анатолием
Федоровичем. Как я волновалась! Мой дорогой друг обратил внимание и назвал «верхом
совершенства» построение моего доклада. О том, как дрожал и срывался мой голос, он
ничего не сказал.
В письмах Анатолия Федоровича сохранилось несколько упоминаний о драгоценной
помощи, которую он так охотно мне оказывал. И во что она ему обходилась при его
физической немощи!
«16 января 1921 г.
Дорогая Евгения Алексеевна! Думаю о предстоящей Вам лекции о Короленко и об
интересующих Вас личностях, окружающих Некрасова. Посылаю Вам интересный
портрет Короленко в 1911 г. и портрет Чернышевского, когда-то подаренный мне сестрой
Некрасова.
Душевно Вам преданный А. Кони.
А письмо Короленко так и не могу найти».
«3 сентября 1921 г.
Дорогая Евгения Алексеевна, в постоянном желании успеха в Ваших просветительских
трудах я порылся еще в своих книгах и материалах и нашел прилагаемое, по мнению
моему, очень полезное для Вашей речи-статьи о Глебе Успенском...».
«27 ноября 1921 г.
...Увы, тех книг, которые Вам нужны (Пыпин и Глинский) у меня нет, несмотря на все мои
розыски. Не нужно ли других?..».
А в 1926 г., когда я работала над материалами Эрмитажа, Анатолий Федорович писал мне:
«Дорогая Евгения Алексеевна, я перерыл свою библиотеку для отыскания необходимых
Вам источников по истории Нидерландов».
Анатолий Федорович предлагает мне ряд книг, «подходящих для Вашей цели», просит
зайти и самой выбрать, и так заканчивает свое письмо:
«Мне так приятно быть для Вас поставщиком материалов. А как Вам идет Ваша прическа
и отсутствие шляпы!
Преданный Вам А. Кони».
Анатолий Федорович читал воспоминания о современниках в бесчисленном количестве
учреждений Ленинграда. Бывали у него и целые циклы лекций. Откуда брались такие
силы у 80летнего больного старца? В 1919 г. по его инициативе было организовано
Тургеневское общество. Оно продержалось года два-три. Анатолий Федорович постоянно
сообщал мне о собраниях. Я состояла членом общества и, когда могла, приходила слушать
доклады, иногда очень интересные. Для ценной, большой работы правительство
предоставило Анатолию Федоровичу специальный выезд. С этим выездом не всегда шло
гладко. 18 ноября 1921 г. я получила от Анатолия Федоровича такое письмо:
«Дорогой друг, должен сообщить Вам печальную новость: вчера колясочка, в которой мы
ехали с Еленой Васильевной, в 9 / часов вечера с лекций в Живом Слове опрокинулась, и
Елена Васильевна сломала себе руку, а я отделался ушибами лба и ноги (что уже
проходит), а несчастного кучера лошадь ударила копытом в грудь, и состояние его
опасно».
У Анатолия Федоровича не было представления, насколько в то тяжелое время были
обесценены деньги. После каждой проездки на лекцию он считал своим долгом дать
кучеру на чай. И выходило так, что давал он сумму, которая сейчас по покупаемости
равнялась бы копейке. Кучер, как и все окружающие, относился с большим уважением к
гениальному старику, брал чаевые с улыбкой и благодарил. Если память мне не изменяет, в
начале 1922 г. Анатолию Федоровичу сказали, что лошади, которые его обслуживали,
посланы в Москву. Он с юмором, но не без грусти говорил: «Да, вот лошади уехали, а
Кони остались».
С транспортом, обещанным ему с мест, было много волнений и неудобств. В близкие
учреждения ему приходилось ходить пешком, на костылях. Вот что он писал мне по этому
поводу:
«А мысль покинуть Университет и милых слушателей причиняет мне великую скорбь. У
меня и у студентов было столько взаимной любви. Как хотелось бы уснуть и не
просыпаться. Сердце точно идет усталой походкой и вот-вот думает остановиться. Пора
бы отдохнуть!.. совсем. А в душе звучат слова Пушкина: "Пора, пора, покоя сердце
просит...". А день начинается молитвой: "да позови же меня к себе!". И точно в насмешку
звучат в иностранных (русских) газетах некрологи Кони».
Анатолий Федорович относился к людям с исключительной добротой и отзывчивостью.
Ему нравилось санскритское изречение «tat twam asi» (это тот же ты) – он часто приводил
его, указывая, как нужно применять его в жизни.
55
Анатолий Федорович отличался большой общительностью. Он очень плохо спал, страдал
бессонницей. Бывало так, что снотворные не действовали, и он вставал утром с постели, не заснув. Совершенно разбитый, садился в кабинете на диван. Дуняша получала
распоряжение «никого не принимать». Через два-три часа распоряжение изменялось:
«принимать только таких-то и таких-то». Но проходило еще часа два, Анатолию
Федоровичу делалось тоскливо. Как раз «такие-то» не приходили. Дуняша получала
новый приказ: «принимать всех».
Но умел Анатолий Федорович и поворчать по-стариковски на посетителей, когда они его
слишком утомляли. Так, в письме от 10 февраля 1921 года он пишет:
«Вчера (день рождения Анатолия Федоровича) у меня было около 60 посетителей –
измучили меня до крайности разговорами, посещениями и пожеланиями. Они и не
подозревали, что утром я молясь горячо просил: "Господи, пошли мне скорую смерть, устал я – не могу больше...".
В этот период тяжелой депрессии Анатолий Федорович прислал мне стихотворение, им
написанное:
«От неведомого рифмоплета.
ПРИВЕТ СМЕРТИ»
Здравствуй – моя благодатная,
Здравствуй! отныне я твой...
Рад тебе, гостья моя непонятная
В юдоли этой земной...
Неотразимая, злая , бездушная,
Холодом веешь ты нам...
Радостно встречу тебя, равнодушная,
Всё тебе сам я отдам.
Скорби житейские, муки душевные,
Сердца болезненный стон,
Мысли печальные, мрачные, гневные,
«Всё», чем мой путь завершен.
Всё трудовое, широкое знание,
Все упованья живого ума,
Все отдаю тебе на заклание,
Все истребишь ты сама.
О, поспеши же, желанная,
Дать поцелуй ледяной,
И унеси, давножданная,
В мир – если есть он иной!
В том же письме Анатолий Федорович прислал мне стихотворение, очевидно,
переведенное им из Ленау.
Старушка тетушка моя
Старинной книгой дорожит,
В листах ее – заметил я –
Цветок засохнувший лежит.
Наверно, высохла рука,
Его сорвавшая меж роз...
Но – странно! – тетушка цветка
Не может увидать без слез.
Анатолий Федорович был по-своему верующим, но не церковником. Ему не нравилось
заупокойное моление «В лоне Авраамовом упокой».
Он шутя говорил: «Я не желаю искать успокоения в грязном лоне Авраамовом».
В редкие, свободные от лекций дни и часы Анатолию Федоровичу ставили стул у
парадной двери, и он выходил подышать свежим воздухом. «Отправляюсь в Швейцарию»,
– говорил он домашним.
Появилась мода носить короткие платья. Елена Васильевна и сводная сестра Анатолия
Федоровича Л.Э. Грамматчикова сшили себе платья по моде и пришли показаться
Анатолию Федоровичу, шутливо говоря: «Вот какие мы пижоны» (pigeon по-французски
голубь – так называют во Франции очень молодых людей). Анатолий Федорович
посмотрел на них с улыбкой и сказал: «Да, пижоны с Ноева ковчега».
В письме от 15 ноября 1921 года он пишет:
«...Мое старое больное сердце задало мне такой припадок, что пришлось не спать всю
ночь и принимать нитроглицерин, который один мне помогает в подобных случаях. Но так
как он составляет один из видов динамита, то я, шутя, прошу обыкновенно окружающих
как-нибудь не толкнуть меня во избежание взрыва».
5 января 1923 года Анатолий Федорович прислал мне открытку, изображающую старого
ворона, сидящего на суке обломанного дерева. Ворон что-то вещает молодой девушке, которая стоит, опершись на дерево, и внимательно его слушает. В открытке он пишет:
«С большим удовольствием вспоминаю нашу последнюю беседу. Не напоминает ли эту
беседу эта карточка? Мне кажется, что я изображен на ней верно...».
Юмор относился также и ко мне, потому что трудно было увидеть 47летнюю, седеющую
женщину в этой милой, юной девушке.
Анатолий Федорович как-то прислал мне составленные им шутливые стихи в альбом
молодой девушке:
«Что написать мне вам в альбом?
Я очень затрудняюсь в том:
Давно уж вышел я из лет,
Чтобы удался мне сонет,
И слишком я душой устал,
Изобразить чтоб мадригал.
Не уместить и эпиграммы,
В альбоме девичьи раны.
И пусть грозят мне муки ада,
Не выйдет у меня баллада.
И в сердце радости уж нет,
Чтоб начертать для вас куплет.
Боюсь порвать я струны лиры
Коли писать начну сатиры.
А для чувствительных элегий
Я не имею привилегий.
И выйдет уж совсем без лада
В мороз и вьюгу серенада.
Не нахожу я и свободы
От написанья громкой оды.
Каких не напрягай усилий.
Нет материала для идиллий.
Мой ум давно уже затих,
Чтоб мне удался акростих.
Ну – а язык подавно нем
Для созидания поэм.
Эта неудачная шутка препровождается исключительно Вам, как другу. Улыбнитесь! – И не
показывайте ее никому. Да?».
Анатолий Федорович до конца жизни сохранил свой юмор и даже во время болезни
просил окружающих то повернуть его «винтом», т.е. на бок, то положить «бревном» – на
спину.
Я знала Анатолия Федоровича глубоким стариком и поражалась его феноменальной
памяти. Уж не говоря о бесчисленных докладах, рассказах, воспоминаниях без всяких
шпаргалок. Анатолий Федорович свободно цитировал наизусть отрывки из классиков
иностранной литературы. Помню, как однажды мы сидели у камина, и он с большим
чувством продекламировал песнь без слов на итальянском языке, которого я в то время
еще не знала. Он перевел мне стихотворение, и у меня осталось в памяти его необычайная
трогательность и поэтичность.
Однажды Борис Александрович Струве, многосторонне талантливый молодой человек,
просил меня познакомить его с Анатолием Федоровичем, чтобы принести ему на суд свои
автобиографические произведения. Знакомство состоялось, и Анатолий Федорович, узнав, что Борис Александрович хороший виолончелист, просил его придти к нему с
виолончелью и доставить ему радость игрой на его самом любимом инструменте. Таким
образом, мы провели два чудесных незабываемых вечера. Первый был литературный –
слушая внимательно чтение Бориса Александровича, чудесный старик время от времени
зажимал пальцы на руках. Когда чтение было закончено, заговорил Анатолий Федорович.
Он делал критические замечания, постепенно разжимая пальцы. Все зажатые пальцы
точно соответствовали количеству отмеченных неполадок. А ведь чтение продолжалось
два часа. Наш музыкальный вечер вышел необычайно удачным. Подруга по Институту
моей старшей дочери – Вероника Мец, теперь жена Струве, аккомпанировала мужу.
Программа концерта была составлена из любимых произведений Анатолия Федоровича.
Талантливая игра Бориса Александровича привела в восторг нашего хозяина, который
обнаружил тонкий вкус и музыкальную осведомленность. Анатолий Федорович подлинно
воплотил в жизнь мудрый совет английского философа Карлейля: «быть всем в чём-
нибудь и чем-нибудь во всём»
56
Конечно, трудно сказать, чтобы Анатолий Федорович сразу переродился и сделался
советским человеком, но его большой, широкий ум помогал ему объективно разбираться в
происходивший реформах и ко многому он относился с большим одобрением. Не мог
Анатолий Федорович иначе, как с восторгом приветствовать раскрепощение женщин.
Невиданный размах нашей работы по ликвидации неграмотности восхищал его. Он сам
принимал в ней участие, читая доклады для педагогов-ликвидаторов. Вела беседы в
школах ликбеза и Елена Васильевна Пономарева. Мой письменный отчет о нашей работе
так понравился Анатолию Федоровичу, что он просил разрешения оставить его среди
своих бумаг.
В начале декабря 1921 года комиссия по организации празднования со дня рождения
Некрасова прислала приглашение на торжественное открытие памятного бюста
Н.А. Некрасова. Торжество состоялось в помещении Большого оперного театра (бывшем
Народном Доме). Этим большим праздничным митингом открылась общегородская серия
докладов о Некрасове с иллюстративными выступлениями артистов. Для быстрой
подготовки докладчиков при Доме просвещения имени Герцена (зав. С.П. Городницкий) были открыты краткосрочные курсы. Я была в числе слушателей. Главным лектором
курсов был В.Е. МаксимовЕвгеньев, добросовестно работавший с нами и вооруживший
нас фактическим материалом о Некрасове для коротких содержательных выступлений. Его
заключительная беседа окончилась благодарственной овацией со стороны слушателей.
Этими курсами, а затем выступлениями началась моя новая общественная работа.
Помнится, Анатолий Федорович первый возбудил вопрос о своевременности организации
Некрасовского общества, и первое собрание небольшой группы учредителей состоялось у
него на квартире. Кроме хозяина на собрании присутствовали: МаксимовЕвгеньев,
Гродницкий и я. Последующие заседания Общества происходили в помещении
Домпросвета имени Герцена (уг. Лиговки и Бассейной).
В организационный период я получила такое письмо от Корнея Ивановича Чуковского,
который собирался придти, но отсутствовал на первом собрании группы учредителей.
«Многоуважаемая Евгения Алексеевна.
К великому сожалению, я лишен возможности принять участие в сегодняшнем заседании.
Меня особенно печалит, что я не увижу Анатолия Федоровича, которого я не видел уже
тысячу лет – а вы знаете, как мне дорого быть хоть полчаса в его обществе. Но судьба
гонит меня бог знает куда, в какую-то подкомиссию Дома искусств, где я единственный
докладчик.
О нашем Некрасовском обществе:
1) Нужно избрать председателем Анатолия Федоровича.
2) Почетным председателем нужно избрать Илью Ефимовича Репина, который будет очень
обрадован таким приветом из-за рубежа.
3) Нужно отказаться от всяких торжеств и приступить к черной работе. Я предлагаю
устроить в Доме искусств и Доме литераторов два семинара по изучению Некрасова,
пригласив: а) А.Ф. Кони, б) ЕвгеньеваМаксимова, в) Фомина. Придать работе строго-
научный характер, начиная тихо, скромно и чинно.
Ваш Чуковский».
Обеспокоенный делами рождающегося Общества, Анатолий Федорович мне пишет:
«18 декабря 1921 года.
Дорогая моя Евгения Алексеевна. Очень бы хотелось потолковать с Вами о делах
Некрасовского общества, которое, как мне кажется, может пойти по неправильному пути.
В пятницу в 4 часа совет соберется у меня, но, может быть, Вы найдете возможным
придти пораньше, например, в 3 /, захватив с собой устав и список членов совета и
кандидатов к ним. Очень меня обяжете. ... Но какое пассивное было вчера собрание! Ни
одного заявления от присутствующих, кроме будущих членов совета! Какая Вы были
очаровательная, лучезарная, как всегда, изящная, бодрая...».
Почетным председателем Некрасовского общества был избран Анатолий Федорович Кони, председателем – МаксимовЕвгеньев, и я его заместителем.
В письме от 26 декабря 1921 года Анатолий Федорович, приглашая меня зайти, пишет:
«Я постучался бы к Вам сам, но до того переутомлен, что не могу "взять одр свой и идти"
даже к такому огоньку, светящему и греющему, как Вы. Хочется поговорить с Вами о
Некрасовском обществе, наш милый, несравненный и незаменимый товарищ
председателя...».
Несмотря на все тяготы 1921 года, наше общество жило и, насколько возможно,
процветало. Мы с секретарем общества, Л.Е. Яковлевой, прилагали все усилия, чтобы, несмотря на холод, голод, плохую работу транспорта, поддерживать посещаемость
собраний и интерес к нашему детищу. Достаточно сказать, что повестки печатались и
рассылались за наш личный счет. Приглашения на собрания общества заканчивались так:
«Для членов общества вход по повесткам. Входная плата – 5000. Число билетов
ограничено».
Вспоминаются блестящие доклады таких корифеев литературоведения, как Анатолий
Федорович Кони, Нестор Котляревский, Чуковский, Эйхенбаум, Тетрищев, Фомин, собиравшие большую аудиторию. Выступал у нас и Е.М. Гаршин с докладом о своем
брате.
В конце 1922 года, когда отмечалась годовщина существования Общества, в письме от
18 октября Анатолий Федорович мне пишет:
«Дорогая Евгения Алексеевна, Вы меня совсем забыли, не соберетесь ли в воскресенье
вечером? Как работает Некрасовское общество? Корней Иванович Чуковский предлагает
доклад "Н.А. Некрасов и деньги" – вероятно, очень интересный. Целую Ваши руки.
Хвораю, устал... Ваш А. Кони».
В это же время я получила такое письмо от Чуковского:
«Многоуважаемая Евгения Алексеевна. Я согласен прочитать доклад "Деньги в
произведениях Некрасова", но немного позже. Дело в том, что Первая студия
Художественного театра спешно вызвала меня по телеграфу в Москву для руководства
одной постановкой из ирландского быта. Поеду я или нет – я не знаю, но, если поеду, то
буду свободен лишь к 1 декабря. Мне очень не хотелось бы связывать мой доклад с
Некрасовскими днями, так как, увы, этот доклад очень скуден и вял, в нем нет ничего
помпезного. Он годится для будней, а не для праздников.
Ваш Чуковский».
57
Годовое собрание Общества вызывает беспокойство и у нашего председателя. Вот что
пишет Евгеньев 1 декабря 1922 года:
«Глубокоуважаемая Евгения Алексеевна, я получил повестку на заседание Некрасовского
общества 3 декабря, которая вызывает ряд вопросов: 1) чем мы займем собравшихся, т.е.
каков порядок дня? 2) Будет ли доклад К.И. Чуковского? 3) Если нет, какое сообщение
сделает АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ Кони? 4) Какое сообщение Вы ждете от меня? Я
сейчас безумно занят литературной работой, которую должен представить к 7 декабря.
Нового писать и готовить абсолютно не могу. У меня есть большой доклад "Некрасов и
Тургенев", но он слишком велик для отчетного собрания. Затем я мог бы огласить
некоторые неизданные документы, относящиеся к 1) закрытию "Современника", 2) счетам
Некрасова с Белинским. Будет ли это интересно? Во всяком случае класть в основу
программы заседания этого нельзя. Не обратиться ли к Кудринскому или Гриневской?
Годовое собрание должно быть интересным. ... Не зайдет ли передать Ваш ответ
Лидия Евгеньевна... Если ей зайти завтра не удастся, будьте добры, черкните пару слов.
Бесконечная Вам благодарность за хлопоты о дровах.
Душевно преданный В. Максимов».
К концу 1923 года никакими силами нельзя было вдохнуть жизнь в дело, которое угасало.
У меня сохранилась повестка Петрогубполитпросвета, от 4 ноября 1923 года,
приглашающая на заседание бывших членов Некрасовского общества и Тургеневского
общества, посвященное памяти Тургенева. Папка со всеми делами Некрасовского
общества, согласно соответствующей статьи устава, передана в Пушкинский музей.
Зимой 1923 года Николай Арнольдович, работавший в военном ведомстве, желая сделать
мне сюрприз, выписал мою мачеху по казенной литере в Ленинград. В день ее приезда я
была больна гриппом и лежала в постели. Передо мной явилась, предварительно взяв
ванну, маленькая, сухенькая, сгорбленная старушка. Трудно было в ней узнать мою всегда
такую моложавую, красивую, кокетливую мачеху. Главное меня поразило совершенно
изменившееся выражение лица. Было в ней что-то приниженное, жалкое. В жизни мне не
раз приходилось наблюдать, как потеря привилегированного положения сопровождается у
людей потерей чувства собственного достоинства. Так случилось и с бедной Еленой
Георгиевной. Прекращение выплаты пенсии поставило ее в самое тяжелое положение.
Она голодала и только последние два-три месяца немножко подкормилась, работая
нянькой у двух ребят.
Елена Георгиевна прожила с нами три года. Уже с первых дней совместной жизни мы
обнаружили ее новые качества. Нужно сказать, что в это время мы, благодаря добавочной
ночной работе Николая Арнольдовича в игорном доме на Владимирской, жили в хорошем
достатке. Мне в это время приходилось застревать на службе до позднего вечера, поэтому
дома обедали без меня. Мои хозяйственные функции постепенно отпадали. Мне всегда
нравилась широта нашей няни. Обед она, например, готовила так, что все были сыты –
если случится гость к обеду, и его всегда можно было накормить. Сытехонька была и
Елена Георгиевна. Через два-три месяца она вернулась в свои прежние обширные телеса.
С момента своего приезда мачеха заявила о своем желании помогать няне по хозяйству. Из
своего сильно обедневшего багажа она, в первую очередь, вынула передник с большими, глубокими карманами, и с первого же дня, неся, например, блюдо с жарким из столовой в
кухню, умудрялась положить котлету или картофелину в карман. Скоро карманы отпали, и
она стала тихонько уносить пакетик домашних вкусных изделий своей приятельнице.
Затем стал пустеть ящик под зеркальным шкафом, где у меня были сложены вещи, не
нужные для данного момента. Особенную пустоту ящика я ощутила мосле месячной
поездки в Железноводск. Вещичками она, очевидно, торговала на рынке. Никогда в жизни
я не упрекнула ее в некрасивых поступках, но сделала все, чтобы расстаться с ней. Я
устроила ее в очень хорошее общежитие для престарелых на Сергиевской ул., почти
напротив нашего дома. Тут она прожила два-три года в прекрасных условиях, деля
комнату с милой, интеллигентной старушкой. По воскресеньям она приходила к нам
обедать. С этих пор и до конца ее жизни я заботилась о ней и выплачивала ей
ежемесячную пенсию, хотя порой мне было это очень трудно.
Затем ее перевели в Петергофский дом инвалидов. Оттуда она приезжала ко мне гостить, каждый раз увозя с собой какую-нибудь незначительную мою вещь. В конце концов, мне
это надоело, я стала защищаться, и уходя запирать в ее присутствии шкафы на замок, говоря: «Приходится так делать, в городе участились случаи воровства». – «И хорошо
делаешь», – покорно отвечала она. Очевидно, она была больна клептоманией.
Поседние годы жизни она провела в очень тяжелых условиях. Ее, вместе с частью других
старух, перебросили на север и поместили в бывшем мужском монастыре, очень сыром и
мрачном. Там она умерла 78 лет от роду после очень тяжелых страданий от рака желудка.
Об ее смерти меня известили телеграммой, а через неделю я получила ее посмертное, очень трогательное письмо. В нем она горячо благодарила меня за постоянную заботу и
помощь. Заканчивала она уверением, что любила меня больше всех на свете. Как это ни
странно, я, всегда глубоко реагирующая на смерть близких, к ее кончине осталась
равнодушной.
В середине 1924 года появились первые тучи над комиссией ликбеза и, постепенно
сгущаясь, привели к полной смене всех ее работников. Но и сама организация работы
сменила свои формы, распределившись по районам. Получилось, что мне первой
пришлось покинуть порученное мне дело, которое, по общеизвестной оценке, так удачно
выполнялось нашими общими усилиями. Представители беспартийной интеллигенции,
ставшие во главе многих организаций в 1919 году, в 1924 году начали заменяться новыми
работниками, только что вступившими в партию.
58
Женщины по природе обладают большей интуицией, чем мужчины. Признавая положение
нашей комиссии непрочным, я предложила Гродницкому свой проект ее реорганизации. Я
считала, что возглавлять такой ответственнвй учаток строительства социализма должен
партиец, и надо просить зав. ОНО выделить нам члена партии на пост председателя
комиссии, а Гродницкому занять мое место – заместителя. Для себя я хотела только
продолжать вести прежнюю работу под любым наименованием. Это предложение я внесла
на узком собрании нашей комиссии. Секретарствовал недавно поступивший к нам новый
работник, партиец тов. Шимановский. Недовольный Гродницкий выдвинул свое
предложение – удалить из комиссии меня, заменив партийным работником. «Nil mirrari»
(ничему не удивляйся), – говорили римляне. Тов. Шимановский выразил на это, что
тов. Вейтбрехт нельзя устранять, посколько, по общему мнению ликвидаторов, она
является организатором и душой ликбеза. Вся эта дискуссия запротоколирована и
находится в архиве Губоно. De mortius nil nasi bene – (о мертвых ничего или хорошее).
Мне придется, отдавая должное благородному правилу римлян, слегка нарушить его.
Очень скоро после начала нашей совместной работы Гродницкий начал терзать меня
объяснениями в любви. Видя полную безнадежность своего, как мне казалось,
несуществующего чувства, он как-то сказал: «Пусть будет так, пока вы одна, но, если вы
кого-нибудь полюбите, то будете иметь врага в моем лице». Когда это случилось, он как
будто примирился. Вражеские действия против меня начались, по моему мнению, скорее
под влиянием желания сохранить свое служебное положение и деловой ревности. Я вся
целиком принадлежала своей работе и поэтому пользовалась популярностью и любовью
среди работников ликбеза. А Гродницкий был очень перегружен другой работой, так как
имел еще две ответственные должности кроме того, что был председателем Губграмчека.
Помню, как на нашем вечере спайки работников ликбеза один из преподавателей
провозгласил тост: «за всеми любимую и уважаемую Евгению Алексеевну – друга
ликбеза!». Гродницкий резко оборвал его, сказав: «У вас, тов. Пархоменко, большое сердце
и маленькая голова». Это грубое замечание произвело тяжелое впечатление на всех
присутствующих.
В это время у меня появился враг в лице инструктора ликбеза Володарского района, члена
партии Мишуриной. Она писала на меня доносы, очевидно, метя на мое место. Главное
обвинение заключалось в том, что я зажимаю молодежь. Подавляющее большинство
учителей были студенты Внешкольного института. Объясняется это тем, что председатель
комиссии Е.Я. Голант был заведующим учебной частью этого института. Подбор
учительского персонала был всецело в руках методической комиссии. Мои же функции








