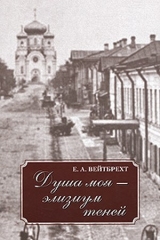
Текст книги " Душа моя - элизиум теней"
Автор книги: Евгения Вейтбрехт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Название: Душа моя – элизиум теней
Автор(ы): Е. А. Вейтбрехт
Описание: В книге воспоминаний преподавателя и интеллигента Евгении Алексеевны Вейтбрехт
показаны события жизни России – от начала царствования Николая II до эпохи электрификации, ликвидации безграмотности, советских пятилеток, Ленинградской блокады и первых
послевоенных десятилетий. Но это не просто хроника, лучшие заметки или впечатления
наблюдательного неравнодушного человека, что само по себе есть документ эпохи, а искренняя
и высокохудожественная мемуарная проза, в самом что называется «герценовском» понимании
этого слова. Представленные автором живописные картины жизни минувшего и настоящего: Гатчина, Петроград, Ленинград, Могилев или Новосибирск военной поры невероятно выпукло и
доподленно показаны на фоне судеб гениального множества окружающих ее ярких людей, как
самых близких, родных, сослуживцев из числа военных, ученых, актеров, художников, так и
людей случайных, далеких, почти незаметных. Мемуары Е. А. Вейтбрехт – подлинные "этюды
оптимизма". Все изложенное на этих страницах -...
ISBN: 978-5-91258-110-6
Моя душа – элизиум теней
Вейтбрехт Евгения
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ или ДВЕРЬ В ЭТУ КНИГУ
«Жизнь! На что ты нам дана…»
А.С. Пушкин
« ... Я не думаю, что только исключительные личности имеют право рассказывать о себе.
Напротив, я полагаю, что очень интересно, когда это делают простые смертные».
Анатоль Франс
« … Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание и особенно выписанное еще из детства, из
родительского дома. Если много набрать таких воспоминаний с собою в Жизнь, то спасён
Человек на всю Жизнь».
Ф. М. Достоевский
«Мы боимся, мы ни за что не хотим отпускать наши вещи обратно в природу, откуда
вышли они. Флобер желал быть похороненным вместе со своей чернильницей. Но
чернильнице было бы скучно без пера, перу без бумаги, бумаге без стола, столу без
комнаты, комнате без дома, дому без города. И как ни старайся человек, истлевает он сам, истлевают и его вещи. И лучше, чем мумии лежать в расписном саркофаге, на музейном
сквозняке, – приятнее и как-то честнее, – истлеть в земле, куда возвращаются в свой черед
и игрушки, и линотипы, и зубочистки, и автомобили».
В.В. Набоков
Лев Толстой утверждал, что существует, по крайней мере, три признака, которыми должен
обладать настоящий и хороший писатель: во-первых, он должен высказать что-то очень
ценное, непреходящее и полезное для многих людей. Во-вторых, он обязан это своё
«слово» выразить правильно, то есть понятно и доступно. И, в-третьих, стараться быть
правдивым. Такими, по его мнению, были Достоевский, Диккенс и, прежде всего, Огюст
Флобер.
Я смею думать, нет, я утверждаю, что литературные воспоминания Евгении Алексеевны
Вейтбрехт, по совокупности, обладают этими тремя «толстовскими» качествами в самой
полной мере: и как образец абсолютного освоения труднейшего жанра словесного
творчества, каким являются мемуары, и необыкновенной выразительной «житийной,
бытовой, философской» поэтикой текста, поэтикой изложения автором простых фактов и
серьезных великих событий русской и советской жизни на протяжении почти 80 страдных
лет (начиная с последней четверти 19 века), выпавших на её долю.
Как известно, Александр Герцен, начавший было на старости лет кропать свои
воспоминания исключительно для дочерей, перечитав вслух первые три – четыре главки, вдруг обнаружил, что описанные в них конкретные факты и обстоятельства его
собственной личной жизни, то бишь родительский дом, отец, мать, мачеха, юность,
сиротство, учеба, первые книги, пансион, сверстники, мятежные мысли, ссылка, женитьба, изгнание, Огарев, Станкевич, Дуббельт – всё это происходило в крайней близости и
неотрывно от жизни и судеб его Москвы, Воробьевых гор, Петербурга, Парижа,
провинциальной Вятки, той же Твери или Лондона.
Так родился герценовский шедевр под названием «Былое и думы».
И, пожалуй, до сей поры у нас в России не было и нет пока более достоверного и с такой
художественной силой и энергией исполненного документального источника по истории
русской интеллигенции и т.н. «истории идей» бурного 19 века.
А «Крейцерова соната» Льва Толстого? Всего лишь короткая повесть, (то есть выдумка, фантазия, анекдот, случай, сюжет), навеянная простым забавным рассказцем из чьей-то
чужой жизни другом писателя артистом Горбуновым за чайным столом в Ясной Поляне.
Она существенно и реально отразила думы и нравственные сомнения большинства
представителей русского общества конца 1880–х годов, а за героями повести легко
угадывались и сам Лев Николаевич, и его жена – Софья Андреевна…
С другой стороны, все творческое и эпистолярное наследие Густава Флобера и, прежде
всего, его великий художественный роман-трилогия «Воспитание чувств» – разве не
совершенно реальная доподлинная картина современной ему Франции и остальной
Европы?
Все так …
Но и Флобер, и Герцен и, конечно, Лев Толстой, великие писатели, которые в поисках
идеала и мировой гармонии, что называется, «творили эпоху», будоражили и направляли
умы, воспитывали вкус, преодолели века, границы и наречия, сформировали характер
нескольких поколений людей мыслящих. Авторитет их поступков и писаний непререкаем.
И хотя представленные читателям воспоминания Евгении Алексеевны Вейтбрехт,
личности отнюдь не столь знаменитой и именитой, события и встречи, которым она была
неравнодушным свидетелем, и множество людей, которые прошли с ней по жизни, от
первых лет детства и до старости, безусловно не менее значительны и достойны, чтобы
нынешние современники вместе пережили её простую – непростую жизнь.
– Одноэтажная деревянная пыльная гимназическая Гатчина с её тихими горожанами,
позолоченными церквами, каретами, барабанами вокруг Августейшего Дворца и высоким
подъездом знаменитого Сиротского института Благородных девиц;
– детские, юношеские пленительные окрестности «некоего» именьица с журавлиным
названием «Журавка» где-то на отшибе Могилевской губернии;
– полковые ученья, карты, любовь, офицерские жены и журфиксы в клубах и гостиницах
под Вильно;
– счастливое замужество, Рига;
– каменный заезженный булыжный болотный дачный Петербург Блока и
Комиссаржевской, деревянные мостовые окраин, больницы, Публичная библиотека;
– милые берега Лебяжьего села у самых финских шхер, загорелые лоцманы и благородные
рыбаки;
– Зимний, Невский, Острова, извозчики, трамваи, железная дорога, филармония, окна, Первая мировая, рождение дочерей, Петроград, февраль-октябрь;
– военщина и революция, голод, «Наркомпрос», «Наробраз», «Помгол», борьба за грамоту;
– неровная тревожная упрямая советская жизнь, Крупская, Горький, Анатолий Фёдорович
Кони, Чуковский;
– театр, Николай Константинович Черкасов – любимый зять и его родители;
– война вторая, блокада, опять голод, страх, неясность, эвакуация, гостеприимный
незабываемый театральный Новосибирск и долгое возвращение домой в свою коммуналку
на улицу Восстания, творческая старость среди дорогих книг, преданных родных, юного
внука и множества друзей, коллег и учеников…
И за каждой из этих, блестяще выписанных Евгенией Алексеевной картинок быта и яви, как за резной рамой с причудливым орнаментом – легион! Конкретные лица и имена
множества знакомых и незнакомых людей (персонажей), приметы их одежды, мыслей,
характеров, привычек, жестов, взглядов, словечек и всяких тому подобных «мелочей
жизни», которые (как известно каждому), отнюдь и совсем даже н е м е л о ч и. И так же, как от камешка, брошенного в воду, расходятся круги, так и от каждой живой и, подчас, беспощадной страницы этих воспоминаний, в центре круга – она сама, просвещенный
библиотекарь, преподаватель, искусствовед, переводчик Евгения Алексеевна Вейтбрехт, пожилая красивая русская женщина (правда, с весьма причудливой родословной) с
котомкой любимых книг за плечами и внимательным взглядом. Точь-в-точь, как сказал
однажды Белинский о Лермонтове: « Во всех повестях одна мысль, и эта мысль
воплощена в одном лице, которое и есть герой всех рассказов». Причем, и здесь Евгения
Алексеевна, пытаясь объяснить ход своей мысли или своего поведения в той или иной
житейской ситуации, в большинстве своем обращается к Шекспиру, Гете, Дюма,
Лонгфелло иль к самому Лорду Теннисону отнюдь не ради эрудиции или поучения, а
только лишь для того, чтобы подтвердить авторитет мировой классической литературы
перед сиюминутными открытиями и изобретениями… И теперь каждый, кто не только
раскроет эту книгу, но и «дойдет» хотя бы до её половины – непременно удивится кругом
чтения Е.А. Вейтбрехт и, может быть, потом перечтёт или сами эти книги, или запомнит
их названия (что тоже немало).
Что же касается собственно «прозы», то есть художественности текста (о чем было
сказано выше и что напрямую роднит воспоминания Е.А. Вейтбрехт с самыми
выдающимися образцами этого жанра), приведем «навскидку» пару-тройку выписок и
цитат, подтверждающих наше смелое утверждение …
« Если скупость и любовь к дешевке практична, то моя мачеха в высокой степени обладала
этим качеством. В то время носили белые чулки, но она где-то выискала для меня красные, которые отравляли мне жизнь. Когда мы с мачехой чинно уселись против бабушкиного
кресла, я сразу почувствовала себя в состоянии депрессии. Мне казалось, что и бабушка, и
сидевшая позади нее с вязаньем горничная (бывшая крепостная) с изумлением смотрят на
мои толстые красные ноги. «Гусь лапчатый», – дразнили меня братья. Я тихонько
соскользнула со стула и пробралась к окну. Был солнечный осенний день, и я никогда не
забуду чудесного вида Невы с Петропавловской крепостью вдали».
« Детская сделалась «комнатой мальчиков», а я начала свое странствование на диванах в
комнатах общего пользования. Оно продолжалось с короткими перерывами в течение
15 лет, до замужества. С тех пор я поняла, что своя кровать – это великая вещь, ей
передается что-то от индивидуальности хозяина, это его друг, его дом. Диваны, высокие, низкие, со спинками, без спинок, клеенчатые и кретоновые, с клопами и без клопов
мерещатся мне, определяя каждый отдельный этап моей жизни».
«При большой взаимной любви первое стирается, второе прощается, и последующая
реакция часто еще обостряет любовь. Но вот на моем опыте я убедилась, что
катастрофичен союз, в котором одна сторона своим поведением и суждениями смертельно
оскорбляет другую, не понимая, в чем дело. Часто задается вопрос: «Да что же тут
оскорбительного? Неужели я не имею права так говорить и так поступать?». Тут пропасть, и подать руки через нее невозможно. Все это не мешает человеку быть умным,
образованным, просто даже эрудитом и культурным с общепринятой точки зрения. И
душевно люди эти совсем не плохие, но какое у них мещанское представление о мужской
порядочности и благородстве. Причина кроется, по всей вероятности, во взгляде на
женщину, которую даже при большом чувстве считают низшим существом. Никогда не
забуду моментов пережитых унижений»!
« Я стараюсь извлечь пользу из примера деда и, остро реагируя на неизбежные в жизни
удары самолюбия, беру себя в руки, чтобы не перехватить через край. Не знаю, как у моих
предков, но у меня в той же степени развито и чувство благодарности.
Е. Б. Белодубровский
Воспоминания Евгении Алексеевны Вейтбрехт, которые она посвятила своему внуку
Андрею Черкасову
«Сказал свое слово – иди»
Арабское изречение
«Для того, чтобы писать свои воспоминания, вовсе не надо быть ни великим мужем, ни
знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным мужем, – для этого
достаточно быть просто человеком, иметь что-нибудь для рассказа и не только хотеть, но и
сколько-нибудь уметь рассказывать».
Герцен – «Былое и думы»
1. Детство
Дед мой по отцу Петр Бонифациевич Борейша был родом из мелкопоместных польско-
литовских дворян Могилевской губернии. Человек большой воли, умный, энергичный, он, как говорят англичане, «сам себя сделал» (self-made man). Начав с маленькой службы в
канцелярии, он в чине действительного статского советника дошел до крупной должности
товарища министра путей сообщения. На сохранившейся фотографии он снят с лентой
через плечо и звездой на груди. Дед сам изучил французский язык и владел им в
совершенстве. В его родовом имении сохранилась собранная им большая библиотека
французской литературы ХVIII века.
Николай I, высоко ценивший деда, как исключительно честного, энергичного работника, нашел всетаки возможным кровно оскорбить его, отдав выговор в приказе за проступок, ошибочно ему приписанный. Дед немедленно подал прошение об отставке и отбыл в свое
имение ( Журавка, Могилевской губернии).
Когда дело разъяснилось, государь, узнав об отъезде деда, командировал ему вдогонку
курьера с письмом, в котором сообщал, что ошибочный выговор снят, и он просит его
вернуться к работе. Железных дорог еще не было, тысячу верст спешно проскакал курьер
на почтовых. Он застал деда уже в Журавке. Ответ был письменный. Дед благодарил за
снятие выговора, но категорически отказался вернуться к работе. На коленях, в слезах
тщетно умоляла его наша бабушка согласиться. Он остался непреклонным. Рассказывая об
этом случае, отец добавлял, что как предшественники деда, так и его преемники по работе
наживали громадные деньги, а он ушел с чистыми руками, ушел полный сил и энергии, обрекая себя на бездействие. Думается, что за свою последующую долгую жизнь он не раз
пожалел о своем поступке.
Отец наследовал от деда такую же исключительную уязвимость и передал ее мне. Я
стараюсь извлечь пользу из примера деда и, остро реагируя на неизбежные в жизни удары
самолюбия, беру себя в руки, чтобы не перехватить через край. Не знаю, как у моих
предков, но у меня в той же степени развито и чувство благодарности.
От двух браков у деда было 18 детей. Отец мой родился внебрачным ребенком от
гувернантки (голландки по национальности), на которой дед женился, образовав вторую
семью. Я лично знала только двух своих дядей: Исидора Петровича – юриста по
образованию, много лет занимавшего должность заведующего канцелярией попечителя
СанктПетербургского учебного округа (с ним и его семьей я была очень связана всю
жизнь) и Павла Петровича. Последний был полицмейстером Зимнего дворца, имел там
прекрасную квартиру с окнами на набережную. Он был младший и любимый сын своей
матери, которая, овдовев, жила вместе с ним. Отец с презрением относился к должности
дяди Павлуши. Навещая мать, он никогда не выходил за пределы ее комнаты. Лет в 67 я
один раз с мачехой была в гостях у дяди и познакомилась с бабушкой. В черном шелковом
платье, с кружевным чепцом на голове, очень старая, она сидела в кресле у венецианского
окна, к которому вели две ступеньки.

Отец, Алексей Петрович Борейша.
Если скупость и любовь к дешевке практична, то моя мачеха в высокой степени обладала
этим качеством. В то время носили белые чулки, но она где-то выискала для меня красные, которые отравляли мне жизнь. Когда мы с мачехой чинно уселись против бабушкиного
кресла, я сразу почувствовала себя в состоянии депрессии. Мне казалось, что и бабушка, и
сидевшая позади нее с вязаньем горничная (бывшая крепостная) с изумлением смотрят на
мои толстые красные ноги. «Гусь лапчатый», – дразнили меня братья. Я тихонько
соскользнула со стула и пробралась к окну. Был солнечный осенний день, и я никогда не
забуду чудесного вида Невы с Петропавловской крепостью вдали.
Наверное, бабушке я показалась букой, а она мне очень важной. Мы не подружились с ней.
Но старший брат, побывавший у нее в гостях несколько раз, рассказывал, что она очень
ласковая, задаривала его игрушками и конфетами. Она умерла в глубокой старости, но я
никогда больше ее не видела.
Говорят, что Александр III подбирал себе придворных с красивой наружностью.
Дядя Павлуша был исключительный красавец и, как часто бывает, женился на очень
некрасивой и неинтересной женщине. Участвуя в постоянных кутежах, напиваясь до
бесчувствия со своим хозяином, он очень рано спился и сгорел.
Третий брат – Дмитрий Петрович – умер молодым за год до моего рождения. Прекрасный
врач и замечательный человек, он брал деньги у богатых и клал их под подушку бедных
пациентов. Его называли «коломенским богом». В некрологе, помещенном в
«СанктПетербургских ведомостях», есть описание его похорон. Гроб несли его пациенты
на руках, образовалась процессия провожающих около 5000 человек. Он оставил жену и
маленького сына, который получил военное образование, был очень недалеким и
отчаянным монархистом. Мы, родные, не любили его и окончательно стали презирать
после того, как он на вокзале выстрелом из револьвера убил наповал пьяного солдата, певшего революционную песню. Совершив какой-то геройский подвиг, он погиб в Первую
Мировую войну.
Вдова Дмитрия Петровича, очень красивая, стройная брюнетка, получила должность
надзирательницы в Доме предварительного заключения. Здесь у нее стал часто бывать
В.Н. Коковцов, исполнявший в то время какие-то административные функции в этом
учреждении. Прекрасная музыкантша, она играла ему вечерами Шопена и Шумана. В
комнате всегда были свежие розы. Ее маленькому сыну он дарил игрушки. Но когда дело
подошло к развязке, не сегодня-завтра должно было быть сказано слово, решающее ее
судьбу, Коковцов исчез с ее горизонта. Не появлялся он больше и в учреждении.
Погоревала вдовушка, но делать нечего. До нее дошли слухи, что он женился на дочери
какого-то высокопоставленного чиновника и стал быстро делать карьеру. Ее сосватали за
генерала, она прожила с ним лет пятнадцать и опять овдовела. Обеспеченная хорошей
пенсией, она поселилась в маленькой квартирке на Сергиевской. Прошло еще двадцать
лет. Анне Петровне шел седьмой десяток. Она располнела, но сохранила стройную
фигуру, седые волосы выгодно обрамляли ее свежее, все еще красивое лицо. В жизни ее
появилось затруднение – то ли с переводом сына в другую часть, то ли с финансами. Она
вспомнила о своем былом знакомстве с Коковцовым, теперь уже премьер-министром. На
ее письмо он ответил очень любезным приглашением в определенный день и час. Она
изложила ему свою просьбу. Он, внимательно слушая, долго смотрел на нее, затем вдруг
прикрыл глаза рукой, несколько мгновений сидел неподвижно и сказал с громадным
волнением: «Я всю жизнь помнил Вас, ведь Вы – моя первая любовь. Скажите, где Вы
живете, я завтра вечером буду у Вас».
И вот опять цветы, на этот раз уже не розы, а резеда и георгины – «Осени поздней цветы
запоздалые...». Опять она играет ему с прежним мастерством его любимые вещи
Aufshwung Шумана и Impromtu Шопена. Она приходила, рассказывала мне свои
любовные переживания. «Посоветуйте, что мне делать, он настаивает на близости, а я не
могу. Иду в церковь молиться и молюсь ему!». Она проводила ночи без сна, была все
время в таком возбуждении, что я боялась за ее рассудок.
Но скоро все успокоилось. Шел 1914 год, Коковцов прекратил свои визиты.
Несколько иначе сложилась жизнь брата моего деда – Антона Бонифациевича. Он
женился на девушке княжеского рода, очевидно, богатой, и образовал семью с
аристократическими тенденциями. Один из его сыновей – Петр Антонович, очень
талантливый инженер, участвовал в постройке ПортАртура, Либавского и Петербургского
порта. Затем вместе с инженером Максимовичем . организовал контору строительных
материалов и очень разбогател. У него была единственная дочь Маруся. Она получила
воспитание в модном тогда французском пансионе Труба. Была очень полная и отличалась
необыкновенным аппетитом. Любящая мать всегда заботилась, чтобы не только днем, но и
ночью, когда она просыпалась, около нее на столике были приготовлены ее любимые
бутерброды. Жили они очень богато. Мы с двоюродной сестрой, бедные девушки,
однажды были приглашены к ним на бал. Подруги Маруси – графини и княжны в
роскошных бальных туалетах, исключительно французская речь, котильон с ценными
подарками, чудесный ужин – все ослепляло нас, все было похоже на сказку. Но мы,
«золушки» в простеньких платьях, чувствовали себя не ко двору, униженными. Гордо
решили, что мы никогда больше не пойдем. Кстати, нас больше и не приглашали. Скоро
балы прекратились – лишний раз подтвердилось, что не в богатстве счастье – семье
готовился страшный удар. За Марусей отец давал миллион приданого, в 17 лет она была
невестой некоего Лядова. Он торопился с женитьбой, но ввиду молодости невесты
родители решили отложить свадьбу на год. Маруся заболела брюшным тифом. Около нее
были все лучшие врачи. Спешно вызвали знаменитого Захарьина . из Москвы. Ее
невероятная тучность способствовала ускоренному течению болезни. Спасти ее не
удалось. Через несколько месяцев после ее кончины умерла и ее мать, она отравилась.
Петр Антонович не надолго пережил свою семью. Богатство его перешло по завещанию к
семье Саловых, родных жены.
Жених покойной Маруси, Лядов, женился через несколько лет на дочери ловчего царской
охоты Диц. Семья Дицов . жила в Гатчине, две дочери – белорозовые хорошенькие
блондинки с длинными косами – учились в гимназии, были двумя классами младше меня.
Это они принадлежали к дворцовой аристократии, приезжали и уезжали из гимназии на
казенных лошадях. Много шуму наделал в Гатчине несчастный случай с их братом. Он
был разорван насмерть охотничьими собаками царской охоты.
«Дядя Пьер», как мы его называли, хлопотал о присвоении ему княжеского титула его
матери, заказал генеалогическое дерево нашего рода, на котором точно было указано, что
мы происходим от литовского короля Ягелло. Я недавно слыхала, что на этого предка
претендуют все литовцы, интересующиеся своим происхождением.
Живя до 16 лет в Гатчине, я только слышала о Петре Антоновиче, но никогда его не
видела. За время пребывания в Петербурге в конце 90-х годов, я была у него несколько раз
до и после смерти жены и дочери. Узнав, что я выхожу замуж, дядя Пьер вызвал меня к
себе и объявил, что дарит мне тысячу рублей на обзаведение, но очевидно забыл, потому
что этих денег я никогда не получила, напоминать об обещании я не считала возможным.
Насколько помню, умер он в 1902 г. В его завещании я и мои три брата фигурировали как
наследники на случай остатков, которых не оказалось. Уже совсем недавно мне пришлось
столкнуться с жителями поселка, соседнего с его усадьбой Лози. Деды, которые знали его, сохранили о нем светлую память. По его распоряжению по большим праздникам
собирались дети соседних деревень на обед и уносили с собой пакеты с подарками и
сладостями. После кончины дочери Маруси он выделил капитал на постройку здания и
содержание женской школы с общежитием для 209 девочек соседних деревень. В память
дочери она называлась Марьинской. Окончившие школу получали звание
преподавательниц сельских школ. Сейчас в большом здании бывшей школы оборудован
техникум. После смерти жены там же, в память ее, построил церковь. При церкви
находится склеп, в котором похоронены его дочь, жена и он сам.
Отец мой, как незаконнорожденный, был записан мещанином, получив фамилию и
отчество отца. Это дикое обстоятельство, выделявшее его из большой семьи братьев и
сестер, унижало и оскорбляло самолюбивого мальчика.
Рассматривая его жизнь из далекого прошлого, я нахожу, что он вообще был «неудачник».
На заключительных экзаменах Института инженеров путей сообщения он получил «3» по
черчению и отказался взять диплом второй степени. Поступил на физико-математический
факультет Университета. В период занятий страстно увлекся естественными науками. Во
время каникул много времени проводил заграницей, составлял гербарии и коллекции
бабочек и жуков. По окончании Университета отец взял место преподавателя
естествоведения в Гатчинском сиротском институте. (в то время там были повышенные
ставки). Богатый наглядный материал помогал ему поддерживать интерес на уроках.
Он картавил и как-то раз заявил, войдя в класс: «Мальчики, сегодня я принес показать вам
кообочку в звеуушке». Дети подхватили его рассеянную обмолвку и стали звать его
«кообочкой в звеуушке», а потом и просто «звеуушкой». Очевидно, дело у него не пошло, потому что он вскоре перешел на преподавание математики в старших классах. В
1890 году он отпраздновал свой 25-летний служебный юбилей, а на следующий год его не
стало. Он не любил своей работы. Вспоминаются два данных мне его завета: «Никогда не
носи корсета», «Никогда не берись за преподавательское дело». Жизнь маленького
захолустного городка с патриархальным укладом, субботними картами и обильной
выпивкой тоже не могла дать ему удовлетворения.
Флобер где-то советует: «Взберемся как можно выше на нашу башню из слоновой кости, на последнюю ступеньку, одной ступенькой ниже звезд. Там иногда холодно, но это не
беда».
Такой башней для моего отца служила его вечерняя работа. Отдохнув час-другой после
уроков, отец садился за письменный стол и работал до поздней ночи. Он составлял
учебники по математике для старших классов. Большая часть этих учебников была уже
принята и должна была поступить в печать. В литографированном виде эти
переплетенные книжки долго служили учебными пособиями в Институте после смерти
отца. Но в последние два-три года он отошел от этой работы. Очевидно, в целях выплатить
поскорей долги сонаследникам по родовому имению, заложенному и бездоходному, он
взял дополнительно вечернюю должность помощника инспектора в Институте. Это, с
одной стороны, ускорило его кончину, а с другой, не дало возможности издать свой
многолетний труд. Мачеха что-то пыталась сделать после его смерти, но безуспешно. Он
мечтал, выслужив пенсию, поселиться в деревне и работать в земстве.
Большой эрудит, атеист, человек широкого кругозора, он впитал в себя все передовые
взгляды своего блестящего поколения. Ненавидел царскую власть с ее продажными
чиновниками, жандармами и полицейскими. Постоянно внушал нам, что каждый честный
работник умственного или физического труда достоин уважения, независимо от
национальности. Бесправное положение евреев глубоко возмущало его. Слово «жид»
никогда не произносилось в нашей семье.
«Рассеянный – значит в чем-то сосредоточенный», – говорил отец в оправдание этого
свойственного ему недостатка. Запечатлелись в памяти некоторые случаи проявления его
исключительной рассеянности. Он рано уходил на службу, и особо инструктированная
горничная должна была проследить, как он оделся, все ли необходимое положено в его
карманы.
Когда он весной, в первые теплые дни, ходил на службу без пальто, то, придя в Институт, часто, сняв и повесив свой вицмундир, мчался на урок в одном жилете. Швейцару
приходилось ловить и возвращать его с лестницы.
Отправляясь на вечернюю работу, он всегда брал извозчика и, если на тротуаре замечал
воспитанников института (они все носили форму), подзывал и подвозил их. Однажды
посадив около себя какого-то ученика, он ласково спросил: «Как твоя фамилия, мальчик?»
– «Борейша», – смущенно ответил его собственный сын.
В обществе друзей его рассеянность служила обычно предметом забавы и веселья. Он, проделав какое-нибудь чудачество, весело смеялся вместе с другими. Как-то раз за чаем во
время очень интересного для него разговора, перешедшего в спор, ему стали передавать
стаканы чая для него, а затем для других. Через несколько минут около него образовалась
целая батарея стаканов. И только хохот окружающих заставил его обратить внимание на
свою ошибку и исправить ее, участвуя в общем веселье.
Отец рассказывал, что в молодости с ним был такой случай. Он получил приглашение на
свадьбу. В назначенный день явился в церковь и увидел толпу народа, стоявшего вокруг
гроба. Отец ничуть не удивился, помня, что получил приглашение, он совершенно забыл, по какому поводу. «Экий я рассеянный, – подумал, – пришел на похороны, а кого
хоронить, не помню». Осмотрелся вокруг, никого знакомых. «Вот проклятая
близорукость, – выругался он мысленно, – никого не узнаю. Да все такие заплаканные, где
тут узнать». Он простоял всю службу, крестился и молился вместе со всеми. Придя домой, обнаружил свою двойную ошибку. Свадьба состоялась двумя часами раньше.
Однажды у нас состоялась очередная вечеринка, все подвыпили и даже поплясали. Отец
был очень оживлен, принял горячее участие в танцах. Но сказалась усталость от тяжелого
рабочего дня, да и час был поздний. Забыв, что находится дома, он, подхватив под руку
свою жену, со словами: «Идем, Леля», подошел к жене своего сослуживца Голубкова,
отвесил ей низкий прощальный поклон и сказал: «Ну, повеселились, спасибо, пора
хозяевам и покой дать. Всего доброго!». Хохотали до упаду и долго не могли разойтись по
домам и дать покой усталому хозяину, который смеялся от души вместе со всеми.
Моя мать, урожденная Тереза Ливи, англичанка по национальности, была круглая сирота, когда поступила в старшие классы Коломенской гимназии. Там она познакомилась с
будущей женой моего дяди Исидора Петровича. Окончив гимназию, обе очень скоро
вышли замуж за двух братьев Борейш. Воспитывали мою мать ее родственники шведы.
Куда они делись после ее замужества – не знаю. Моя мать обладала большими
лингвистическими способностями, владела английским, французским, немецким,
шведским и итальянским языками. За короткий период девятилетней брачной жизни она
родила шесть детей, из них двое умерли при появлении на свет. После пяти лет
замужества у нее появились первые признаки легочного заболевания. Отец отправил ее в
Ялту, где она провела около шести месяцев с моим старшим братом Жоржем.
Сохранилось несколько ее писем к отцу, полных нежной любви к нему и детям. «Мой
дорогой любимый Алексейчик», – всегда ласково начинала она свои письма. В одном из
них она просит приласкать своего второго сына Вениамина: «Он не умеет ласкаться, но
душа у него хорошая». В другом поручает ему купить мне шляпку, не доверяя его
компетентности, добавляет: «Посоветуйся с кем нибудь». «Следи, чтобы Августа
(прислуга) не обижала детей».

Мать, Тереза Ливи
Мне в то врамя было около двух лет, брату Вене около трех. Очевидно, ей стало лучше, она вернулась в хорошем состоянии. Но опять новая беременность, рождение моего
младшего брата Виктора оказались ей не под силу. Ей не было еще 29 лет, когда она
умерла. Я совершенно не помню ее, но сохранились в памяти два момента, связанные с
ней. Она одевает меня, подводит к комоду, вынимает из ящика красный шелковый кушак и
повязывает поверх платья. А я смотрю в ящик и мне кажется, что он весь наполнен
кушаками и лентами. Второй момент: я вхожу в столовую и вижу – моя мама лежит на








