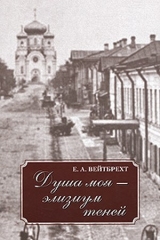
Текст книги " Душа моя - элизиум теней"
Автор книги: Евгения Вейтбрехт
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
случилось с людьми, жившими в ней до нас. Наниматель был вдовец, имевший трех
взрослых дочерей. Судя по поступкам, его место было в сумасшедшем доме.
Рассказывают, что он хотел покончить с собой, но, боясь оставить дочерей
беспомощными, решил умереть вместе с ними. Вечером, дождавшись, пока они заснули, он затопил печку и не открыл трубу. На другой день взломали дверь и нашли мертвыми
отца и двух дочерей.

На даче в Луге 1907г. Сидят: Екатерина Бурцева, Мария Исидоровна Ливеровская с сыном
Лешой, бабушка Варвара, Екатерина Ивановна и Исидор Петрович Борейши, Бурцева,
Стоят: Всеволод Исидорович Борейша, Мария Эдмондовна Седельницкая, Евгения
Алексеевна и Николай Арнольдович Вейтбрехты, В.И. и А.Е. Погодины.
Третья, со слабыми признаками жизни, была отправлена в больницу, ее удалось спасти.
Известие о смерти отца и двух сестер она пережила в больнице. «Неосторожность отца, несчастный случай», – сказали ей. Интересно окончание этого инцидента. Когда девушка
поправилась и выписалась из больницы, она взяла извозчика и поехала в свою квартиру.
Подъезжая к дому, извозчик, не зная, кого везет, рассказал ей трагедию, про которую
говорил весь город. Как она была потрясена поступком отца!
Когда мы узнали о трагической гибели наших предшественников, мрачная квартира
показалась нам просто ненавистной. Так плохо складывалась и наша жизнь в эту зиму
19061907 гг. Пропажа денег, тяжелая беременность, двухмесячная невыясненная болезнь
Олечки – все сгруппировалось в виде кошмара. В апреле, в первые дни пасхи родилась
Нина, и через две недели мы, бросив злополучную квартиру, уехали на дачу в Лугу. В это
лето там съехались родные, дорогие моему сердцу люди: тетя и дядя Борейша,
Ливеровские, Бурцевы, Погодины, двоюрдный брат Всеволод Исидорович со своей
будущей женой Марией Эдмондовной Седельницкой . Она – ученица Консерватории,
обладательница прекрасного голоса и обаятельной внешности, он – будущий адвокат,
человек необычайной музыкальности, составляли прекрасную пару. К рождению Нины
приехала к нам и моя мачеха. Какой теплотой и радостью обвеяно для меня это лето.
С осени Николай Арнольдович нанял квартиру на Сергиевской, 15, все перевез и устроил
к нашему приезду из Луги. Квартира была светлая, приятная, но два года, в ней прожитые, были очень тяжелые. Я, как всегда после родов, чувствовала себя плохо, кормление
истощило меня. Плохое самочувствие усугублялось бессонницей. Приходилось много
работать, так как наша няня при своей сказочной трудоспособности не могла обслужить
такую большую семью. На следующую зиму нам готовился новый удар. Здоровье мое все
ухудшалось, пришлось пригласить врача. Он нашел у меня туберкулез, а, когда узнал, что
моя мать умерла в 29 лет от этой болезни, то, выстукивая меня вторично, все время
неодобрительно покачивал головой. После его визита у нас началась паника. Плакал у
меня на груди Николай Арнольдович, плакала в кухне няня. «Ей надо побольше есть, а она
не хочет – что я буду с ней делать!», – говорила она. Мне приходилось их утешать.
«Лежать в постели и есть каши с много, много масла, затем санаторий на два месяца», –
таково было предписание плохо говорившего по-русски Бунге, чудесного врача и человека.
Няня со свойственной ей преданностью добросовестно кормила меня разными кашами с
маслом через каждые два часа. Пятилетняя Олечка, с детства отличавшаяся сердечностью, понимала уже, что мамочке плохо, и помогала, как могла, возясь с двухлетней шалуньей
Ниной. В том же доме против нас жила моя тетя Анна Петровна, у которой несколько лет
спустя был запоздалый роман с Коковцевым. Совершенно свободная от всяких забот, она
полюбила мою старшую дочь и ежедневно на несколько часов брала ее к себе, Наташе
надо было спуститься с нашего второго этажа, перейти маленький двор и подняться во
второй этаж. Весь путь она проделывала самостоятельно. Но в случае, если хоть издалека
приметит кошку, возвращалась, и няня должна была проводить ее. Анна Петровна учила
Наташу читать, писать и вышивать. Педагогический прием был такой: она брала руку
Наташи и писала и вышивала сама, орудуя этой рукой. Читала она тоже сама, а девочка
повторяла. Результаты получились довольно слабые. Но как она нам помогала, беря
Наташу к себе и занимаясь с ней, и как я была ей благодарна. А через четыре года во время
романа с Коковцевым она предложила нам устроить Наташу бесплатно в Екатерининский
институт . Я была против закрытых учебных заведений, но жилось нам тогда так туго, что пришлось согласиться. Как-то раз Наташа была у Анны Петровны, няня убирала и
проветривала спальню. Я лежала в детской, младшие дети играли около меня. Олечка
старалась утихомирить Нину, внушая ей, что мамочка больна, шалить нельзя. Нина, как
нарочно, шумела, шалила все больше. Олечка, выбившись из сил, попугала ее: «если ты не
перестанешь шалить, я приведу со двора дворника». И это не произвело должного
впечатления. Тогда Олечка исчезла на несколько минут. И каково было мое изумление, когда я увидела около кровати нашего, правда, очень симпатичного дворника – Кузьму.
Олечка в шубе и шапке стояла рядом с ним, держась за его руку. В другой руке у него была
метла, которой он грозил Нине. Испуганная девочка влезла на постель и спряталась за
моей спиной. До того потешная была эта сцена, что я потом долго без смеха не могла ее
вспомнить. Кузьма быстро исчез, спеша к своим делам. Олечка, располагая таким
педагогическим воздействием, сразу приобрела авторитет у младшей сестры. Нина очень
любила ее и называла «самая лучшая».
36
Из санатория в Детском Селе я сбежала через неделю, стосковавшись по семье и дому. От
усиленного питания я пополнела и стала поправляться. Пришлось нам взять в помощь
няне вторую прислугу, тоже польку – Ядвигу. Она пробыла у нас десять лет, мы все очень
любили эту милую девушку, и только революция заставила нас расстаться с ней.
Впечатление о моей жизни в эти годы будет неполное, если не упомянуть о
Борисе Ивановиче Карагодине – друге нашей семьи. Вскоре после замужества Николай
Арнольдович познакомил меня со своим близким товарищем Карагодиным и упомянул,
между прочим, что он считается женихом очень милой девушки, родственницы
полковника Брянцева. На Бориса Ивановича я обратила мало внимания, он не танцевал, был очень неразговорчив. При хорошем росте и фигуре, лицо его с довольно правильными
чертами лица, отличалось каким-то нездоровым землистым цветом. А вот родственницу
Брянцевах я находила очень привлекательной. Белорозовая, пухленькая, стройная
блондинка с толстой русой косой до колен. У меня в альбоме долго хранилась ее карточка.
Николай Арнольдович говорил мне, что Брянцевы очень сочувственно относятся к
предполагаемому браку, но Борис Иванович почему-то медлит с предложением.
В первый год моего замужества Борис Иванович редко бывал у нас, и другом нашего дома, вернее моим другом, он сделался после рождения моей старшей дочери Наташи. При
ближайшем знакомстве Карагодин оказался человеком начитанным и неглупым, беседы с
ним доставляли мне удовольствие. Мы обменивались книгами, я знакомила его с
произведениями моих любимых авторов Чернышевского, Писарева, Доролюбова и др.
Карагодин выписывал из Петербурга новые произведения современных, я с жадностью их
глотала. О какой-либо библиотеке в Олите тогда не могло быть и речи. У нас появились
общие интересы. Николай Арнольдович часто отсутствовал по вечерам, у него был период
увлечения бильярдом. Я обшивала свою дочку. Борис Иванович вертел мне колесо
машинки или читал вслух, когда я шила на руках. Он часто мне говорил, что нашел во мне
свой идеал женщины. О предполагаемой женитьбе я никогда его не спрашивала. Милая
Верочка с длинной косой скоро покинула Олиту. Разразилась японская война, и 43я
бригада была отправлена на Дальний Восток. По окончании войны, года через два после
того, как мы с Николаем Арнольдовичем окончательно основались в Петербурге, на нашем
горизонте опять появился благополучно отвоевавший Карагодин. Жили в тот год, 1907, мы
материально очень тяжело. Я была целиком привязана к дому. У Николая Арнольдовича
были вечерние занятия на службе, и я много времени проводила в одиночестве. Карагодин
устроился у нас обедать, и мы с ним часто уютно по-олитски коротали вечера. Я не
задумывалась над восторженным отношением ко мне, и все, что он говорил по моему
поводу, принимала как привычное и должное. Я была до краев полна заботами и любовью
к детям и мужу. Карагодин как-то дополнял то, чего мне не хватало в Николае
Арнольдовиче, но ни малейшим образом не занял его места в моей жизни.
Но вот пробил час, когда выяснилась невозможность продолжать наши отношения. С
Борисом Ивановичем в том виде, как мне хотелось. Все оборвалось сразу и навсегда. В тот
незабываемый вечер Карагодин читал мне вслух нашумевший в то время роман Куприна
«Поединок». В квартире царила тишина, дети и няня спали. Николай Арнольдович никогда
не возвращался с вечерней работы раньше 11 часов. Я шила и с наслаждением слушала
хорошую передачу Борисом Ивановичем этого чудесного произведения. И вдруг я
почувствовала, что голос Бориса Ивановича как-то странно прерывается, он стал тяжело
дышать. Отбросив книгу, он вскочил в рост и быстро зашагал по комнате. Его волнение
передалось мне, наружно я окаменела, но машинально продолжала шить, т.е. втыкала
иголку куда попало. Вся эта сцена закончилась очень быстро. Карагодин остановился
передо мной и очень бледный, с горящими глазами проговорил, задыхаясь: «Я дышу так
всегда, когда волнуюсь, а волнуюсь я потому, что хочу сказать вам: я вас люблю и знаю, что безнадежно». Через минуту входная дверь захлопнулась за Борисом Ивановичем, и я
никогда в жизни больше его не видела.
У Карагодина была сестра, значительно его старше. Он рано лишился родителей, и эта
сестра воспитала его. Она приезжала к нему в Петербург, и он познакомил нас с ней.
Директор женской гимназии где-то на юге, она была на редкость для того времени
культурная, образованная женщина. К брату она относилась с чисто материнской
нежностью.
На другой день после описанного вечера Карагодин пришел на службу к Николаю
Арнольдовичу чтобы проститься с ним и передать мне привет. По его словам, он получил
телеграмму от сестры, серьезно заболевшей, и вечером того же дня уезжает к ней. В
Петербург Борис Иванович больше не вернулся, он перевелся на работу в город, где жила
его сестра.
Через год Николай Арнольдович как-то случайно узнал, что наш друг умер. Как и при
каких обстоятельствах – нам выяснить не удалось. В этот период я чувствовала себя
настолько физически плохо (у меня началось легочное заболевание), что как-то мало
реагировала на весь этот инцидент. Николай Арнольдович узнал о нем много позднее.
Несколько раз в жизни я перечитывала «Поединок» и всегда с некоторым содроганием
вспоминала при этом нашу маленькую гостиную, нас с Борисом Ивановичем около стола с
керосиновой лампой и всю бурную сцену, которая разразилась так для меня неожиданно.
В 1910 году Николай Арнольдович получил очень хорошую казенную квартиру в пять
комнат на углу Сергиевской ул. и Воскресенского проспекта, совсем близко от
Таврического сада. В квартире было оборудовано электрическое освещение, была и
ванная, квартира отапливалась казенными дровами. Все это, вместе с прибавкой
жалования и определением Наташи в институт, дало нам возможность вздохнуть свободно
и обеспечить образование детей.
37
Каждую весну с 1910 по 1914 год включительно, как только дети заканчивали учебу, я
отправлялась с ними и с няней в Журавку. Мы жили там в прекрасных экономических
условиях. Покупать приходилось только сахар и пшеничную муку. Все остальное, по
условиям контракта, давал нам арендатор. Дорога в Журавку с тремя детьми даже во
втором классе (на чем всегда настаивал Николай Арнольдович) была необычайно тяжела.
Только на третьи сутки добирались мы до места назначения. В Динабурге (теперь Двинск) приходилось ночью проделывать две пересадки. Няня Франя, всегда такая деятельная, не
переносила езды по железной дороге и очень быстро заболевала мигренью и делалась не
помощью, а обузой. Но зато как полноценна была жизнь детей в Журавке! Они принимали
участие во всех полевых работах вокруг дома, ездили верхом и в телегах. Играя с
крестьянскими детьми, наши дочушки значительно пополняли свой лексикон словами
белорусскими и просто ругательными. Но по возвращении в город все эти изречения,
оставаясь без употребления, быстро забывались. В саду у них был крокет и гигантские
шаги. Два сада обеспечивали нас всевозможными фруктами. Последнее обстоятельство
имело обратную сторону: как мы с няней ни смотрели за детьми, они всегда умудрялись
поесть зеленых яблок и расстраивали себе желудки. Уезжая из города, я всегда запасалась
средствами от желудочных заболеваний и лечила детей сама. Ближайший врач жил за
двадцать верст. Брат-врач бывал в Журавке редко и ненадолго. В августе на месячный
отпуск приезжал в нам Николай Арнольдович и брал на себя всю тяжесть обратного пути.
Тотчас по приезде он принимался за работу – приводил в порядок наш громадный
запущенный сад. Вокруг дома Николай Арнольдович сделал цветник, сам соорудил и
изгородь вокруг. Он вообще не знал отдыха и считал, что отдыхает, переключаясь на
физическую домашнюю работу. Он все умел, у него были золотые руки. Наезжали в
Журавку братья, мачеха. Они всегда радовались, попадая в налаженную семейную жизнь, а не в заколоченный дом, как бывало раньше.
В последние наши приезды в Журавку (19131914 гг.) я, очень чуткая к настроениям
окружающих, замечала, как меняется к нам отношение крестьянской молодежи. По-
прежнему дружелюбными оставались старики – лесник Гришка, супруги Алена и Исаак,
жившие круглый год в нашем доме и обслуживавшие нас летом. Но, очевидно, в молодое
поколение забитого белорусского крестьянства проникли новые революционные веяния.
Молодежь встречала нас враждебными взглядами. Раз как-то я с детьми проходила мимо
группы подростков. Они пустили нам вдогонку: «буржуи-дармоеды!». В это время я была
настолько политически грамотна, что понимала и умела относить эти эпитеты не к нам
лично, а по адресу класса, к которому мы принадлежали. Вместе со всеми моими родными
я с нетерпением ждала свержения царизма и революции, которая уже чувствовалась в
воздухе. Близость Распутина к царской семье заканчивала крушение монархии в России. В
нашем уезде было неспокойно. До нас доходили слухи о грабежах, поджогах. В трех
верстах от Журавки был зарезан священник и его два сына; третий сын, к счастью, был в
отлучке. На место убийства был вызван мой брат-врач. Оставшийся в живых сын
священника – студент – несколько раз приезжал к нам. От случившегося с ним несчастья
он был какой-то испуганный, потерянный. Раз как-то он был у нас. Мы сидели за ужином
в столовой, три незавешенных окна которой выходили в сад. Он сидел спиной к ним. Мы
старались отвлечь его от тяжелых мыслей, говорили на разные спокойные темы. Вдруг, как
будто почувствовав какое-то беспокойство, он повернулся к окнам и с дрожью в голосе
спросил: «Откуда вы ждете нападения? Мне сказали, что шайка грабителей находится в
вашем лесу». Мы никакого нападения не ждали, но поневоле все наши взоры устремились
к окнам. Оттуда смотрела на нас темная августовская ночь. Ни зги не видно. Все
замолчали. Несколько мгновений был слышен только какой-то зловещий, казалось, шум
сильных порывов ветра, завывающего и стонущего среди ветвей вековых лип. Я не
признавалась, но мне было очень жутко. Ночью я не могла заснуть. Известие о том, что
грабители находятся в нескольких шагах от нашего дома, встревожило меня. Кончался
отпуск Николая Арнольдовича, он должен был на днях уехать. Дети, как нарочно,
подхватили где-то коклюш в очень тяжелой форме. Я собиралась остаться с ними еще на
две недели, чтобы подольше продержать их на свежем воздухе. Мои думы были прерваны
страшным стуком в балконную дверь. Казалось, она ломится под ударами. Пока
Николай Арнольдович проснулся и одевался, я накинула халат и побежала к дверям. Там я
столкнулась с Ядвигой, которая успела зажечь свечку. Всмотревшись, мы увидели моего
младшего брата Виктора. Он всегда приезжал неожиданно и на очень короткое время.
Наша деревенская жизнь его не устраивала. Я давно не видела брата и очень ему
обрадовалась, но все-таки утром сказала мужу: «Мы едем вместе, без тебя я не останусь».
Мы уехали, и, как это ни странно, по дороге уже кашель детей сделался легче. А когда мы
приехали в Петербург, коклюша – как ни бывало.
В 1914 году известие о первой мировой волне застало нас в деревне. Мы спешно выехали
в Петербург, простившись с Журавкой навсегда.
Период жизни между 1901 и 1914 годами я выделяю особо, именуя его «Материнством».
Хочется сказать несколько слов о материнстве вообще, прежде чем перейти к
характеристике моего материнства в частности.
Я считаю, что это чувство чисто биологического порядка, поэтому святость и культ
человеческого материнства сильно преувеличены. Иначе почему мы с наслаждением едим
жаркое из курицы, которая по праву может считаться одной из лучших матерей?
38
В Пастеровском институте в Париже проделывался такой опыт: брали мышь, которая
еще не имела детенышей, и сажали ее рядом с маленькими мышатами. Она не проявляла к
ним никакого интереса. Без постороннего вмешательства она дала бы им умереть с голоду.
Но ей впрыскивали оварин, и через два дня она делалась изумительной матерью.
Английский писатель Benson в романе «Dodo» пишет: «На днях я прочел, что насекомое
уховертка (earwig) является прекрасной матерью. Как это может повлиять на суждение о
красоте материнского инстинкта! Но это достоинство ничуть не влияет на мою оценку
уховертки, и я буду продолжать истреблять каждую прекрасную мать, которая окажется в
моей комнате!».
Думается, не потому ли так высоко поднято знамя материнства человеческого, что до сих
пор, по крайней мере, говоря о классе, к которому я принадлежала, оно было не только
природной функцией женщины, но и единственным ее занятием на всю жизнь? Мне
иногда казалось, что каждая женщина должна стремиться быть, прежде всего, хорошим
человеком, и в этот круг, несомненно, войдет и добросовестное отношение к обязанностям
материнства. Конечно, надо исключить из этих обязанностей сентиментальность и
баловство, часто калечащие наших детей, создавая из них нравственных уродов. В жизни
они нередко бывают в тягость себе и другим.
А так называемые хорошие матери часто бывают плохими людьми. Стоит только
вспомнить содержательницу притона в «Яме» Куприна .Она была превосходная мать, –
рассказывает автор, – давая прекрасное образование своей дочери и воспитывая ее чистой
и невинной. И если бы, – говорит Куприн, – этой матери предстоял выбор – заусеницы у
дочери или дурной болезни у гостя, она, несомненно, выбрала бы последнее. Возможно, автор преувеличил, но во всяком случае дело только в степени. Принесение в жертву
интересов других людей ради выгод своего потомства является характерным для многих и
многих так называемых «хороших матерей».
Материнство, любовь к детям – это биологическая пуповина, которая сохраняется со
стороны матери на всю жизнь. Но каждая мать должна твердо помнить, что материнское
чувство не имеет в природе обратного действия. Поэтому, чтобы иметь поменьше
разочарования, она не должна ждать, что дети, когда вырастут, будут любить ее так, как
она их любит. Надо добросовестно дать детям все, что можешь, и ничего не ждать от них.
Поэтому я считаю разумным уже заранее принять все меры, чтобы обеспечить старость
каким-либо заработком и возможно меньше зависеть от детей.
По моим долголетним наблюдениям, нет хороших и плохих родителей, а есть только
хорошие и плохие дети. Так часто видишь мать, не давшую детям ничего, кроме самого
необходимого, окруженную в старости их любовью и почетом. А матери, отдавшие детям
себя без остатка, очень часто не видят от них ни благодарности, ни помощи. Устами
короля Лира Шекспир говорит, что неблагодарность детей больнее укуса змеи (How sharper than a serpent’s tooth it is to have a thankless child) .
Жорж Занд посвящала каждый день несколько часов воспитанию и образованию горячо
любимых своих детей. А время ее было драгоценно не только для нее, но и для всего
человечества. Дети, сын и дочь, ответили ей черной неблагодарностью. Она писала в
своих мемуарах: «Я привыкла уже любить детей, несмотря ни на что, без надежды и без
попытки изменить их. Приходится делать себе клеенчатый характер, по которому внешний
мир может течь, сколько ему угодно».
В обязанности материнства я включилась со свойственной мне цельностью, подчинив
другие жизненные интересы девизу: «Все для детей». Этот девиз был основой задач и их
решения того периода. Правда, из круга материнских обязанностей я старалась как можно
меньше брать на себя возню с ребятами до двух лет. Я обожала их в этом возрасте, любила
придти в детскую полюбоваться, поласкать их, но ношение на руках, улюлюкание меня
утомляло. Это были функции Франи. Она была няней, удивительно приспособленной
именно для такого возраста по своей примитивной психологии и преданной любви к
детям. Они ее не утомляли. Ее как-то особенно устроеный живот служил танцевальной
площадкой для детей, как только они становились на ножки. Под аккомпанимент ее пения
все три мои дочери вытанцовывали свои первые па на нянином животе. К сожалению,
наша няня совершенно не поддавалась культурному влиянию ни окружающих ее людей,
ни жизни столичного центра. Прожив в нашей семье 47 лет, она осталась почти той же
темной деревенской женщиной, какой вошла в нашу семью. Совершенно не расширился
ее кругозор, она с трудом читала по складам, хотя посещала школу малограмотных. На
третьем году дети начинали перегонять ее по развитию. Вреден был для них и ее польско-
русский исковерканный язык. Мое постоянное пребывание дома, общение с детьми
исправляли и дополняли няняны недочеты. Неизменными и драгоценными на всю жизнь
оставались хорошие качества няни: самоотверженная преданность, честность и
исполнительность. Бессонница, постоянная спутница жизни, заставила меня передать
Фране ночную заботу о детях. Нужно сказать, что вся ее работа около детей всегда
проходила под моим неустанным руководством и наблюдением. Во время болезни детей я
обычно несколько раз в ночь ходила в детскую проведывать больного ребенка. Благодаря
хорошей наследственности и моей постоянной заботе об их здоровье, дети болели очень
редко. Все эти годы мы жили между двумя садами – Летним и Таврическим. У меня был
установлен такой порядок, что дети гуляли утром с няней три часа, а Ядвига готовила
завтрак, и два-три часа с Ядвигой после завтрака, а няня готовила обед. В детской всегда
висели кольца, трапеции и другие гимнастические приспособления. Лет с шести дети
катались на коньках. Такой режим вместе с хорошим питанием дал прекрасные результаты
в смысле здоровья детей. При малейшем заболевании приглашался наш постоянный
детский врач Гартье . Профилактический осмотр зубов у врача Казарновского совершался
неизменно осенью и весной. Пышащие здоровьем девочки, одетые в одинаковые платья
(из моей мастерской), вызывали общее внимание. Когда я везла их в Журавку, люди из
других вагонов приходили полюбоваться на трех девочек-красавиц, как их величали.
39
Содержание второй прислуги, оплата уроков музыки и двух иностранных языков при
относительно небольшом жалованьи Николая Арнольдовича заставили меня сократить
расходы на мои туалеты до минимума. За этот период я не сделала себе ни одного платья, а покупала только тогда очень доступные готовые юбки и блузки. В качестве зимней
верхней одежды мне свыше десяти лет служило полупальто из каракулевых лапок.
Чем же я заполняла свой день? Я выписывала из Берлина журнал детских мод с
выкройками (Kindergarderobe) и обшивала детей. Шила им белье, платья и даже верхние
вещи. Мне нравилось это занятие, и я отдала ему такую же временную дань увлечения, как
и кулинарному искусству. Также с большой охотой готовила я своих девочек в гимназию.
В то время для поступления в приготовительный класс гимназии требовалось беглое
чтение и диктовка без пропусков букв и слогов. Такая подготовка требовала два года
домашней работы. Я старалась развивать их, беседуя с ними и читая им книги по
мирозданию из Библиотеки Лункевича , приспособленные для детского понимания, читала
им вслух детские русские книги и французские, когда они освоились с этим языком. Мой
трудовой день был заполнен. Он оканчивался неизменно детскими поцелуями и
объятиями. Каждый вечер из детской раздавался призыв: «Мамочка, поцелова-а-ть!». Это
значило, что дети лежат в кроватках и зовут меня проститься с ними за ночь. Как по-
разному развивались дети. С Наташей в детские годы порой бывало трудно – да оно
понятно, она долго росла одна, была избалована, привыкла быть центром внимания. Но
эти детские шероховатости быстро ликвидировались. Олечка по характеру была
ангелоподобным ребенком. Она только и заботилась, как бы поменьше доставить забот
своей маленькой персоной. Она со всеми была сердечна и ласкова. Но меня она окружала
особенно трогательным обожанием и недетской заботой. Очень ласковой росла и Нина, сама в 4 года научилась читать. С первых произнесенных слов была умна и остроумна. Ей
было не больше 4 лет, когда мой старший брат пожаловался мне: «Ну и дочка у тебя – она
сегодня меня спросила: дядя Жорж, а зачем жить?». Он любил детей и отдыхал в их
обществе. Философский вопрос племянницы ему пришелся не по вкусу. С первой минуты
сознательной детской жизни Нина относилась очень заботливо к тому, как она одета и
причесана. Явившись на свет нежеланной и не вовремя, она быстро завоевала симпатии
всей семьи. С самого раннего детства она отличалась самобытностью, какой-то особенной, ей свойственной стильностью и ярко выраженной властностью. Все это окрашивалось
большим обаянием, подчинявшим ей людей.
Я вспоминаю мысли о воспитании детей, которыми я руководствовалась в период
материнства. Воспитание может идти по двум линиям поведения ребенка – внешнего и
внутреннего. И вот все свое внимание я отдала воспитанию внутреннего мира моих детей.
Я старалась воздействовать на мотивы поступков, на причину, а не на следствие. Мне
казалось, что главное – надо было указать, не как надо поступать, а почему надо поступать
так, а не иначе. Чехов говорит (как будто в «Дяде Ване»), что культура человека
заключается не в том, чтобы никогда не пролить чай на скатерть, а в том, чтобы не сделать
замечания, не заметить, если другой это сделает. Вот такую душевную деликатность по
отношению ко всякому маленькому или большому человеческому существу считала я
необходимой канвой для поведения культурного человека. Меньше я обращала внимания
на воспитание в детях внешних форм поведения. В 1916 году у детей была француженка
мль Мари. Это была типичная мещанка. Самое большое ее желание, как она мне говорила, было иметь котиковое пальто (manteau en loutre). Как-то она в моем присутствии сделала
замечание детям, что они плохо сидят за столом. Боясь ее мещанского влияния, я очень
деликатно дала ей понять, что ее задача – научить детей говорить по-французски, а все
остальное я беру на себя. На том же основании гнала я от себя мысль о немке-бонне.
Теперь я иногда думаю, что я была неправа, но, во-первых, какой толк в этих запоздалых
размышлениях, а, во-вторых, с тех пор прошло сорок лет, совершенно изменивших жизнь.
Главная моя ошибка, за которую я дорого заплатила в жизни, заключается в том, что я не
учла влияния няни на души моих детей. Няня, очень властная по характеру, пробовала
влиять на меня. Но это ей никогда не удавалось. Для меня все рекомендации ее
маленького, набитого мещанскими предрассудками умишка, да и все ее миросозерцание
было чуждо и нелепо. Слушая ее, я то смеялась в душе, то ее настойчивость меня
раздражала, и я от нее отмахивалась, как от назойливого комара. Ее заслуги перед моей
семьей были так велики, что я старалась видеть только их, закрывая глаза на ее, тогда еще
мелкие, интриги. Но вот настал момент, когда она встала между мной и детьми. Няня, сознательно отправившая своих двух детей на тот свет, как «незаконнорожденных»,
осмелилась критиковать меня как мать. Несмотря на все свои достоинства, как мало была
она похожа на пушкинскую Арину Родионовну. Как важно иметь хоть маленького
«царька» в голове!
Театры в то время были совершенно недоступны для людей среднего достатка. У нас
образовался небольшой кружок родных – Ливеровские, Бурцевы и мой двоюрдный брат
Всеволод Исидорович Борейша . Мы изредка собирались – мужья играли в винт, а мы, жены, делились впечателнеиями нашей небогатой внешними событиями жизни. Большая
душевная близость делала эти встречи желанными и интересными. Я помню, каким
радостным событием был театральный сюрприз, устроенный нам
Екатериной Исидоровной. В день именин своего мужа Николая Исидоровича, она взяла
ложу на «Вишневый сад» в исполнении Художественного театра и пригласила весь наш
родственный кружок. Я впервые наслаждалась превосходной игрой актеров этого театра.
40
Когда дети бывали больны, между мной и жизнью становилась стена. На больном ребенке
я концентрировала все свое внимание. Сразу отпадали все другие интересы. Как-то раз, во
время несерьезной болезни Нины, я сделала исключение и позволила себя уговорить
поехать на 25летие свадьбы наших знакомых. Уже выйдя из поезда я стала беспокоиться и
жалела, что поехала. Не досидев до конца обеда, мы уехали по моему настоянию, а по
дороге домой мое беспокойство стало расти с каждой минутой. Подъезжая к дому, я
держала извозчика за кушак и твердила одно слово: «скорее, скорее!». Мне казалось, что
случилось что-то ужасное. А дома была покойная тишина, Нина спала, температура упала.
Помня мое безрадостное детство, я всегда старалась отмечать дни рождения и именины
дочерей. В сочельник всегда зажигалась богато разукрашенная, большая елка. По
великолепию и количеству аттракционов дети особенно любили елку в Морском корпусе, куда мы попадали по приглашению тамошнего главврача А.В. Ливеровского.
Осенью 1911 года я отвезла Наташу в Екатерининский институт. Дело не обошлось без
слез. Няня, которая все рассматривала со своего маленького кондачка, была против всего
нового и еще больше расстраивала девочку. С тяжелым сердцем пошла я на другой день ее
навещать, накупив в утешение полные руки всяких сластей. «Если будет очень тосковать, возьму домой, как-нибудь проживем», – решили мы с Николаем Арнольдовичем. К моему








