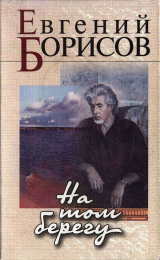
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
Прибежала мама, растерянная, с измученным, серым от бессонницы лицом, сообщила, что прибыла военная школа и что на сборы им дали два дня.
– А пока будем жить под одной крышей, – сказала она, – почти на военном положении.
Мельком оглядела комнату, увидела стопки перевязанных книг на полу, распахнутые настежь дверки шкафа, раскрытые, так и не собранные чемоданы, платья, в беспорядке разбросанные и развешанные по стульям, – покачала головой. Сказала грустно:
– Оставь всё это. Нам бы ребят довезти, а остальное… – в отчаянии махнула рукой, опять напомнила: – Папины письма, пожалуйста…
В полдень, дописав наконец письмо, Надя побежала в посёлок на почту. А там уже вовсю обсуждали новость: детский дом эвакуируется. О причине эвакуации говорили разное, но охотнее сходились на том, во что и сами, пожалуй, не очень-то верили: мол, главная причина – военная школа, которую нужно было разместить. Но почему в Лугинино, почему в детском доме? Другого места не нашли!..
А новосёлы молодецким строем в это время шагали по улицам посёлка, поднимая пыль над палисадниками. Шли с песней, которую никто в посёлке ещё не слышал:
Школа красных командиров
Комсостав стране своей куёт.
Смело в бой идти готовы
За советский наш народ.
От бодрой этой песни, от неокрепшего, но задорного голоса курсанта-запевалы, от решительных этих слов будто ожил, приободрился приутихший было посёлок. Да и ребята эти голосистые, в ладно пригнанных гимнастёрочках, в начищенных до зеркального блеска сапогах, в пилотках, лихо сдвинутых набекрень – весь вид их успокаивал, возвращал уверенность, и думалось, что с такими-то молодцами, которых по всей России-матушке столько ещё наберётся, с такими орлами ни Гитлер, ни сам чёрт не страшен…
5
Вот и всё. Завтра уезжать. До свиданья, дом! Парк и озеро, до свиданья! И Лида, подружка школьная… О чём-то они не договорили вчера, не успели. Десять лет за одной партой сидели, кажется, было время наговориться, но вот поди ж ты…
Завтра утром их довезут на машинах до разъезда, а там на поезд и – неизвестно куда… Сегодня она обрадовалась, даже руками всплеснула: мама сказала, что ехать придётся через областной центр. Подумала с надеждой: как складно всё устраивается! Вот приедут они в город, а там скажут, что занятия в институте не отменяются: мол, война войной, а учёба учёбой, учителя, мол, и в военное время нужны…
Уже в постели, мысленно прощаясь со своим домом, Надя подумала о том, какие счастливые, светлые дни прошли у неё здесь, и вот теперь всё это – в прошлом! Были радости, и чаянные, и нечаянные, и хлопоты были, и удар, да ещё какой – это когда отец пропал без вести… Память её кружила замысловато, водила в тот вечер по ближним и дальним дорожкам, между вчерашним и завтрашним днём, и ей казалось, что именно в нём, во вчерашнем дне, она и оставила что-то такое, очень важное, с чем так не хочется расставаться.
Так что же всё-таки было вчера? Сначала эта встреча – с Лидой, бывшей одноклассницей. Утром Надя забежала на почту – Лида там телеграфисткой работала, – опустила письмо, заглянула к подруге – проститься с ней хотела, а та будто ждала: подхватилась из-за стола, сняла наушники, выбежала из-за перегородки, защебетала:
– Ой, Надь, расскажи! Ты же видела их. Как они?
– Кто? – Надя уставилась на неё.
– Ну, кто, кто! – Лида в досаде всплеснула руками. – Курсанты, вот кто. Ты же рядом там. Как они?
Надя пожала плечами, призналась, что не разглядела: некогда, мол, было, столько дел перед отъездом – до курсантов ли.
Лида даже расстроилась, глядела на Надю в недоумении, будто спрашивала: уж не больна ли ты, мол, подруга?.. Потом сообщила почему-то шёпотом, как военную тайну:
– Сегодня в клубе «Сердца четырёх» показывают. Это – во-первых. А во-вторых, – она даже по сторонам оглянулась: не подслушивает ли кто? – они тоже в кино придут. Разведка доложила точно. Слушай, – схватила Надю за руку, – приходи, а? Таких парней себе отхватим!..
6
…То ли приснилось, то ли почудилось ей – будто кто-то тихо, на цыпочках, ходит рядом. Такие домашние, утренние шаги, может, в кухне, а может, в коридоре, и ещё какие-то негромкие звуки, от которых обычно и пробуждалась она в мамином доме. Каким-то чудом они добрались к ней, проникли сквозь этот болезненно-тяжкий сон, будто придавивший её к постели.
Не в силах одолеть его, желая и одновременно боясь своего пробуждения, она мучительно и долго тянулась и тянулась к тем украдчивым звукам за стеной, всё прорывалась к ним, как к своему спасению, через кошмарные эти видения, мучившие её всю ночь.
Впрочем, ночь ли это была? Или всё, что происходило с ней, длилось не одну ночь? И что было теперь? Утро? А может, вечер? Да и было ли это всё? Может, кошмар этот и впрямь ей привиделся, а значит, и не было того страшного, на весь вагон крика «Воздух», когда и кричать-то было уже поздно, потому что раньше этого крика их вагон встряхнуло от оглушительного взрыва, но, может быть, и его тоже не было и не было той суматохи, криков со всех сторон, плача обезумевших от страха детей?.. И мамино лицо, неузнаваемое, чужое, с незнакомым ужасом в глазах… А потом – бесконечное поле – неровное, кочковатое – с выгоревшей то ли от огня, то ли от солнца жёсткой травой, с кустами засохших ромашек, хлеставших по ногам… Может, и это всё тоже пригрезилось ей?..
Как долго и трудно бежали они по этому полю, бежали и падали, поднимались, обессиленные, и снова бежали. И мама всё отставала и отставала, останавливалась, чтобы помочь мальчишкам и девчонкам, тем, у кого уже не хватало сил бежать, и белоголовая Люба была у неё на руках, она что-то кричала, махала кому-то руками, вырывалась из маминых рук, и маме было трудно бежать с ней. А Надя бежала впереди, и чья-то маленькая, очень цепкая, как у тонущего, ручонка хваталась за неё, а ноги её, непослушные, будто ватные, но только очень тяжёлые, словно увязали в земле, и она передвигала ими как во сне, когда изо всех сил стараешься бежать быстрее, но не можешь.
Мама задыхалась и отставала с каждым шагом, и Надя останавливалась, пыталась взять у неё Любу, но та отчаянно махала ручонками, отбивалась от неё почему-то, не хотела к ней идти. И всё-таки Надя силой взяла наконец её на руки.
– Туда, к лесу! – услышала она за спиной мамин крик. – Ждите меня там!
Не добежала – дотащилась до края леса и, опустив Любу на землю, сама как подкошенная повалилась рядом. С минуту, наверное, лежала на земле, пытаясь отдышаться, и смутно, скорее угадывала, чем видела и понимала то, что происходит вокруг.
А там, на другом краю поля, откуда и теперь ещё бежали люди, на высокой насыпи, полыхали вагоны. Надя глядела туда, на эту почему-то вовсе не страшную картину, словно это было не на самом деле, а на экране в кино… Кто-то тянул её снова за руку, кто-то плакал и прижимался к ней мокрым лицом, а она стояла в странном оцепенении и глядела на это поле, на горящие вагоны, возле которых чёрными тенями ещё метались люди…
И всё ей стало ясно: там, у вагонов, её мама!
И побежала туда.
Страшный рёв обрушился на неё сверху, сбил с ног, придавил к земле. Три чёрные тени промчались по земле, и одна из них, пластаясь по рыжей траве летучим крестом, коснулась её крылом; Надя лежала, словно распятая, на колючей земле, вжимаясь лицом в траву.
А потом, в медленно возвращающейся тишине, сквозь гул, откатывающийся, точно гром, к далёкому горизонту, она услышала чей-то голос, который звал её.
– Тётя Надя, вставай, – чья-то рука тронула её за плечо, и она с трудом оторвалась от земли, приподнялась и оглянулась. Чумазая, в пыльном платьице, со следами размазанных слёз на лице, Люба стояла перед ней и потирала рукой до крови разбитую коленку. – И тебе тоже больно?
Со стороны леса к ним спешили люди, кричали что-то, махали руками, звали их. Среди бегущих Надя узнала тётю Полю.
…Шаги в коридоре стали слышней, ближе и вот затихли совсем рядом.
– Надя, Надюша…
Голос знакомый, но не его ждала она. Открывает глаза: тётя Поля сидит у кровати, рука её тянется к подушке, касается Надиных волос, трогает лицо, утирает слёзы, которые холодят щёку, говорит какие-то утешительные слова. И кто-то ещё – Надя чувствует это – находится в комнате, стоит и поглядывает на неё из-за тёти Полиного плеча. Сквозь слёзы, как сквозь туманное стекло, вглядывается она в чьё-то лицо, различает светлые волосы, знакомые глаза… Люба.
А та уже уловила её взгляд, подходит к постели. Склоняет голову на подушку, будто хочет прилечь рядом.
– Тётя Надя, – она заглядывает ей в глаза, – ты совсем поправилась, да? Ты больше не будешь болеть?
И Надя догадывается, что лежит так не час и не два, наверное, очень долго, может, целые сутки… Выходит, и в самом деле что-то случилось с ней, если она не помнит, как и когда их привезли назад. А Люба продолжает нашептывать ей на ухо:
– Вот встанешь, и мы будем играть с тобой в дочки-матери. Как до войны. Только теперь не понарошке, а по правде. И я буду твоей мамой, а ты моей дочкой, потому что… Потому что теперь у тебя тоже мамы нет, и я буду тебе заместо мамы, и ты не плачь, ладно?
Надя хочет что-то сказать, хочет крикнуть: «Неправда, такого не может быть!» – но голоса нет, он словно истаивает в её слезах.
– Поплачь, поплачь, дочка, – тётя Поля гладит её по голове, – не только у нас с тобой горе-то, оно кругом теперь. А нам ещё не о себе, вот о них думать надо. Так что осиль себя, постарайся. А мамка твоя, даст бог…
Поднялась, поманила за собой Любу, но та заупрямилась, глупая.
И остались они вдвоём: дочки-матери.
7
Два дня дядя Фёдор, шофёр леспромхозовский, приводил в порядок машину, готовил её в дорогу. На ней решено было снова вывозить детдомовских: четырнадцать оставшихся в живых ребят, тётю Полю и Надю.
Пока ждали отъезда, Надя всё порывалась бежать куда-то… Будто убегала от того преследовавшего её кошмара, от тех горящих, в огне и чёрном дыму, вагонов, от воя и грохота над головой… Потом сидела в мамином кабинете, плакала и упрашивала командира школы разыскать по телефону тот военный госпиталь, в который, как ей казалось, должны были доставить её маму. Майор и в самом деле звонил куда-то, с кем-то подолгу разговаривал, но Надину маму он так и не мог найти, и Надя потерянно уходила домой, ложилась на диван и снова вздрагивала от каждого стука и плакала от жалостливых Любиных слов. И вдруг ловила себя на том, что она и от неё, от этой девчонки, ждёт чего-то. Будто та может научить её, как жить одной, без папы и мамы.
А вечером опять заглянула тётя Поля. Вошла и встала у порога. В руках бумажку какую-то держит. И опять Надя подумала о своём: вдруг от мамы весточка? Взглянула на тётю Полю, увидела глаза её заплаканные, подумала, что добрая женщина всё о её, Надином, горе печалится.
А та провела ладонью по лицу, словно морщины разглаживая.
– А карты-то, дочка, наврали всё, – сказала тихо-тихо. – Нет больше Михаила моего. – А Надя и теперь, слушая её, с трудом соединяла в страшную догадку эти так спокойно произнесённые тётей Полей слова и тот серенький листочек в её руке. – Вчера ещё получила, хотела не говорить, зачем, думаю, к чужому горю ещё своё прибавлять… Сходила Машку проведала, ей попечалилась, думала, полегчает, да вот никак. К тебе пришла, к кому ж мне ещё. Вот сложим твоё и моё горе вместе да и понесём. Может, обеим полегче будет.
Сказала и шагнула за порог, маленькая, сгорбившаяся под своей горькой ношей…
Уезжали рано. В школе военной ещё не сыграли подъём. Заспанные и тихие, испуганные перед новой дорогой, ребята забрались в кузов, сбились в уголок, нахохлившись сидели на лавках-накидушках, второй раз прощаясь со своим домом, с надеждой глядели на шофёра, дядю Фёдора, и тётя Поля, украдкой от них перекрестясь на дорожку, охая и причитая, залезла в кузов со своим узелком, всех оглядела по-хозяйски, даже по головам для верности пересчитала, села рядом с Надей, поближе к кабине, сказала, оглянувшись на притихший, будто и нежилой дом: «Ну, с богом!» И примолкла.
И дядя Фёдор, леспромхозовский шофёр, которого откомандировали с машиной до города, уже в который раз обойдя кругом свою полуторку, снова остановился у кабины. Сердито постучал сапогом по колесу, проворчал недовольно:
– Ну, где он там, ваш служивый?
Тут он и появился, этот курсантик. Долговязый, в больших, будто с батькиных ног, сапогах, в гимнастёрочке коротенькой, неуклюже сбежал с крыльца и, придерживая хомутом накинутую через плечо скатку, с оглядкой потрусил к машине, держа в одной руке вещевой мешок, а в другой – винтовку.
– Господи, – снова принимаясь креститься, запричитала тётя Поля, – кого же ты нам в защитники посылаешь? У нас и своих таких полон кузов.
Что-то невнятное изрёк и дядя Фёдор: далеко не бравый вид охранника ему тоже, видно, не внушал особого доверия. Курсант тем временем залез в кабину, машина заурчала, тронулась неуверенно, словно тоже пугалась дальней и неизвестной дороги, и поехала.
Последнее, что увидела Надя: настежь, как по команде, открытые окна на втором этаже, а в них – заспанные лица курсантов.
Ехали молча. Надя сидела на передней скамейке с Любой на коленях, а рядом, пригревая Надю плечом, тётя Поля с узелком. Села так, чтобы ребята были все на виду. Вот Саня новенький… Хотя какой он теперь новенький! Такое вместе пережить – сразу своим, «стареньким», станешь. Во время той бомбёжки Саня одним из первых выпрыгнул из горящего вагона и пустился бежать к лесу и уже почти добежал до него, но вдруг, будто вспомнив что-то, оглянулся и повернул назад, к вагонам, и был там до тех пор, пока тётя Поля не отыскала и не оттащила его, чумазого, как головешка, от страшного пожара. Что он делал там: глядел ли на пожар, помогал ли раненым выбраться из горящих вагонов? Никто, ни тётя Поля, ни Надя, так и не узнали об этом. Одно ясно: убежать он, конечно, мог, и, может, первым его желанием как раз и было это, но вот остался… Сейчас он сидел в машине притихший, исподлобья поглядывал на Надю, и она угадывала сочувствие в его не по-детски печальных глазах.
Впрочем, не только Саня, но и другие ребята – и Зоя, и Лена, и братья Гребенниковы, такие похожие друг на друга, оба скуластые, с прищуренными глазами, воинственно предупреждающими каждого: попробуй, мол, только тронь… И ещё двое, кажется, Вова и Вадик, и остальные, имён которых Надя не знает, – все поглядывают на неё: кто с откровенным сочувствием, кто с неумело скрываемым любопытством. А у Зои и Лены явное сострадание в глазах: сидят и жалеют её. Это они-то, круглые сироты! И даже Витя с Толей, два забияки, поглядывают на неё с дальней лавки так, будто обещают: мол, только скажи, кто обидел, мы ему тут же…
Надя смотрит на них и едва сдерживает подступающие к глазам, почему-то такие желанные слёзы. «Может, и правда так легче, – думает она, вспоминая вчерашние слова тёти Поли, – легче, когда и своё и чужое горе вместе несёшь. Ехать вот так, думать о них – на всю дорогу и дум и забот хватит! Глядишь, и своё горе поутихнет».
А тётя Поля – видно, и ей невмоготу ехать со своей бедой – склоняется к Наде, шепчет на ухо:
– Давеч, на почту ехать, запрягаю Машку-то, а та ни в какую. Не идёт в хомут, да и всё. Я и так и сяк, а она от хомута пятится, глаз пугливый, тревожный какой-то. Ничего не пойму. Уговорила, одолела, однако. Выехали мы с ней за ворота, а она, новое дело… всё боком да боком норовит, всё вертит да вертит башкой от дороги. Тут уж и я затревожилась, чую, что не к добру… На почту приехала, поднимаюсь на крыльцо, а у самой ноги, как у Машки моей, не идут, и всё. И вот – на тебе!.. Пришла, а меня уже этот конверт лежит-дожидается. Вот оно, думаю, сердце-то лошадиное, скорее моего беду почуяло. Потому небось и не шла со двора, упиралась всё. Не знала, глупая, что беду, уж коль она явится, никакой дорогой, даже самой дальней, не объедешь…
8
Вот и старый парк позади остался, а из-за тихого, туманом прикрытого озера, из-за дальнего леса, куда совсем недавно за грибами ребята бегали, солнышко показалось. Пробилось сквозь лёгкий туманец, засветило, пригрело лицо.
С рёвом одолев песчаный подъём, машина выбралась на ровную дорогу. Остановились.
– Как тут у вас? – курсантская пилотка возникла над кабиной, потом лицо показалось, мальчишеское, сероглазое. – Может, выйти кому? – спросил и покраснел, как девица, встретившись с Надей глазами.
– Езжай, езжай, родимый, – откликнулась тётя Поля, – стукотнём, ежели что. Ну, а коль сам желаешь, так и не спрашивай. Ты у нас за главного, тебе там видней.
Пилотка тут же исчезла. Машина тронулась.
– Ох ты, господи, – не то пугаясь, не то жалеючи сказала тётя Поля, – совсем мальчонка. Далеко ли от Сани ушёл, а туда же, с ружьём.
– И вовсе не с ружьём, – поправил Саня, – а с винтовкой. Только неизвестно, зачем она ему. Едет в тыл, а с винтовкой…
– Ишь ты, вояка какой, – тётя Поля покачала головой, – всё-то он знает, где фронт, где тыл.
– Чего ж тут не знать. Небось на фронт испугался, вот с нами в тыл и отправили. И винтовка небось не заряжена.
– Ты ему ещё не брякни об этом, – предупредила тётя Поля, – вояка.
– И брякну, – пообещал Саня, – ещё как брякну. Чтоб не воображал.
Скатившись с горки, машина въехала на мост и пошла скакать по брёвнышкам. Ребята в кузове запрыгали на лавках, загалдели.
– Борки, – крикнула тётя Поля, – моя деревня. А вон там, – она приподнялась, показала рукой, – на самом краю, там наш дом стоял. Оттуда я и ушла к Михаилу-то. А вот тут, аккурат на этом мосточке, мы, бывало, встречались и провожались с ним. Напровожаемся до зорьки – да и на два берега: я – на свой, а он – на свой, в Лугинино, за семь вёрст. – Она глядела поверх ребячьих голов на тот отгромыхавший под колёсами бревенчатый мосток, будто себя самоё и Михаила своего там выглядывала, а в глазах у неё стояли слёзы. Опустилась на лавку, склонилась лицом к узелку, промокнула глаза. Печально и тихо – сама себе – сказала: – Поклониться бы сойти, да некому. Погосту разве старому, где мать-отец лежат…
А дядя Фёдор будто угадал эту минуту. Въехав на крутой угор, взял и притормозил: гляди, мол, Полина, на свой мосток, прощайся со своей деревней, с молодостью далёкой своей.
И ещё долго после этого тётя Поля ехала молчком. Сама с собой печалилась, то и дело прижимала к глазам кончик платка, в который были вещички её увязаны.
Потом Люба в кусты попросилась. Тётя Поля постучала по крыше кабины, машина затормозила и встала на обочину. Надя спрыгнула, приняла Любу из кузова, а следом за ними со всех сторон: и я, и мне тоже…
– Ну, тогда перекур, – объявил дядя Фёдор и сам вылез из кабины.
Ребята с криками и визгом повыпрыгивали из кузова, рассыпались по кустам. Один курсант, как вышел из машины, так и топтался на обочине, будто стесняясь кого-то, и потому оживился, когда, воротившись, дядя Фёдор присел на подножку кабины, достал из кармана кисет и стал сворачивать «козью ножку». Приставив к дверце винтовку, курсант подсел к нему, попросил табачку, тоже стал налаживать самокрутку.
– Счастье ещё, – сказал дядя Фёдор, – что погоды такие стоят, не то бы хлебнули киселя по нашим дорогам. Резина-то на колёсах ни к чёрту. – Он даже сплюнул в сердцах. – Да и сама-то вся… Не машина, а как это у вас – беу… Бывшая, значит, в употреблении. Два дня, как сказали, что надо везти, всё ковырялся, из старья собрал, и вот едет, – он словно и сам дивился тому, что едет. Перевёл разговор на другое: – Эх, самое время хлебушек убирать. Вон какой стоит-дожидается. Дождётся ли!
Курсант кивал головой, соглашался. Наладив наконец самокрутку, прикурил от дяди Фёдоровой «козьей ножки», затянулся, да, видно, перебрал, а может, табачок у дяди Фёдора такой крепкий оказался: закашлялся, стал утирать слёзы рукавом, заметив подходивших к машине Надю с Любой, опять засмущался.
А тут ещё дядя Фёдор прибавил:
– Не по нутру, видать, табачок-то, – засмеялся он, – к нему привычка нужна. Наталья моя покойная знаешь как его звала? «Вырви глаз». Оно так и есть. Я его сам и ращу, секрет знаю. А тебе покультурней чего-нибудь надо, чтобы нутро молодое не надорвать.
– Да нет, ничего, – откашливаясь в кулак, он прятал от Нади покрасневшее то ли от кашля, то ли от смущения лицо. – Нас старшина махоркой снабжает, нам положено. Правда, у вас покрепче.
– Я вот и говорю, – щурясь от дыма, дядя Фёдор всё приглядывался к нему. Потом спросил: – А величать-то тебя как? Едем рядом, надо бы знать.
– Курсант Кудрявцев, – по уставу ответил он, но тут же прибавил: – Алексей.
И снова быстрый взгляд в сторону Нади: слышала ли?
– Лексей, значит. Вот и ладно. А у меня батька Лексеем был. Ты – Лексей, а я – Лексеич. Вот как у нас складно.
Дядя Фёдор поднялся, плюнул на пальцы, пригасил цигарку. Ребята неторопливо вылезали из кустов.
– Ну что, вояки, отстрелялись? Полина, давай всех по лавкам.
Тётя Поля подошла к машине, спросила:
– Как думаешь, Лексеич, до города долго будем добираться?
Дядя Фёдор пожал плечами:
– Давай, Полина, не будем загадывать. Машина штука такая… Это тебе не на телеге сидеть.
– Это уж так, – согласилась тётя Поля, – тебе, конечно, виднее. А я это к тому, что, случай чего, ночевать искать надо.
– До ночи-то вон, – дядя Фёдор кивнул головой вверх, на ясное, без облачка, небо, – день целый. Поехали.
Ближе к полудню, уже уставшие от тряской, хотя и не очень долгой езды, заметили пыль над дорогой.
– Вон, глядите, едет кто-то! – Саня первый увидел и показал рукой. Зашевелились ребята в кузове. Интересно: первая встречная машина на дороге!
Тётя Поля обеспокоенно завертела головой, прикрикнула на ребят:
– А ну по лавкам! И рот не разевайте. Вон пылища-то!
С длинным, с каждым мигом вырастающим пыльным хвостом машина катилась навстречу, всё приближаясь и приближаясь. Ехала она быстро, и пыль вихрилась за ней следом, и вот уже стало видно людей, сидевших в кузове. Это были военные. Когда машины сблизились, один из них вдруг замахал рукой и прокричал что-то, вроде как приветствовал ребят, и те в ответ тоже стали махать ему руками, закричали радостно «Здрасьте!».
В это время облако пыли, накатившее следом за машиной, окутало их, и только тут дядя Фёдор притормозил, даже съехал немного на обочину.
Серый от пыли, точно вываляли его в муке, он высунулся из кабины:
– Чего они кричали-то?
– А кто их разберёт, – ответила тётя Поля, – в такой пылище-то. Поздоровались небось. Мы им машем, они – нам, известное дело.
– Да нет, – дядя Фёдор стоял на подножке, вид у него был озадаченный, – тут что-то не так, что-то они сказать нам хотели, потому я и затормозил. Думал, и они встанут.
Он хмурил брови и всё глядел на дорогу, по которой катилось, удаляясь, облако пыли. И курсант из кабины вылез, снял с головы и отряхнул пыльную пилотку, обратился к ребятам:
– Может, из вас кто слышал, о чём кричал тот военный?
Ребята пожимали плечами: нет, никто ничего не слышал. Недоуменно глядели то на дядю Фёдора, то на курсанта. И тётя Поля, видно, не понимая причины неожиданного беспокойства, сказала, жалеючи тех незнакомых солдат:
– Дай им бог тоже доехать, куда надо, подобру да поздорову. У них – своя дорога, у нас – своя.
– Они-то доедут, – проворчал дядя Фёдор, – а вот нам… – и предупредил: – Вы вот что… не на гулянку, не на искурсию едете, ртов-то не разевайте.
– Ты не пугал бы хоть, – обиделась за всех тётя Поля, – мы уж и так все пуганые-перепуганые. Ехай давай.
И опять запылила дорога.
9
Сколько проехали от того места, где повстречались с машиной? С полчаса, наверное. И тут ребята есть запросили.
– Да погодите вы, – стала уговаривать их тётя Поля. – Вот до лесочка того дотянем, сядем по-людски, а то ведь на ходу и язык прикусить можно.
Терпеливо ждали до лесочка и принимались канючить снова.
– Ну вот, теперь уж скоро, – хитрила тётя Поля, – теперь уж обязательно. – Она всё оттягивала остановку, не хотела время напрасно терять. – Вот как увидит кто подходящий лесок, так и кричите…
А лес вон он, уже рукой подать, и ребята, заприметив его, повеселели снова, нетерпеливо поглядывали на тётю Полю: не проехала бы, стукнула вовремя по кабине. А дядя Фёдор, словно угадав их нетерпение, взял да и прибавил газу: погнал, погнал машину к лесочку. Пыль ещё гуще, ещё яростнее заклубилась за бортом. А потом вдруг машину стало кидать по кочкам и ямам, а по сторонам, слева и справа, замелькали кусты и деревья. Дорога с оседающей на ней пылью осталась почему-то в стороне. Всё это произошло так быстро, что никто и не понял, что дядя Фёдор на полном ходу свернул с дороги и, вылетев за обочину, почему-то гнал машину по придорожным кустам.
– Чёрт сумасшедший, – кричала тётя Поля, – с цепи, что ли, сорвался, передавишь ведь всех. Куда тебя понесло-то!
– Держитесь там! – сквозь рёв мотора, сквозь треск ломающегося кустарника, по которому продиралась машина, прорвался вдруг отчаянный голос дяди Фёдора.
И вдруг машина встала. И снова отчаянный голос дяди Фёдора:
– Все к лесу! Живо, мать вашу…
Сам он уже выскочил из кабины, суетливо метался возле машины, размахивал руками и ругался на чём свет стоит. А в кузове – словно оцепенение на всех нашло – никто не мог даже пошевельнуться: и ребята, и тётя Поля с Надей удивлённо глядели на суматошного дядю Фёдора, на растерянного курсанта, который в это время тянул за приклад из кабины застрявшую винтовку. А дядя Фёдор уже стаскивал через борт ребят, да они и сами, почуяв недоброе, друг за дружкой посыпались из кузова.
Опомнившись, Надя бросилась к борту, подтолкнула Любу в руки дяди Фёдора, сама спрыгнула на землю, схватив Любу за руку, побежала от машины в чащу леса.
И в это время услышала за спиной:
– Ложись, воздух!
Тут они и пронеслись над дорогой. Казалось, даже пыль, только что поднятая машиной, оседала у них на крыльях. Надя даже кресты разглядеть сумела – чёрные с жёлтым обводом – и даже лётчика в кабине. Ей показалось, что и он увидел её, стоявшую на поляне с Любой на руках. Заметила, как лётчик повернул голову в шлеме и глядел на них сквозь большие очки.
Гул самолёта ещё стоял в ушах, когда она услышала:
– Трус, трус! А ещё с винтовкой!
Оглянулась и увидела: там, в машине, один посреди кузова, стоял Саня. Прижав к плечу палку, он целился в небо, в самолёты, только что промчавшиеся почти над самой его головой, и кричал, перекрывая своим злорадным криком гул моторов:
– Трус! В кусты спрятался! И винтовку бросил…
Из-за машины выскочил дядя Фёдор, похоже, он не успел и отбежать от неё, матюкаясь, полез в кузов. Схватив Саню за руку, потащил его, но Саня отчаянно сопротивлялся, упирался ногами, цеплялся руками за борт и продолжал орать своё:
– Всё равно он трус! С винтовкой, а прячется! А я их не боюсь… – И скалился в злорадной ухмылке, показывая пальцем туда, в кусты, где прятался Алёша.
Растерянный, помятый, с пилоткой в руке, тот выбрался из кустов, отряхивался, одёргивал выбившуюся из-под ремня коротенькую гимнастёрочку, искал глазами куда-то запропавшую винтовку. Потом нашёл, поднял её. Стоял смущённый и виноватый. И Наде было жалко его, она ненавидела в эту минуту ушастого Саню, которого дядя Фёдор стащил наконец с машины.
– Ну, что разинулись! – сердито прикрикнул дядя Фёдор на них. – Жить надоело? – Подхватив Саню, он кивнул Наде головой: – Живо в лес давайте. Думаете, этим и кончилось? Сейчас развернутся – и опять… Лексею спасибо, спасителю вашему, – он их углядел, не то бы всем нам тут крышка. А этому вояке, – он шёл следом за Саней с палкой, из которой тот по самолётам «стрелял», – надрать бы задницу хорошенько. Откуда у вас такой взялся?
Тётя Поля подошла к ним. Лицо бледное. Глядит на Саню, слова сказать не может: видно, не верит ещё, что и на этот раз живая осталась. Узелок дрожит в её руках, она смотрит на всех с запоздалым страхом, будто спрашивает: неужели пронесло? И вдруг набрасывается на Саню:
– Мучитель ты наш, что же ты делаешь-то? Своей башки не жалко, нас-то хоть пожалей! Что мы матке твоей скажем, как батьке в глаза будем глядеть? Ты хоть об этом подумай!
А дядя Фёдор всё подгонял, всё покрикивал на ребят:
– А ну ховайтесь по кустам. И чтобы не высовываться…
Они налетели с той стороны, что и в первый раз, – от солнца, два самолёта прошли обочь дороги, там, где осталась машина. Сухой и гулкий треск покрыл придорожный кустарник.
– По машине, гады, хлещут, – услышала Надя голос дяди Фёдора. Он стоял неподалёку, хоронясь за деревом, глядел в сторону дороги. Дождавшись, когда там утихло, предупредил: – Оставайтесь тут, за ребятнёй глядите, а я подберусь, гляну, чего там осталось. Не пришлось бы нам ноги в руки…
Он ушёл и долго не возвращался. Но вот заурчала машина, потом дядя Фёдор появился. Шёл озабоченный, хмурый.
– Видать, плохи наши дела, – догадалась тётя Поля, – расчихвостили машину.
Но обошлось.
– Стекло ветровое высадили, – сказал, подходя, дядя Фёдор, – и кузов в щепу, хоть самовар разводи, а так ничего, ехать можно. Вот только куда?
– Как это – куда? – удивилась тётя Поля. – Куда ехали, туда и…
Дядя Фёдор усмехнулся, озадаченный, присел на пенёк. Помолчав, спросил у курсанта:
– А что наш служивый скажет? Один раз ты их углядел, считай, что в рубашке родился, а дальше что? Сейчас они спереди налетели, а через час сзади.
Курсант молчал, хмурил брови. Соображал. Но теперь и Наде ясно было: дальше ехать опасно. Появившись раз, самолёты в любой момент могут налететь снова.
– Я это к тому, – разъяснил дядя Фёдор, – что на большак нам теперь соваться нечего. Едем, пылим во всю ивановскую, небось из самой ихней Германии видать. Другим путём выбираться надо. Есть тут дорога, просёлочная. Ещё с километр большаком и вправо. Давешний год, когда большак-то спрямляли, все машины от нас тем краем объезжали. Вёрст тридцать, может, сорок лишку, зато все лесом.
– Вот и командуй, – сказала, как отрезала, тётя Поля, – а мы, если что, всем миром станем за тебя ответ держать.
На том и порешили.
Люба уже сидела в кузове, в руках измазанная малиной беретка, губы и щёки тоже малиновые. Видно, пока сидела в кустах – отвела душу. Надя полезла было в кузов, уже ногу на колесо поставила, взялась рукой за борт и тут услышала:
– Извините…
Оглянулась: курсант Алёша стоит перед ней, переминается с ноги на ногу.
– Я как-то раньше не догадался, – он покраснел отчаянно, – вы извините… Может, вы пересядете с Любой в кабину? А я на ваше место. В кабине вам будет удобнее.
– Спасибо, – сказала Надя, – не беспокойтесь, мы уж все вместе. Да и ребята все на виду.
Она опять взялась за борт рукой, но тётя Поля поддержала Алёшу.
– Дело говорит, – крикнула она из кузова, – и нам, глядишь, надёжнее. Сразу два вояки.







