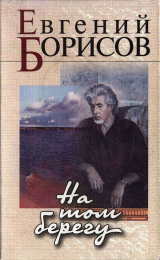
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
– Ма, а ты у меня красивая. Тебе бы ещё причёску, вот такую, знаешь…
И тут же взяла в руки ножницы, но Надя замахала на неё руками.
Теперь и платье это не пугало Надю глубоким вырезом, и она, угождая Сергею, надевала его, хотя и знала наверняка, что многие женщины, жёны или подруги офицеров, тоже вырядятся в такие же.
И вот эти праздничные сборы…
Красивый, с серебристой сединой в тёмных волосах, «при полном параде», он подходил и останавливался рядом перед зеркалом, стоял и глядел – не то на неё, не то на себя самого любовался.
– Знаешь, на кого ты сейчас похожа? – сказал однажды.
– Знаю, – смеясь, ответила она, – на артистку Раневскую в кинофильме «Подкидыш». Только бюстом пожиже.
– Да нет, – хохотал он, – на эту, ну, которая… Помнишь, в «Сердцах четырёх»… На Серову. Только та в светлом варианте.
Глядела на себя, пожимая плечами, вовсе не находя никакого сходства с артисткой Серовой, и удивлялась: ну почему ему так хочется, чтобы она была на кого-то похожа, пусть даже на эту красивую актрису, почему она не может остаться самой собой, в своём собственном варианте?
К Новому году Сергей Васильевич повышения ждал, говорил, что должность, какую прочат ему, – «полковничья», так что, вслух прикидывал он, придётся в скором времени ещё одну дырку на погонах делать – для третьей звёздочки. О переводе в Москву шёл разговор, и перспектива эта пугала Надю: только наладилось всё, квартира замечательная, и город, что ни говори, своим стал, будто вся жизнь здесь прошла, на этих вот улицах, в этом доме.
Потому и обрадовалась, когда узнала, что дело с переводом Сергея в столицу откладывается на неопределённый срок. Впрочем, радость эта была не полной, поскольку оставался другой вариант: Сергею предлагали учиться в военной академии. Учёба открывала большие перспективы, но жить несколько лет врозь, наезжая друг к другу в гости, – это смущало её.
– Вот уедешь, – как-то попечалилась она ему, – и забудешь меня. Огромный город, столько женщин красивых…
– Чудачка, – он порывисто обнял её, словно обрадовавшись этому её признанию. – Четыре года войны, ты только подумай, не забывал, а теперь забуду? – И вдруг спросил: – Ну, хочешь, залог оставлю? Как у поэта: «Залог достойнее себя…» – Тут же смутился, заметив, как погрустнело её лицо. – Прости, я не хотел…
Она сразу поняла, какой залог он имеет в виду, и теперь, замерев всем телом под его чутко напрягшейся рукой, лежала рядом беспомощная, вдруг словно потерявшая ощущение своего тела, себя самой, будто придавленная к постели этим не прозвучавшим его упрёком.
Может, и правда он не верит ей? Не верит, что не от желания или нежелания её всё это зависит, а совсем от другого, и об этом недавно с сочувствием и сожалением сказали ей в женской консультации. «Нет, нет, – тут же поспешили успокоить её, – отчаиваться мы с вами не будем, надо надеяться, что всё ещё к вам придёт. В конце концов ещё не вечер, – и участливо, с ободряющей улыбкой глядели на неё: мол, до вечера и в самом деле ещё далеко. – И не трагедия это, у вас всё-таки есть один ребёнок. Вот до вас приходила женщина…» Врач вздыхала сокрушённо: мол, война, это всё её последствия, оттуда все беды тянутся. Но что поделаешь, надо быть стойкими… И муж ваш тоже должен понять…
Он понимал, конечно, и утром виновато глядел на неё, был предупредителен и внимателен, как могут быть внимательны и заботливы к тяжело больным здоровые, сильные люди. И она принимала с печальной улыбкой эти его покаянные знаки внимания, принимала как горькие, но необходимые пилюли, жалея при этом и себя, и его…
12
…Как-то загляделась на Любу. Та на вечер в суворовское училище собиралась, старательно и долго вертелась перед трюмо и, кажется, чем-то была недовольна – то ли собой, то ли платьем, сшитым к Октябрьскому празднику примерно с месяц назад. Глядела на неё – высокую, с красивым, немножко капризным лицом, с распущенными до плеч золотистыми волосами, в коротеньком, по моде, платьице, похожем на раскрывшийся маленький парашютик, открывающий выше колен её стройные ноги, – и вдруг с невольным удивлением, даже с испугом подумала: «Боже, как быстро летит время!»
И снова – в который раз! – вспомнила тот день – из далёкого, довоенного лета…
Вспомнила, как стояла, замерев, возле маленькой, почти игрушечной кровати, в которой, уткнувшись лицом в подушку, спала, посапывая, крохотная, как Дюймовочка, белокурая девочка… Как шла потом по коридору, тайком от мамы утирая неожиданные слёзы, неся в себе странное ощущение тайного, необъяснимого своего родства с этой девочкой… Тогда Наде и в самом деле казалось, что есть, существует в природе, может, за пределами привычного человеческого понимания, вот такая, никем не разгаданная, не познанная связь и только сердце или что-то другое – какое-то очень чуткое устройство в нашей непознанной душе – только они и способны угадывать скрытую тайну этой далёкой – через целые поколения – близости между людьми. Вот как теперь у неё с Любой…
И начинались другие думы – о завтрашнем дне: каким-то он будет для Любы, как сложится её судьба? Вчера казалось, что рано ещё об этом, а сегодня: не проглядеть бы, не опоздать! Что-то тревожно стало за девчонку: своевольная растёт, ни мать, ни Сергей Васильевич ей уже не указ. Конечно, возраст такой: свои тайны, интересы девичьи. Прежде, давно ли, кажется, прибегала из школы и прямо с порога высыпала перед ней все до одного свои секреты, ни в чём не таилась, а теперь, бывает, словечка клещами не вытянешь. А что там у неё на душе – поди догадайся! Ходит, распевает по дому – и сердце спокойно: значит, всё хорошо. А как явилась с надутой губой – дело плохо, не иначе или в школе что-то случилось, или с подругами повздорила. Спросишь, а она фыркнет в ответ и – к себе в комнату. Обедать позовёшь, а из-за двери: не хочу, не приставайте… А то вдруг крикнет на бегу, уже в коридоре: я в библиотеку – и дверью хлоп!
Однажды решилась: тайком сходила в школу, с учителями потолковала, там все в один голос: успевает не хуже других, но могла бы и лучше. Но ей ли не знать, по своим ребятам, по пятиклашкам, что любой мог бы лучше, но как разобраться: почему одним это «лучше» удаётся, а другим нет? Знать бы почему.
Теперь эти танцы, частые походы на вечера, сегодня в свою, завтра в соседнюю школу, а теперь вот в суворовское училище… Всё бы ничего, если бы не десятый класс, если бы… Ох уж эти «если бы»!
А зимой, в каникулы, произошла история…
В первых числах Нового года, сразу после школьной ёлки, Надя собралась везти своих пятиклашек в Москву. Давно обещанная ребятам поездка пугала её: с такой непоседливой оравой – в Москву! Самой бы не заблудиться, не зазеваться в метро или на шумной, забитой машинами улице, а тут – шутка ли! – тридцать два человека! И другое смущало: в столице предполагалось пробыть два дня, с ночёвкой, а как быть с Любой? Ведь Сергей, поступив в академию, живёт в Москве, и на его помощь она там, между прочим, рассчитывала: думала, выберет времечко, поводит их по музеям. А Люба, выходит, одна?
Она и потом, когда случилось это, не могла объяснить себе, чего же боялась тогда, почему не хотела оставлять Любу? Было смутное беспокойство, но весь разговор с дочерью перед отъездом крутился вокруг того, чтоб выключала да запирала, подогревала бы да поела вовремя, не гуляла бы допоздна, на что та со снисходительным терпением кивала головой: мол, всё знаю, всё понимаю, не маленькая. Перед самым отъездом Надя предложила Любе: а не поехать ли ей вместе с ними? Но та капризно повела плечом, усмехнулась:
– Может, мне и хороводы с малышнёй вокруг ёлки водить?
С тем и уехала – с обидой и смутным беспокойством в душе.
И в Москве, ну как нарочно, не заладилось с первых шагов. Позвонила с вокзала Сергею, был у неё номер телефона в его общежитии, а ей ответили – выехал в Волжск… Появились три дня свободных, и он решил сделать сюрприз… Укатил домой сегодня утром. Разъехались, одним словом…
Расстроенная, вышла из телефонной будки, досадуя и на себя, что не позвонила ему раньше, не предупредила, и на него – вечно он с этими сюрпризами, с неожиданностями, а она-то на него так рассчитывала! – развела руками: мол, ничего не поделаешь, придётся самим плутать, без помощников. Думала, ребята дрогнут – не тут-то было! Сами её и в метро повели, и мороженым угостили, пломбиром, и успокаивали ещё:
– Да не волнуйтесь вы, Надежда Ивановна, мы вас в целости и сохранности домой привезём, вы только от нас не отставайте.
И – удивительно! – всё как надо образовалось: и билеты на ёлку в Колонный зал получили, и общежитие обещанное для ночлега отыскали… Ну что за ребята у неё! Разместила их, накормила, а сама бегом на телеграф. Заказала междугородный разговор, дождалась и вот слышит – голос Сергея. Ругает себя на чём свет стоит и её тоже: ну как же так можно, хоть позвонила бы, дала бы знать, что в Москву едет, встретил бы как полагается. И тут же кричит:
– Хочешь, я назад приеду, день-другой проведём вместе, в Большой театр сходим? Ты же не была ещё в Большом.
Она ему в ответ: чудак ты, мол, человек, а куда же мы мою гвардию денем? Жди, мол, лучше дома, хозяйничайте там, а я завтра утром с первым поездом…
Наутро приехала.
– Привет, москвичка! – распахнул дверь, смеётся стоит, в руке сковородка с яичницей потрескивающей, сам в переднике: ждёт её, завтрак готовит. – Не растеряла свою армию?
– Да нет, – она устало опустилась на стул в коридоре, – с такой армией… Не я их, они меня потерять боялись. Признаюсь, Серёжа, командир из меня… – махнула рукой. – Такая трусиха оказалась.
Сергей со сковородкой в руке поспешил на кухню, там уже и стол был накрыт, в доме пахло кофе, и Надя, устало снимая пальто, подумала с радостным сердцем: как хорошо всё-таки дома! Уехать и вернуться домой…
Спросила, кивнув на дверь Любиной комнаты:
– А красавица ещё дрыхнет?
Увидела, как недоуменно, оглянувшись, уставился он на неё.
– Как, – спросил, выходя в коридор, – а разве вы не вместе? Разве она не с тобой? – Он стоял и глядел то на Надю, в тревожном предчувствии замершую в коридоре, то на входную дверь: будто, желая разыграть его, Люба стоит, притаившись в коридоре и вот сейчас откроет дверь и войдёт. – Я же спросил у тебя вчера по телефону, но ты… ты что, не поняла или не расслышала? Я приехал днём, часа в два – ни тебя, ни её. Хорошо ещё, ключ был. Сидел дома и ждал, потом ты позвонила, и я… я был уверен, что она с тобой.
Всё, что делала она потом – звонила по телефону, сначала подругам Любы, потом в школу, где кроме вахтёра не было никого, потом в милицию и на станцию «Скорой помощи», носилась из комнаты в комнату, пытаясь отыскать хоть какие-то следы, хоть маленькую зацепочку, знак какой-то, который подсказал бы ей главное – с Любой ничего не случилось; ворошила её платья в гардеробе, гадая, в чём она могла уйти, как будто это было сейчас очень важно, и снова бросалась к телефону, опять звонила – всё это совершала в состоянии, близком к обмороку, будто ходила по краю пропасти или по узенькой жердочке, и стоило остановиться, стоило взглянуть вниз, увидеть под собой эту жуткую бездну, и тогда всё, конец. И она, видимо, чувствуя это, всё подгоняла и подгоняла себя, и, уже не зная, что предпринять, не в силах видеть того, как ей казалось, уравновешенного спокойствия, с каким Сергей Васильевич сумел-таки даже в этой суматохе допить свою чашку кофе, говоря при этом какие-то ненужные, тоже слишком спокойные, утешительные слова, не в силах сдерживать в себе растущего раздражения, готовая крикнуть ему: «Ну чего же ты ждёшь? Или тебе всё равно, куда подевалась моя дочь!» – она бросилась в коридор, схватила упавшее на пол пальто, хотела бежать – всё равно куда, только бы не быть дома, только бы делать что-нибудь…
И этого позвякивания ключей там, за дверью, и того, как дважды, открываясь, щёлкнул замок, Надя не услышала, и потому, когда отворилась дверь, когда на пороге, живая и здоровая, появилась Люба, она, уже готовая к самому худшему, бессмысленно уставилась на дочь, будто глазам своим не могла поверить. С пальто в руках, не успев надеть его, беспомощно опустилась на стул возле вешалки.
– Чего это вы? – без тени замешательства, скорее, в лёгком недоумении – откуда, мол, вы взялись, если вас быть не должно, – Люба глядела на них обоих. – Ну что вы на меня так смотрите? Хороните, что ли? Жива, как видите, и здорова, чего и вам желаю. – Стянув с головы красную вязаную шапочку, она подошла к зеркалу, бросила её на столик, взглянула в зеркало, сказала, усмехнувшись принуждённо: – Представляю, чего вы тут нафантазировали. Спешу успокоить… Была вполне приличная компания, кое-кто из нашего класса, а ещё два артиста из филармонии, один даже не очень старый. – Помолчала, искоса, через зеркало, бросила взгляд на мать. – Между прочим, можете поздравить, им понравилось, как я пою, а этот, который помоложе, даже сказал мне…
– Люба, – у Нади больше не было сил слушать её невозмутимую болтовню, глядеть на эти кривлянья у зеркала. Ещё минуту назад, на ходу задержавшись у двери, она думала о другом: боже, только бы нашлась, только бы была живой и здоровой, а там… Была готова всё простить, ни о чём не спрашивать, не требовать ответа… – Люба, – снова повторила, чувствуя, как расплывается перед ней отражённое в зеркале красивое, вызывающе хладнокровное лицо, – я хочу знать одно, но это одно, – она пыталась и не могла отыскать какие-то спокойные, сдержанные слова, – это должно быть правдой. Скажи, где ты была?
– Ма, я же сказала, я не вру… Очень хорошие, весёлые люди, и если ты думаешь…
– Где, у кого ты была эту ночь? Почему не ночевала дома?
– Ну, ма, ну чего ты?.. Не сидеть же мне все каникулы дома, как медведю в берлоге. Позвонили, позвали в гости, я и пошла. Знаешь, как дома страшно одной, а там была музыка, и этот артист из филармонии…
– Люба, – она перебила её, – я не хочу больше слышать про этого артиста, меня интересует одно…
– Тебя вообще не интересует то, что мне интересно, – губа у Любы обиженно дрогнула. Шла домой в прекрасном настроении, даже счастливая, а ты… всё испортила. Потому что тебе всё равно.
По-своему истолковав молчание Сергея Васильевича, Люба поглядывала через зеркало на него, ждала, что он, как уже бывало, вступится за неё, и потому, желая завоевать его расположение, не к ним обоим, а лишь к ней, к матери, обращала свою обиду.
– Нет, мне не всё равно, – угадав её расчёт, боясь, что Сергей, чего доброго, и в самом деле испортит дело, поспешила Надя, – и ты это знаешь. Но сейчас разговор не обо мне, а о тебе, и мы оба, – она намеренно твёрдо повторила: – Ты понимаешь, оба… пока ещё мы за тебя несём ответственность.
Спохватилась: что-то не то и не так сказала, какие-то нелепые подвернулись слова, но было поздно.
– Перед кем? – вдруг повернувшись к ней, спросила Люба и словно предупредила взглядом: мол, я не хотела, но ты же сама начала… И не могла остановиться, не говорила, а кричала уже каким-то болезненно-мстительным, жалким криком: – Перед кем это вы в ответе? Ну скажи, что ж ты молчишь? Говоришь, а не знаешь, что ответить, а я-то знаю, я-то вижу, и я, – слёзы стояли у неё в глазах, – я вам больше не верю. Ни тебе, ни ему, потому что всё это только слова, и я давно уже не нужна вам…
– Замолчи! Замолчи, я прошу тебя!
Схватив со столика шапочку, хлопнув дверью, Люба уже неслась вниз по лестнице. Не сразу опомнившись, Надя выбежала за ней в коридор, крикнула вслед удаляющимся быстрым шагам:
– Люба, вернись!
Услышала, как стукнула дверь в подъезде. И голос Сергея:
– Придёт, куда она денется.
Каким чужим и далёким показался ей этот голос…
13
Люба вернулась поздно, когда Надя, вконец измучив себя ожиданиями, усталая, с опухшим от слёз лицом, обречённо, будто мирясь с тем, что ещё не произошло, но и не произойти уже не может, не раздеваясь, не зажигая в комнате света, прилегла на диван.
Сначала пришёл Сергей, она услышала его шаги, когда тот поднимался по лестнице в коридоре, и ей показалось, что не один идёт, подумала: это она… Но ошиблась: Сергей вернулся один. Долго возился в прихожей, снимал шинель, сапоги, потом заглянул в дверь, спросил осторожно:
– Спишь? Может, кофе сварить? Ты же с утра ничего не ела.
Надя не ответила, и он закрыл дверь, решив, что она заснула. Кажется, она и в самом деле вздремнула немного и потому не услышала ни шагов в коридоре, ни того, как Люба вошла, снова, как и утром, открыв дверь своим ключом. Проснулась от стука захлопнувшейся двери. Вскочила с дивана, готовая выбежать к ней. Короткий сон хоть и не снял тревоги, но успел приглушить её, и обида, горькая обида, которая будто тлеющими углями жгла душу теми, уже с порога брошенными Любой словами, и она тоже немного поостыла; хотела вбежать в прихожую, кинуться к дочери, насквозь промёрзшей, голодной, несчастной и непонятой, – прижать, пригреть, приласкать и всё простить, за всё, что было и чего не было… Ну, в самом деле, к чему всё это: вот эти ссоры, обиды, это непонимание, ведь можно как-то по-другому, свои же люди, так стоит ли мучить себя и друг друга и обижать непониманием, недоверием этим, да и велика ли, в самом деле, трагедия: была в гостях у подруги, не ночевала дома… А лучше ли было бы, если поздно ночью одна через весь город домой добиралась… Жива и здорова – это главное!
Через приоткрытую дверь, из кухни, где с газетой в руках сидел Сергей – то ли не слышал, как вошла она, то ли делал вид, что не слышит, – в коридор падал свет, и Надя, шагнув в прихожую, увидела Любу, стоявшую в полутьме у вешалки, её бледное, измученное лицо.
– Люба, – голос у Нади дрогнул, она сама едва услышала его, – я хочу… хочу, чтобы мы… ты прости, что я так…
– Не надо, прошу тебя, – отчуждённо прозвучавший голос Любы остановил её на пороге, – не сегодня, потом…
Она прошла мимо, такая взрослая, и от её взметнувшихся волос в лицо Наде пахнуло уличным холодом.
«Боже, – с упавшим сердцем, глядя ей вслед, подумала Надя, – прошла как чужая. Совершенно чужой человек…»
И так тоскливо и пусто было в тот день на душе, а ночью мучилась от бессонницы. Тревожно, с ужасным каким-то скрежетом, всю ночь били в большой комнате часы, и, вздрагивая при каждом ударе, Надя едва удерживала себя в постели: хотела встать и запустить в них чем-нибудь тяжёлым.
Завтракать сели вдвоём, без Любы: сидели как потерянные, не глядя друг на друга, почти не разговаривая, и Надя чувствовала, как натягивается в ней какая-то болезненно-чуткая пружина: вот-вот и заколотится в груди, начнёт отсчитывать удар за ударом…
Тихой тенью дочь выходила из своей комнаты – туда и обратно по коридору – и снова, как мышь, затихала у себя за дверью.
– Может, поговоришь с ней? – не выдержав, предложил Сергей, но тут же, едва взглянув, понял, как нелегко ей не только говорить, но и думать об этом, – предложил: – Ну, хочешь, я потолкую? По-мужски, так сказать. Спрошу, какая вожжа ей под хвост попала? Нельзя же так, в самом деле! И ты… в таком состоянии… Как я вас тут оставлю? Надеюсь, – он осторожно взглянул на неё, – какое-то право я имею на такой разговор?
Пожала беспомощно плечами: решай, мол, как хочешь.
Сидеть дома не было сил. Она оделась и ушла. Бродила по улицам без определённой цели. Полагала, что на этих светлых от январского солнца, от свежего, за ночь выпавшего снега улицах придёт в себя, успокоится и, может, поймёт в конце концов то, что в суматохе, в панике и в обиде понять не смогла.
А день был и в самом деле чудесный, и так легко дышалось на морозе, так остро пахло свежим снегом, и лёгкий морозец, расплавленный к полудню не по-январски весёлым солнышком, едва пощипывал щёки. Шалея от светлого дня, от долгожданной воли, мальчишки носились по улицам на коньках, и новогодние ёлки выглядывали из окон. И так хотелось, чтобы всё в жизни и у неё, и у всех, всех было вот так же светло, так же чисто и радостно.
Намеренно ли, случайно ли – этого она и сама не могла понять, – но, покружив по улицам в центре города, Надя вышла на набережную, пошла вдоль реки – от городского сада, мимо кинотеатра «Звезда» – и уже потом, когда, смахнув варежкой снег, присела на низенькую, будто вросшую в сугроб лавочку, поняла, что всё это время вовсе не бесцельно кружила по улицам и переулкам, да и из дома, пожалуй, вышла не только затем, чтобы подышать свежим воздухом, отвлечься от тревожных дум, – что-то позвало её сюда, к этому знакомому подъезду.
Было такое чувство, будто она уже давно бродит где-то, вокруг да около, и всё не может добраться до этой единственной улицы, которая нужна ей, и вот теперь добралась наконец…
Машинально, подчиняясь давней привычке, присела на лавочку у подъезда, возле которого много лет назад она впервые остановилась, стояла ни жива ни мертва, не решаясь войти в коридор.
Задумалась на минуту и вдруг почувствовала: кто-то, замедлив шаги, остановился рядом. Подняла голову – незнакомая женщина, пожилая, в руке тяжёлая сумка с картошкой, стоит и внимательно смотрит на неё, словно приглядывается. Полагая, что та хочет присесть и отдохнуть, Надя привстала, подвинулась немного, но женщина и не собиралась садиться. Вот так же, стоя возле лавки, она теперь уже совсем откровенно разглядывала Надю.
Но теперь и Наде показалось, что где-то она её видела – эти настороженные, будто что-то выискивающие глаза, это лицо в морщинах… Всё, кажется, было знакомо, кроме улыбочки этой, которая словно говорила Наде: хоть ты и губы накрасила и одета по-другому, но я всё равно признала тебя.
– Что, милая, не узнаёшь? Уж не меня ли сидишь дожидаешься?
Да, это была та самая хозяйка, которая так и не пустила Надю тогда через порог в квартиру номер десять. Теперь Надя узнала её. Подтащив к лавочке сумку с картошкой, та подсела к ней. Сказала бесцеремонно:
– Эн ты какая стала, фасонистая! А я вот с базара тащусь, гляжу, что за краля такая возле дома сидит. Или дело какое?
– Да нет, – смутившись отчего-то, будто оправдываясь, ответила Надя. – Шла вот мимо…
Хотела тут же встать и пойти: полузабытая неприязнь к этой тётке никак не располагала к разговору. Но та удержала её за руку.
– Ты погоди, послушай, что скажу-то, – она ещё ближе придвинулась к Наде, заговорила доверительно: – Ты как почуяла, что я тебя жду. А я всё думаю, хоть встренуть бы где-нито, а ты… Легка на помине!..
– А что случилось-то? – вдруг заволновавшись ни с того ни с сего, спросила Надя. – Зачем я вам понадобилась?
– А вот зачем… Тут прибиралась намедни в сарае, добра-то у меня никакого, откуда ему, так кое-что, баретки старые, тетрадки исписанные… Перебираю я это богатство-то и вижу… То ли книжка какая, то ли что… Переплёт такой старинный и эти – застёжки железные. У меня, сколь помню, такого не было. Отстегнула застёжки-то, гляжу, а там карточки. Альбом, стало быть. По карточкам и догадалась: её, Варвары, альбом. Все как есть они там собраны, и Варвара сама, и молодая и всякая, и сам он в разных видах, и малец ихний. Отложила я этот альбом, так, на всякий случай, а потом уж припомнила, что кто-то из их сродственников наведывался ко мне. Тебя вот и вспомнила. Других никого не знаю, выходит, для тебя я эту штуку и берегла, так что, – поднялась с лавочки, подхватила сумку, – ты это погоди тут чуток, я мигом…
Она скоро вернулась, протянула Наде альбом.
– Вот возьми. Занадобится, может. Посмотришь другой раз, своих вспомянешь, а мне он зачем… Положила на шкаф, как грех на душу. Вроде и каши не просит, а всё мешает как-то. Будто чужие люди в дому. – И тут же, словно и впрямь сняв наконец непосильную ношу с плеч, заговорила о другом: – А ты, я вижу… всё хорошо у тебя? Небось муж хороший попался, небось не пьёт?
Небольшой, размером с учебник, альбом, одетый в тёмно-синий, теперь уже выгоревший бархатный переплёт, легко уместился в сумочке. Не раскрывая, не разглядывая, Надя поспешно засунула его туда и, на ходу, уже не слушая тёткиной болтовни, сказав спасибо, почти побежала по улице.
В тот момент, когда старуха, поднявшись с лавочки, пошла за альбомом, Надя сказала себе: неужели я увижу его? Узнаю ли? Я же совсем забыла его лицо, всё как-то стёрлось в памяти… И самое первое желание было – тут же на лавочке перелистать альбом, найти его фотографии, посмотреть, каким он был когда-то, когда она ещё не знала его… Но не решилась: не захотелось свидетелей, тёткиных любопытных глаз…
Уже на полдороге к дому опомнилась вдруг, спросила себя: ну, а куда она его денет? Принести домой, упрятать подальше, чтобы ни Люба, ни Сергей не нашли случайно? Но тогда зачем? Чтобы потом, от случая к случаю, дождавшись, когда никого не будет дома, доставать его тайком и смотреть – предаваться, так сказать, далёким юношеским воспоминаниям о том, что было и чего не было? А нужно ли ей это? А если принести и показать Любе? Ведь она так хотела увидеть фотографию Алёши…
Подумав об этом, Надя не без тайного сожаления отметила про себя, что в последние годы, когда переехали из Лугинина в Волжск, воспоминания об Алёше стали постепенно уходить не только из разговоров дочери, но, пожалуй, вообще из её новой, во многом непонятной, а главное, всё более недоступной для Нади жизни. Поначалу, размышляя об этом, она удивлялась и даже тревожилась: как легко, как быстро отказалась Люба от того, за что так ревниво, так жадно ухватилась однажды. Вот и тополёк, когда-то ею посаженный, на второй год стал хиреть под окном, а уезжая из Лугинина, она о нём вообще даже не вспомнила. Может, и правда, думала она, нельзя всю жизнь держать в памяти то, что прошло мимо сердца, чего на самом деле и не было, что родилось однажды в воображении, от сильного желания, чтобы так было. Одними легендами не воспитаешь, не научишь сердце. Ни любить по-настоящему, ни ненавидеть не научишь. И может, всё у них, в её и Любиной жизни, идёт так, как надо: одно приходит, уходит другое? И надо ли, в таком случае, ради памяти о прошлом, ради того, чтобы память эта жила, надо ли тревожить настоящее? К чему приведёт это? Тем более сейчас, после всего, что случилось…
Подумав так, она решила, что нет никакого смысла показывать Любе этот альбом. Да и Сергею, узнай он об этом, тоже неприятно будет, и уж конечно придётся объяснять, где взяла, зачем принесла домой… Мало того, что однажды, не подумав, не взвесив всего, так легкомысленно подхватила и стала укреплять в податливой душе девчонки сказочку, которую та сама себе придумала, так теперь ещё эта фотография!..
Прийти домой, потихоньку запрятать куда-нибудь альбом – только это и оставалось.
Но прежде чем повернуть к дому, она дошла до городского сада и там за танцевальной верандой, на тихой, заснеженной аллее, нашла лавочку, села, а потом, оглядевшись по сторонам, достала из сумки альбом, замерев от волнения, открыла и на первой же странице увидела его портрет… Две фотографии были намертво приклеены к крепкому картонному листу – не оторвёшь: два молодых и красивых лица, и Надя сразу узнала его. Но тут же поняла свою ошибку: конечно, это были отец и мать Алёши, ещё молодые, но как похож был этот вихрастый юноша в белой рубашке-косоворотке на Алёшу, взглянувшего на неё из далёкого далека глазами своего отца.
Такие же глаза, но теперь не отца, а самого Алёши увидела она на другом фото. Эта карточка не была приклеена, лежала между страниц, её ещё не успели приклеить. Алёша снялся в новенькой гимнастёрке, в пилотке, сдвинутой на левую бровь, – «Неужели в той самой?..» – и глядел на неё так знакомо, и она так явственно представила его, будто он, живой Алёша, вдруг возник перед ней, подошёл неслышно по этой дорожке и остановился.
Надя испуганно вскинула голову, машинально захлопнула альбом… Какой-то парень с лыжами в руке шагал по аллее парка и, глядя на неё, улыбался так, будто ненароком подсмотрел её тайну.
…Пора было возвращаться домой. Прийти, приготовить обед, постараться сделать так, будто ничего не случилось, накрыть на стол – Новый год как-никак, а они даже не посидели вместе, а Сергею Васильевичу завтра уезжать, пусть уж едет со спокойной душой, с уверенностью, что дома всё хорошо.
Уже подходила к дому, когда в окнах, то тут, то там, зажигались огни, за дымкой тюлевых занавесок вспыхивали разноцветные лампочки на ёлках. Надя замедлила шаг, задержалась у ворот, взглянула на свои окна и обрадовалась: в большой комнате горел яркий свет – хрустальная люстра светила всеми огнями, и она приняла это как добрый знак, как обещание покоя и мира в доме.
Поднявшись на свой этаж, стоя перед обитой тёмно-коричневым дерматином дверью, вдруг испугалась чего-то… Странный, непонятный был испуг и сама мысль, промелькнувшая при этом: «А будет ли он, этот мир? Будет ли в ней самой, в её душе?» Желая поскорее отмахнуться от этой тревожной мысли, торопливо нажала кнопку звонка: скорее вбежать в квартиру, увидеть вполне благополучные, успокоенные и такие желанные лица, узнать, что её ждут давно… Ведь этого же она хотела!
Дверь открыла Люба.
– Ма, – не дав опомниться, заговорила голосом девчонки-подлизы, – ну не сердись на мня, я больше не буду. Честное пионерское! – И, чмокнув Надю в щёку, отскочила, всплеснув руками в притворном ужасе. – Па! – впервые вдруг назвала так Сергея Васильевича, – она же окоченела у нас совсем, не руки, а ледышки. – Люба суетилась перед ней, стаскивала с неё пальто, ворчала с сердитым притворством: – Где же ты пропадала! Мы такой стол приготовили, сидим тебя дожидаемся. Ты посмотри только! А папка даже шампанское привёз.
Он вышел из комнаты, весёлый, в белоснежной рубашке, бутылка шампанского в руках, и Надя вновь, как когда-то, подумала: победитель…
Но как смутило её тогда это вовсе не сорвавшееся случайно, а вполне осмысленное, будто специально к этому примирительному, праздничному столу приготовленное – «папка»!
А стол в гостиной и правда уже сверкал хрустальными бокалами, и новогодняя ёлка подмигивала разноцветными огнями, и Люба с излишней проворностью хлопотала, суетилась возле стола, передвигая с места на место давно расставленные бокалы.
– Итак, дамы в сборе, – гремел бодрым голосом Сергей Васильевич, – гусары открывают шампанское! Соберу я вас вместе в конце концов?..
…Как это вышло, она не могла понять… Помнит, как разделась в коридоре и с сумкой в руках прошла к себе в комнату, подумала, что надо бы другое, новое платье надеть, праздник всё-таки… И ещё держала в голове: альбом, альбом надо спрятать… Оглянувшись на дверь, достала его из сумки, и в это время дверь приоткрылась, Сергей позвал её. Она испугалась, поспешно положила альбом на книжную полку, поверх стоявших книг, подумала, что потом, улучив минутку, зайдёт и перепрячет его. И позабыла…







