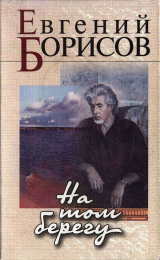
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Хотя нет, была ещё планёрка, и там, во время планёрки, что-то произошло… Нет, не по газете, а помимо текущих редакционных дел, откуда-то со стороны что-то пришло, вот так же нежданно-негаданно ворвалось в его кабинет вместе с весенним свежим ветерком, когда кто-то из сотрудников во время планёрки встал и открыл настежь окно.
И вот теперь, выйдя на набережную, Сергей Иванович призадержался у чугунного парапета, и, пока стоял так, ловя усталым лицом речную свежесть, принесшую с собой острые, до головокружения, словно не городские, а долетевшие откуда-то из полузабытого далека запахи весны, он вдруг вспомнил…
Во время планёрки ему позвонил Глеб, что было очень некстати, и он, Сергей Иванович, извинившись, сказал ему об этом, очень мягко, сдержанно сказал, что занят, что народ у него, но Глеб, похоже, обиделся, обозвал его чиновником и даже бюрократом, как будто сам не работал в газете и не знает, что такое планёрка. Предупредил, что через двадцать минут будет снова звонить и чтобы он, Серый (Глеб настойчиво называл Сергея Ивановича Серым), был готов к серьёзному разговору и не вздумал никуда «линять»…
Немного сбитый с толку этим неожиданно беспардонным вторжением старого друга, Сергей Иванович не сразу вернулся мыслями к прерванному разговору о планируемых на следующую неделю номерах: сидел и слушал своего ответственного секретаря, но слушал, что называется, вполуха и почти машинально, продолжая пребывать в лёгком недоумении, кивал головой, вроде как соглашался с ним, но тут же ловил себя на том, что он вовсе и не кивает, не соглашается, а покачивает головой в недоумении, да ещё и похмыкивает тихонько, себе под нос. Звонок Глеба, его фамильярный тон, этот «Серый» едва ли не на каждом слове, прозвище, которым его давно уже никто не называл, – вот что его озадачило.
После долгого, на несколько лет затянувшегося молчания – с чего бы это? Может, что-то почувствовал, уловил, куда ветер дует? Может, написал чего-нибудь, решил предложить? Не иначе завтра рассказ принесёт, страниц на двадцать, или отрывок из повести и потребует – печатай! Не напечатаешь, не уважишь – дружба врозь! И такое было. Не с Глебом, правда, с другими, и не такие ещё ультиматумы ему устраивали, а Глеб за все эти годы, пока он редактором, ни разу не появлялся, ни строчки для газеты не предложил.
Впрочем, смущало не только это, но и кое-что другое, о чём нет-нет да и подумывал Сергей Иванович и тогда и теперь. Пять лет назад, когда он был назначен редактором, никто из старых друзей, ни Глеб, ни Пашка, почему-то не поздравил его с назначением на редакторский пост. Кажется, Митька один позвонил, удосужился, а эти двое не сочли. Что-то тут было не так, что-то задевало самолюбие Сергея Ивановича, создавало в жизни и в работе определённый дискомфорт.
Начать с того, что для многих, знавших Сергея Ивановича по прежней работе, и даже для него самого, назначение это было более чем неожиданным, если не сказать – странным.
В те дни, когда Сергей Иванович постепенно вживался в редакционное кресло, среди коллег-журналистов ходил слушок, рождённый кем-то, скорее всего, завистниками и недоброжелателями, будто Сергей Иванович чем-то сумел угодить бывшему первому, пришёлся, так сказать, ко двору. Чем угодил, за какие старания был удостоен особого расположения и внимания, этого толком никто не знал. Но разговоры такие были. Говорили и о том, что журналистом Кувшинов был средним, звёзд с неба не хватал, и, видимо, сам понимая это, тянулся изо всех сил к административным, руководящим постам, и, судя по всему, как-то сумел там, где надо, показать себя, обратить на себя внимание, что, в общем-то, тоже дано не каждому.
Ещё поговаривали, будто каждый божий день у Сергея Ивановича начинался с непременного утреннего визита к первому, будто во время этого получасового, как правило, визита Сергей Иванович откровенно, как на причастии, делился с широко информированным хозяином дубового кабинета более узкой, местного, так сказать, масштаба информацией, получая при это и вполне конкретные, разумеется, указания по текущим газетным делам. Говорили даже, будто дверь в кабинет к первому Сергей Иванович прилюдно ногой открывал, но тут явный был перебор, поскольку подобные проявления вступали в слишком явные противоречия с характером Сергея Ивановича, прекрасно знающего, где можно, а где нельзя открывать дверь ногой. Да мало ли о чём говорили! Известно, на всякий роток не накинешь платок.
Знал ли об этом Сергей Иванович, слышал ли? Скорее всего, знал. Или догадывался. И от этого ещё тяжелее ощущался тот постоянно давивший на плечи груз, который будто и в самом деле то ли по ошибке, а может, с определённым умыслом, с ловким каким-то расчётом, то ли в награду за что-то, то ли авансом, в счёт будущего, взвалили ему на не очень крепкий хребет – неси, мол, отрабатывай, оправдывай!
И он нёс. И даже спина, как кто-то заметил однажды, ещё больше ссутулилась у Сергея Ивановича. Да он и сам, похоже, это чувствовал: как не в своих санях сидит человек.
Правда, со временем и это прошло. Распрямился. Вот только ощущение не своих саней по-прежнему оставалось. И ладно бы, если б он в них сам ехал! Так нет же – не едет, а тянет. Хорошо ли, плохо ли – другой разговор. Кому надо, пусть тот и решает, пусть поправляют, на всех всё равно не угодишь, всем сразу мил не будешь. Всегда так было. Но они же, говоруны и завистники, не видят этого, знать не хотят, каково ему ходить в этой упряжке. Она лишь со стороны, лишь непосвящённому может показаться такой, какой, вполне возможно, кому-то и видится: мол, ездит себе в чёрной «Волге», сидит в шикарном кабинете, при молодой секретарше, запросто входит к «самому» в кабинет, к тому же и дача казённая есть, а ещё и паёк какой-то…
Знали бы, чего ему это стоило!
Вот и Глеб, как он понял, туда же, понаслушался всяких сплетен, не потому ли и дорогу забыл?..
Минут через тридцать, планёрка только закончилась, он снова позвонил, и Сергей Иванович, прежде чем начать разговор, хотел было сделать ему лёгкое, по старой дружбе, внушение: мол, дружба дружбой, но стоит ли так-то, не слишком ли, при всём честном народе да во весь голос. И в бутылку, мол, тоже нечего лезть, не маленький, не в игрушки играем.
И, помнится, что-то такое он ему и сказал в этом смысле, но Глеб так же бесцеремонно, как в первый раз, оборвал его.
– Слушай, – сказал он, – я звоню тебе не как читатель твоей газеты и не как автор, слава богу, а как старый друг, который не только лучше новых двух, но который и знает тебя как облупленного. Именно это и даёт мне право говорить тебе всё, что я считаю нужным. Впрочем, за тобой это право остаётся тоже.
Сергею Ивановичу, отвыкшему от подобных «любезностей», привыкшему получать внушения лишь от высокого руководства, ничего не оставалось, как принуждённо рассмеяться в ответ, поскольку по-другому он давно уже не смеялся в своём кабинете, да и не только в кабинете, но и вообще.
– Ну ты даёшь, – как бы восхитился он, пытаясь подстроиться под Глебову интонацию, – совсем, гляжу, одичал на вольных хлебах. Как они, кстати, хлеба-то?
– Не хлебом единым, старик! Надо быть выше… А потом, как говорил наш общий друг Пашка, на тощий желудок злее пишется. Благополучие и сытость к добру не приводят и уж тем более не способствуют проявлению подлинного таланта. Впрочем, тебе ни то, ни другое не грозит.
– Ну ладно, ладно, – поморщившись, проворчал Кувшинов, – проявляй, разве я против? А вообще-то ты тоже гусь порядочный. Ни одной твоей книжки у меня нет, хотя библиотека и неплохая.
– Хороших авторов, как и старых друзей, надо беречь.
– Хороших теперь не достать. Разве что у жены, в библиотеке.
– Тебе ли жаловаться? Наверное, на дом привозят, вместе с пайком.
– Давай лучше к делу, – Сергей Иванович развернул на столе первую, только что принесённую полосу, взялся за карандаш, глаза отыскали на полосе нужную, уже набранную информацию.
– Значит, так…
И вот теперь, неторопливо шагая по набережной, он пытался восстановить этот разговор. Нет, мысль о поездке он отставил сразу, ещё там, в кабинете, когда наконец понял, к чему так энергично и настойчиво призывает его Глеб. Какая поездка, какой мальчишник, о чём речь! Смешно, наивно, честное слово. Всё в детские игры играем…
– Слушай, – начал было он, – если реально, если смотреть суровой правде в глаза, то надежд у меня никаких. Считайте, что я с вами! Газета, старик, ты же знаешь. Завтра и послезавтра газетный день.
– Он раньше подавал надежды, – в ответ продекламировал Глеб, – теперь одежды подаёт.
– Глеб, не хами, – сказал Сергей Иванович, – это уже не спортивно. Удар ниже пояса. Ты за меня газету не подпишешь и на ковёр за меня не пойдёшь. Я всё сказал, думай как хочешь.
– Я тоже всё, – отозвался Глеб. – История нас рассудит.
Красиво закончил, нечего сказать: история, видите ли, рассудит! Как будто у истории других забот нет, как разбираться, кто из них в чём прав, а кто виноват! Да она и спрашивать-то их об этом не будет! Всё гораздо проще, не так эффектно, как некоторым доморощенным писателям представляется, и неизвестно, что лучше: попасть в историю или не попасть. И вообще, стоит ли заглядывать так далеко, если завтра… Знать бы, что завтра с нами будет!
С невесёлыми этими мыслями Сергей Иванович дошёл наконец до набережной, присел на свободную лавочку.
– Господи, хорошо-то как! – вдруг вырвалось у него знакомое, когда-то кем-то произносимое. Огляделся по сторонам: не услышал ли кто? Но никого поблизости не было. И тут же вспомнил: Пашка Сенин, это он, бывало, вот так, блаженно закрыв глаза, выражал свой восторг по какому-нибудь подходящему поводу. И вдруг так ясно, так отчётливо вспомнилось, как однажды, теперь и не вспомнить когда, вот в такую же, как нынче, весеннюю пору, немного пораньше, к концу рабочего дня, вышли они из редакции, вся их компания, великолепная пятёрка, и, не сговариваясь, в молчаливом согласии, направилась вот сюда, на набережную, этим же маршрутом, по Учительской, минуя Советскую и Вольного Новгорода. Был, кажется, гонорарный день, а может, день зарплаты, и настроение у всех было соответственное, весеннее, и не хотелось так рано расходиться по домам.
А здесь, на набережной, вон там, прямо напротив речного вокзала, ларёчек стоял пивной, зелёненький, а за ним, прямо в кустах, в скверике, обычно бочки пивные сгружали, и так хорошо, так славно было в жаркую пору или вот так же, под вечерок, взять по кружечке пива, забраться в этот тенёчек, от посторонних глаз, и потягивать холодное пивцо потихонечку, толковать о том, о сём, покрякивая, постанывая, наслаждаясь свежим пивком. Впрочем, неплохо было и на солнышке, у ларька, прямо у перил чугунных. Тут общий с мужиками был разговор, тоже интересный, познавательный.
И тогда, помнится, они взяли по гранёной тяжёлой кружке, встали в кружок, попивали пивцо, на девчонок, прогуливающихся по набережной, поглядывали, а Лёня Шиманов, фотокорреспондент, отошёл в сторону и сфотографировал их компанию. Фотографию эту вспомнил, – как стоят они, молодые, потешные, и Парамон ещё среди них в своей кепочке-московке с мягким, неломающимся козырьком, и Глеб долговязый, ещё без бороды, естественно, и Митька, он тогда только в редакцию к ним пришёл, и сам он, Сергей, тоже гусь ещё тот, ну и Пашка, конечно. Стоят с кружками в руках, а над кружками белая пена, а на лицах у всех блаженство. Так и слышится Пашкино вожделенное «Господи, хорошо-то как!», произнесённое им после первого, самого желанного и затяжного глотка.
В самом деле, подумал он, хорошо-то как было! Спросить почему – и не скажешь! Просто необъяснимо хорошо. Да и не спрашивали они тогда, не ломали головы, почему да отчего – молодые были. А молодость, когда ей хорошо, подобных вопросов не задаёт.
И стало грустно отчего-то, может, от этой привычки благоприобретённой – жить и оглядываться, подстраховывать себя на каждом шагу, а может, от мимолётного этого воспоминания, от ощущения необъяснимого счастья, которое было когда-то и осталось там, в далёкой их молодости, в тех освещённых майским солнышком, улыбающихся лицах, в неповторимых минутах, когда им было так хорошо.
В кухне за завтраком, когда жена потчевала его надоевшей овсяной кашей, Сергей Иванович сидел насупившись, едва шевелил ложкой. Не доев и половины тарелки, отодвинул её. Нина Степановна, ещё с вечера заметив, что муж заявился домой как бы не в себе, решила на ночь глядя не приставать к нему с расспросами. А тут спросила:
– Что-то случилось, Серёж?
– У меня, как ты знаешь, каждый день что-то случается, – хмуро ответил он, – работа такая.
– Не нравится, откажись. Я давно тебе говорила.
Сергей Иванович хмыкнул, досадуя на жену, покачал головой: эк, мол, куда хватила!
– А что тут такого, – удивилась она, – поработал и хватит, пусть другие попробуют. Зато сразу гора с плеч. Посмотри, на кого стал похож… Псих ненормальный.
Разговаривать не хотелось, да и о чём? Об этих глупостях?
– Тебе от Глеба привет, – вдруг ни с того ни с сего сказал он жене. – Вы в своей библиотеке его портрет ещё не повесили… рядом с классиками современной советской литературы?
– Именно это он и просил передать? – насмешка, с какой он говорил, не ускользнула от неё. – Зря ты так, с иронией. Писатель он, может, и средний, каких нынче много, но, в отличие от некоторых, на стенку, под бочок к классикам, не лезет.
– Это точно, – согласился Сергей Иванович, – он цену себе знает.
– Тоже неплохое, между прочим, качество, не переоценивать себя. Некоторые и этого лишены даже.
– Булыжник в мой огород? – он взглянул на неё исподлобья, готовый к ссоре.
– Ну так что он? – не отвечая мужу, спросила почти безразлично. – Звонил или заходил?
– Зайдёт он, как же! Живые классики нынче мимо ходят. Звонком осчастливил.
По правде сказать, ему не хотелось заводить этот разговор, о вчерашнем звонке рассказывать не хотелось. Это были его дела, жены они не касались, и нечего было их обсуждать. Как-нибудь сам.
Нужно сказать, что и прежде, в далёкую пору, когда Сергей Иванович и его жена были молоды, когда совместная жизнь у них только налаживалась, их отношения и тогда уже не отличались особым взаимопониманием. То есть Нина Степановна была бы и рада, поскольку сама-то она была с Сергеем всегда и во всём откровенна, никогда ничего от него не скрывала, да и что ей скрывать-то, перед кем? Перед мужем?
У Сергея Ивановича, при скрытном и несколько замкнутом характере, так не получалось. Всё, что знал он о жене, бывшей его сокурснице по педагогическому институту, что узнавал и открывал в ней потом, изо дня в день, живя уже вместе, – всего этого, как понимал он, ему вполне хватало, чтобы считать, что они знают друг о друге всё, что доложено знать, а остальное…
К тому же и самое главное, что до поры для обоих было тайной, что прежде, в течение нескольких лет, мучило их обоих, и эта тайна обернулась вскоре печальным и окончательным приговором, – что детей у них так и не будет и что он, Сергей, в этом не виноват.
В то трудное для обоих время Сергей был не всегда на высоте, и многое, что происходило с ним в ту пору, он вспоминал теперь с неохотой, порой даже с запоздалым зубовным скрежетом, с досадой на себя. Хотя и другое было и по-другому вспоминалось: легко, без угрызений, без сожаления. Жизнь есть жизнь.
Тогда-то и вышла с ним жалкая эта история, о которой только двое на свете и знали, он сам и Лера, вдова покойного друга, Юры Парамонова. История скверная, что и говорить, и он уже плохо помнит, что же толкнуло его тогда на этот постыдный шаг, как и почему он оказался у неё в тот вечер, пьяный, да ещё с бутылкой дешёвого какого-то вина, какую чушь он порол, сидя у неё в маленькой кухне? Зачем-то печалился на судьбу, намекал на неудавшуюся семейную жизнь, на одиночество, выворачивая с пьяных глаз себя наизнанку, и если бы только это…
Но что особенно мучило и при одном лишь воспоминании бросало в холодный пот – это слова, которые он услыхал от неё на следующий день по телефону. «Теперь мне всё про тебя ясно, Серёжа, – сказала она, – и не оправдывайся, я всё про тебя знаю».
Вот это и тревожило, не давало покоя: чего же ей ясно-то стало и что такого она узнала о нём? Так уж и всё?
Пожалуй, с тех пор то ли он старался избегать её, то ли она, а скорее всего, им обоим не хотелось встречаться друг с другом. Иногда, очень редко, просто случайно виделись, но и только.
Словом, была у Сергея Ивановича, как, впрочем, и у каждого, своя жизнь, а в жизни этой было такое, в чём даже перед самыми задушевными и близкими друзьями, и уж тем более перед жёнами, пожалуй, вряд ли потянет исповедоваться.
– Так о чём он? – не дождавшись ответа, переспросила жена. – Случилось что-нибудь?
– Почему непременно что-то должно случиться? – тихо раздражаясь, сказал он. – Просто так человек позвонить не может?
– Когда человек молчит столько лет, а потом вдруг звонит…
Сергей Иванович усмехнулся:
– Железная логика! Вот что значит с утра до вечера с умными книгами общаться. Ну, случилось. Парамону завтра пятьдесят исполняется.
– А что Глеб?
– Напомнил, видишь ли. Решил, что кроме него… Предлагал собраться, отметить. За свою инициативу выдаёт.
– А чья же инициатива? Ты же не проявил, насколько я понимаю.
– Мне больше делать нечего, – Сергей Иванович отодвинул чашку, взглянул на часы. Пора было идти на работу, но что-то удерживало его за столом.
– Не пойму, ты-то что кипятишься, в чём проблема? Кто первый инициативу проявит? Смешно, ей богу!
– Взял, видите ли, на себя роль ревизора нашей совести, будто без него все забурели окончательно. Тоже мне, совесть народа!
– Ну и бог с ним, – успокоила она его, – пусть потешится, а ты, – она вдруг загорелась, – ты возьми и выйди, как у вас пишут, со встречной инициативой. Пригласи ребят в гости. Пусть приходят, и с жёнами. А что? Я уж забыла, когда у нас гости-то были, распугали мы всех… Или сами всех стали бояться, но так же нельзя, Серёжа!
– Ну, хватит! – оборвал он её. – Как панихиду справляешь.
– Чего ты сердишься, я же как лучше… И повод хороший. Собери ребят, стряхни с себя свои комплексы. И Леру позвать можно, – вдруг предложила она.
– А Лера-то здесь при чём? – не сразу сообразил Сергей Иванович.
Нехорошее подозрение шевельнулось в нём, и он осторожно взглянул на жену.
– Здрасьте! – усмехнулась она вполне добродушно. – Если, конечно, она сама вас нынче не позовёт.
– Да нет, – решил признаться Сергей Иванович, – есть тут одно предложение… Не знаю, у кого там, у Глеба или у Митьки, фантазия под старость разыгралась. Экскурсию в счастливую юность возмечтали совершить, мальчишник устроить на острове, как когда-то… Помнишь?
– У-у! – Нина Степановна всплеснула руками. – Ты ещё спрашиваешь, помню ли? Не знаю, как ты, а у меня от ваших мальчишников до сих пор мурашки по спине. Как вспомню, какими хорошенькими возвращались…
– Они. А я-то здесь при чём? – оскорбился Сергей Иванович.
– Забыл? Три дня приходил в себя после этих прогулок.
– Ну не три, положим. А потом… когда это было! Я уж забыл, как это делается.
Он всё сидел за столом, всё ждал чего-то.
– Не пойму, – спросила Нина Степановна, – ты меня или себя уговариваешь? Я же тебя не держу. И никогда не держала. Ты в самом-то себе разберись, чего сам-то хочешь.
– А я и не знаю, чего я хочу, – признался Сергей Иванович, – вот живу и не знаю. – И вдруг, сам не ожидая того, поднялся из-за стола с решительным видом, будто сейчас – и в воду! – А может, и правда! Может, послать всё к чёрту и махнуть на денёк, как ты считаешь?
Она, улыбаясь, смотрела на него, пытаясь не показать своего тайного удивления: в кои-то веки посоветоваться решил… К чему бы это?
– А что, в самом деле, – он прижал руку к груди – дух перевести, – а то вчера шёл домой, голова от свежего воздуха кругом, хоть под выхлопную трубу ложись. И вот здесь что-то…
Нина Степановна насторожилась:
– Ну вот, а туда же! Сходил бы лучше кардиограмму сделал, а то протянешь ноги на своём острове.
– Тоже выход, – хохотнул Сергей Иванович, – там, глядишь, и закопают верные друзья, им не привыкать. Как Наполеона, помнишь?.. На острове том есть могила, а в ней, мол, редактор зарыт… И как там дальше-то, очень существенно, – начал вспоминать он, – «…зарыт он без почестей бранных врагами в сыпучий песок…» Всё верно, всё по жизни. А где друзья, где враги, тут ещё разобраться надо.
– Разберись, разберись, – усмехнувшись, посоветовала она, – давно бы пора. И в себе заодно.
5
А ведь с Юрки, с Парамона, если вспомнить, всё началось, с его старенькой дюралевой лодки-казанки, которую он приобрёл той весной. По самое днище вросшая в илистый берег, давно брошенная, видно, забытая своим хозяином, она валялась вверх дном на городской лодочной станции, вытаивая из-под снега по весне, ржавея, зарастая за лето приречной травой.
Тут Парамон и приметил её однажды, понаблюдал за ней день, другой, сообразил, что ни хозяина, ни других охотников на эту посудину нет, и возгорелся идеей…
Уговаривать старика-сторожа долго не пришлось – лодка и в самом деле оказалась бросовая, бесхозная, только картину портила своим сиротским видом, – сговорились по-доброму, за «стольник», ну и бутылку, само собой, в придачу, которая там же, на берегу, и была оприходована участниками этой сделки – за то, чтобы всегда было шесть футов под килем, чтобы хорошо и много ловилось и чтобы вообще всё было тип-топ!
Вытащил Парамон посудину из этой трясины, как из небытия, отчистил, отскоблил, зашпаклевал и покрасил, недели две по вечерам на станцию ходил – не лодка, а игрушка получилась. Днище и борта голубые, как небо, а нос и корма – белая нитроэмаль. Лебедь, да и только!
А вскоре и мотор подвесной отыскался, тоже не новенький, но вполне исправный движок марки «Вихрь». И вот, преисполненный добрых намерений, он заявился однажды утром в редакцию. Вошёл в кабинет к Пашке Сенину, где в это время, как обычно по утрам, собиралась вся компания: и Глеб, и Серёга, и Митька, самый молодой из них, салажонок ещё газетный, без году неделя в редакции.
Входили в кабинет друг за другом, обменивались разными новостями, и кто-то уже вдохновенно стучал на машинке, кто-то кричал в телефонную трубку, добывая в номер свежую информацию, и над столом, заваленным гранками, газетами и журналами, над головами уже стелился дым от первых утренних сигарет.
– Всё дымите, щелкопёры несчастные, – Парамон остановился в дверях и оглядел приятелей загадочно-насмешливым взглядом, – всё заигрываете со своим доверчивым читателем, пытаетесь убедить, что трудовые будни праздники для нас, а сами!.. Вы на себя-то поглядите! Погрязли по уши в этих праздничных буднях, не замечаете, что под носом творится. А под носом-то, братцы, творится весна, и она, как вы сами понимаете, шепчет, да что там шепчет – кричит, взывает, требует… Очнитесь от зимней спячки, – он даже руки воздел к потолку, призывая друзей очнуться, опомниться, – внемлите голосу разума. Я пришёл к вам, бледнолицые мои братья, чтобы спасти вас, а заодно и ваших читателей от тягомотных проповедей, которыми вы потчуете их из номера в номер. Доверьтесь мне, заблудшие в греховных делах и мыслях, и я укажу вам путь к желанной свободе, то есть к самим себе, ибо нет ничего желаннее и достойнее, чем освободить себя от власти над самим собой…
Вот такой монолог закатил Парамон в то памятное майское утро. Немало озадачив своих «заблудших братьев» загадочным обещанием – указав путь к свободе, он объявил, что в ближайшую субботу состоится спуск на воду маломерного судна водоизмещением в четыре с половиной, как минимум в пять человек, – при этом он пересчитал, что называется, по головам собравшихся в Пашкином кабинете – и что предприятие это приурочено к другому, не менее важному событию – его собственному дню рождения, который и предлагается отметить коллективной поездкой за город. Нужно ли говорить, в какой восторг пришла вся компания, нужно ли вспоминать, в каком нетерпеливом ожидании жили они всю неделю, как готовились к этой поездке! А Пашка Сенин даже «боевой листок» с эпиграммами выпустил, озаглавив его так: «Даёшь пампасы!»
Да, много с той поры в Волге воды утекло и многое уже забылось: и как собирались, как спорили, куда плыть, то есть идти, выражаясь по-флотски, вверх или вниз по течению, и как наконец сошлись на том, что лучше идти вниз: там поразливистее, попросторнее, а стало быть, и рыбаков не так густо, и больше надежды отыскать заповедное местечко, чтобы и они никому и им никто не мешал, чтобы дровишки были для костра и чтобы рыбка, само собой, ловилась. Какой же мальчишник без ухи!
Тут, впрочем, не только на рыбные места, но и на Пашку была надежда: из их компании они вдвоём, пожалуй, Пашка да Парамон, настоящие-то рыбаки, но Пашка к тому же и уху варил мастерски. А остальные в основном на подхвате: палатку поставить, дровишек к костру поднести, картошку почистить, ложки, плошки сполоснуть…
Впрочем, все эти способности, как и обязанности каждого, со временем открывались, а тогда, в те далёкие майские дни, в канун своей первой поездки, все они жили одной нестерпимой страстью: скорей бы!..
И вот наступил этот день, долгожданное это утро, когда Юркина лодка, оглашая свиристящим мотором пробуждающиеся, нежно зеленеющие берега, понесла их вниз по Волге-матушке, всё дальше и дальше от города. Сидели в лодке, стиснутые рюкзаками и прочей кладью, шалея от желанной свободы, от обжигающе студёных брызг, бьющих в лицо, от упругого свежего ветра; вертели головами, обшаривая берега жадными, соскучившимися по простору взглядами, выхватывая на ходу то весёлый кустарничек, то лесочек живописный, вдруг поманивший с откоса обещанием уютного привала, и кто-нибудь, соблазняясь помнившейся красотой, кричал Парамону, сидевшему на корме за рулём: давай, мол, заруливай, причаливай давай! Будто узрел наконец землю обетованную.
И Парамон, счастливый от сознания своей «вины» перед друзьями, своей причастности к их радости, послушно направлял лодку к берегу. Но и опять, как уже было не раз, вдруг обнаруживался некий обман: что-то снова было не то и не так, как хотелось бы: либо берег слишком низкий и топкий, не причалить, либо место для рыбалки неудобное, мелковатое – огорчённые, разворачивались, шли дальше.
Кто знает, куда бы заплыли они в тот день, если бы Парамон не углядел и не крикнул:
– Парни, смотрите, – он даже привстал в лодке, потянулся вперёд и телом и взглядом, – красота-то какая! Облака на воде!
Вдалеке, в сизой утренней дымке, в лёгком, ещё не рассеявшемся тумане, над заголубевшей под ясным небом водой, под недвижными, будто повисшими облаками, будто их отражение, плыли другие, такие же белые, такие же причудливо-воздушные, лёгкие облака. Они словно опустились на воду и клубились белой пеной в розоватом от солнца тумане, и всё это походило на сказку, точнее, на живописную иллюстрацию к дивной какой-то сказке, вдруг ожившей прямо у них на глазах.
Взревев мотором, поднимая за кормой радужный хвост, лодка снова легла в крутой вираж и весело понеслась к дальнему берегу, к тем сказочным облакам. И чем ближе подходили они, чем отчётливее вырисовывались очертания приближающегося берега, поросшего кустами буйно цветущей черёмухи, которые и казались облаками, тем яснее становился этот красивый обман, но зато чётче, подробнее обозначалось и многое другое, не примеченное издалека: и тихая заводинка в прибрежных кустах, в которой, казалось, только закинь удочку, и окуней – таскать не перетаскать, а выше, если поднять глаза, – и светлый березнячок, взбежавший от реки на высокий угор, под защиту могучих сосен, курчавыми богатырями выстроившихся над песчаной кручей…
Всё это разом увиделось стосковавшимися по берегу глазами и тут же отозвалось в душе удивлением и радостью: вот оно, то самое!..
Но и это, оказывается, была только присказка, сказка ждала впереди…
Чуть позже, пообвыкнув, пооглядевшись, не желая откладывать важное дело на потом, прихватили топоры, полезли всей артелью на гору, по крутому сыпучему откосу, к тому лесочку сосновому и берёзовому. Дровишек решили заготовить, чтобы на всю ночь хватило. Майские ночи-то обманчивые, мало ли что… Лезли друг за дружкой на эту крутизну, ногами и руками цеплялись то за кустик, то за кочечку, осыпались вместе с песком и снова, похохатывая, карабкались, но одолели наконец, осилили. А как поднялись с четверенек-то, как распрямились да побросали топоры, чтобы дух перевести, тут и снова ахнули: они же на острове!
С минуту, наверное, стояли вот так, поражённые, онемевшие не столько от усталости, когда нет сил даже слово сказать, сколько от удивления, от неожиданной этой красоты, вдруг открывшейся перед ними отсюда, с холма, а может, с кургана, с поднебесной почти высоты. Откуда взялась она, из чего сложилась необъяснимая эта красота – поди разберись! Казалось, всё те же знакомые краски, всё те же цвета, ни яркости, ни пестроты, – всё из воды, из зелени и света, да вот ещё деталь, такая же неброская, случайная почти – деревенька там, на берегу, а вот поди ж ты, замирает душа в непонятной и словно от удивленья растерянной радости: да как же это, где же я раньше-то был! Не видел, не знал, а мог бы и вообще никогда не увидеть, если не привела бы судьба!.. А сколько же мест, подумать, ещё есть и останется на земле, которых не суждено нам увидеть ни разу: ни подивиться, ни порадоваться, ни замереть в немом восторге…
– Господи, хорошо-то как! – Пашка возликовал наконец. – Да за что же нам, грешным, благодать-то такая! – И вдруг его осенило. – Братцы, – снова воскликнул он радостно, – да оглянитесь, ведь вы даже не понимаете, что произошло, неужели не догадались? – Он словно подталкивал и подталкивал их к какой-то очень важной разгадке. – Мы же остров открыли, наш остров, представляете. – И заорал во всё горло: – Братцы, эв-ри-ка!
При общем ликовании, каким вполне могло бы ознаменоваться открытие какого-нибудь доселе неизвестного острова, скажем, в Тихом или Атлантическом океане, поволжские островитяне схватились за топоры и принялись крушить направо и налево сосновый и берёзовый сушняк. А через час внизу, на зелёной лужайке, огороженной от ветра молодым приречным кустарничком, разгорался, потрескивая, набирал пылу и жару их первый костёр.
А вечером была уха, тоже самая первая и потому, наверное, самая вкусная, хотя и потом получалось неплохо. Но тот первый вечер вообще был особенный. И рыбы Юрка с Пашкой наловили – больше некуда, и ушицу они ели из общего котелка, стучали по краям деревянными ложками, аж покрякивали от удовольствия, и пилось хорошо, и пелось, и даже старенькая Митькина гармонь, когда настало её время, вдруг зазвучала удивительно молодо, ясным каким-то звуком, будто и она тоже стосковалась в городе по чистому воздуху, поохрипла там от курева, от всяких простуд и вот теперь оклемалась, прочистила заскорузлые свои мехи, повеселела.







