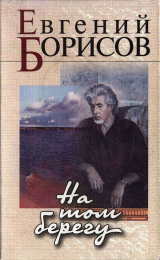
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Гром прокатился над самой дорогой, словно телега, груженная порожними бочками, пронеслась, подпрыгивая, по ухабам. И ударил дождь. Он будто ждал этого сигнала. И тут же, снова прогромыхав по дороге, невидимая телега с налёта треснулась о сосну, и покатились, заухали пустые бочки.
Всё это было, и виделось, и слышалось Андреем не раз. И дома, в городской квартире, когда гроза, не вызывая страха, шумела за наглухо закрытыми окнами, и на улице, и так же, как теперь – в лесу, когда вместе с невольным, словно вымораживающим душу страхом гроза приносила и другое – мятежную, раскованную радость, от которой замирало сердце и хотелось кричать, заглушая гром, смеяться беспричинно, с вызовом, утверждая себя перед собственной слабостью и близко живущим страхом.
И теперь, поражённый этой отчаянной лихостью, Андрей пустился было бежать по дороге, всем телом ощущая литую силу дождя и свою собственную молодую силу.
Лена, приотстав немного, тоже бежала за ним, и он остановился, нетерпеливо приплясывая на месте, стал поторапливать её, а потом, поймав её руку, увлёк за собой под сосну, густо развесившую ветви над дорогой. И, не остывший ещё от смутной досады, с которой только что думал о жене, готовый, однако, повиниться перед нею, он взглянул на неё и удивился – такое беспокойство, такой отчаянный страх и смятение отразились вдруг в её широко распахнутых глазах. Гроза или что-то другое так испугали её? А может, он, Андрей, был виноват в этом её испуге?
И снова, в который раз, раскололось небо над землёй, над их головами, и тут же, может, опережая, а может, догоняя этот отчаянный треск, полыхнуло перед их глазами белым столбовым пламенем. Лена припала к Андрею, мокрая и горячая прижалась к его груди и задрожала, забилась в испуге.
И словно молния мелькнула догадка: «Ребёнок! Наш ребёнок! Ведь он же с нами, он здесь! Ведь не одни мы теперь… Это его она защищает, и страх этот и тревога – всё от того же! А я-то, дурень…»
Страшно, безудержно хохотала в лесу гроза. Но с этой минуты все живущие на земле страхи, и близкие и далёкие, соединились для Андрея в один, не за себя, не за кого-то ещё – все за неё, которая была рядом, и за того, которого ещё нет на земле, но кто уже существует во всём, чем живут, что видят и чувствуют они сами: в грозовых раскатах, и в дымном шквале дождя, и в этой раскисшей вмиг дороге, по которой ведёт их теперь судьба.
Всё это, верно, приходит не сразу – и ясность мысли, и понимание непростых своих обязанностей на земле, когда не столько за себя, сколько за других, близких и дальних, начинает одолевать тревога… Но это приходит. К кому-то раньше, к кому-то позже… Позднее он, может, не раз вспомнит об этом, но в этот миг он думал о другом… С трудом скрывая растерянность, ненавидя себя в беспомощности своей, он думал о том, что было выше его сил, что не было подвластно его воле, его желаниям: ну как, как сможет он уберечь их от беды, если эта беда не в них самих, не в нём и не в ней, а в этой вот или в какой-то другой, ещё неведомой стихии? Тут не прикроешь плащом, не загородишь собственным телом, тут всё – один миг, один шаг, один вздох.
И, глядя на полыхающие молнии, всё сильнее, с беспокойством прижимая Лену к себе, он, каждый раз обмирая сердцем, желал, чтобы опять и на этот раз пронесло, чтобы из множества незаказанных небесных кривых дорог молния не выбрала эту короткую дорогу – к дереву, под которым укрылись они.
И было страшно, жутко думать, что вот сейчас, не в эту, так в другую минуту… И так хотелось, чтобы всё это кончилось скорее, и безобидными, невинными казались ему все прочие земные тревоги. Да, да, кончилось бы это, а другое, может, и не придёт или промчится стороной…
Скоро гроза и впрямь стала затихать, откатываться с недовольным, ворчливым рокотом; и занялась, заклубилась паром вволю напоенная земля. Как будто под каждым кустом, под каждой ёлкой кто-то успел развести самовары.
Они бежали по тёплым лужам, мокрые и счастливые, и уже были готовы смеяться над только что пережитым собственным страхом. И солнце уже снова припекало вовсю.
Лишь гром, удаляющийся, с угрозой рокочущий над чьими-то крышами, над чьими-то головами, напоминал им о только что промчавшейся грозе.
ПЕЛАГЕИНЫ СНЫ
Когда, в какую ночь началось это, Пелагея не углядела: вдруг стали её ночи слепы и пустынны, ни начала у них, ни конца, ну точь-в-точь – испорченный зятев телевизор, у которого то ли лампа, то ли деталь какая перегорела, а заменить нечем. Утром проснётся Пелагея, на душе пусто, словно омелела она вся до самого донышка, как речка без притоков: ни зыби на ней, ни всплеска. И тоска! Пустая, безликая: по кому, отчего, не поймёшь. Сушит душу, и всё.
А ведь было, было времечко, являлись Пелагее разные сны!.. Бережливая во всём, она и сны свои хранила в памяти и даже почитала по-своему, не суеверно, не со слепой безысходностью, не как некоторые суматошные подружки её, которые от дурных видений, бывало, чуть ли не к проруби студёной бежать норовили; свои сны Пелагея принимала так, будто это и не сны были вовсе, а доподлинная её жизнь, от которой, известное дело, просто так рукавом или хворостиной не отмахнёшься: что привиделось – всё твоё.
Светлые и чистые, как яблоневый цвет, стыдливые и жаркие, как девичий румянец, приходили они к ней короткими ночами, и каждый, хоть как его толкуй, сулил такое, от чего весь день, бывало, в сладком хмелю кружилась голова и в трепетном испуге, в предчувствии тайного и желанного, пойманным перепелёнком колотилось под ситцевой кофтёнкой пугливое девичье сердце.
Перед самой войной привиделось Пелагее… Ромашковый светлый луг над Малицей-рекой, звенящая тишина кругом, небо пронзительно-ясное, без единого облачка, и они вдвоём на этом залитом солнцем лугу – она и её Иван, плечистый, русоволосый, в огненно-красной рубахе. Он нёс её на руках по лугу, нёс долго, не уставая, и ромашки хлестали, помнится, длинными своими стеблями по её загорелым ногам.
Потом не раз она спрашивала себя: была ли у Ивана такая рубаха? Даже рыться принималась в сундуке, ворошила, перебирала оставшееся Иваново бельё, но нет, не попадалась на глаза красная мужнина рубаха.
Странно было и то, что поначалу этот сон – с красной, будто полыхающей огнём рубахой – не смутил Пелагею, не потревожил. Всё было ясно и понятно ей в нём. «Ромашковое поле, – решила она, – это наша с Иваном жизнь. Стало быть, жить нам с ним в мире и долгом согласии…»
Так и жили бы, как во сне привиделось. Только сроки мирной жизни для людей не снами, а явью были отпущены. Перед самой войной у них дочка родилась, Клавдией назвали. Молодой отец едва успел взглянуть на неё, как дружки-приятели потянули его от любимой жены к колхозной полуторке: человек десять даниловских мужиков по весне, едва отсеявшись, с развесёлыми песнями, с домашними узелками уезжали из деревни на военные сборы. Петушились, подсмеивались над бабами, которые ревмя ревели, провожая их. К сенокосу обещали вернуться. Тут-то она и подкатила, распроклятая…
Года не прошло, принёс почтальон Пелагее казённое письмо, а с ним другое – от танкистов, Ивановых однополчан. Те сообщили, что погиб её Иван как настоящий герой – заживо, в горящем танке, не сдавшись врагу…
Будто калёной иглой кольнуло тогда в сердце: вот же она, красная та рубаха! Ох ты, господи! И долго ещё казнила себя за то, что обмишулилась, не поняла тогда свой сон. Словно от ошибки этой, от недогадливости её стряслась эта непоправимая беда.
В ту пору Иван часто являлся к ней во сне. Она видела его живым и здоровым, и её не смущало, что с годами он не менялся в своём облике: время, такое безжалостное к ней самой, да и к другим, её односельчанам, как бы обходило его стороной. Вот только ромашковый луг с тех пор не снился ей больше. Видно, отходила, отгуливала своё, видно, для других пришла пора глядеть ромашковые да сиреневые сны.
Для дочки, Кланьки, к примеру…
Выправлялся, вылезал из послевоенной прорухи колхоз. Однако лет десять ещё старые скотные дворы каждой весной новыми тесинами подпирались, пока до серьёзного строительства руки не дошли. Вот тогда-то и появилась в Даниловском строительная артель – шесть мужиков. Пятеро-то были в возрасте и, по всему видать, хлебнули лиха на войне: один с деревянной культёй заместо ноги, другой без руки, без левой, третий тоже не орёл, в гимнастёрочке линялой, с нашивками за ранения на груди. А один, помоложе да посвежее других, прораб ихний, всё в белой рубашечке по деревне расхаживал. Скотный двор возводили на главной усадьбе, а ночевать мужики в соседнюю деревню ходили, где вдов побольше, а стало быть, и попросторнее в избах. Бывало, дело под вечер, мужики отстукают своё топорами, отзвенят пилами и разойдутся по домам, и лишь одна рубашка белая дотемна по селу мелькает. Как же, прораб, дело такое!
Как-то к ночи заждалась Пелагея дочку, вышла кликнуть её на крыльцо, и – батюшки! – белая-то рубаха возле дома стоит, калитку подпирает…
К зиме артельщики, как ни волынили, управились наконец со стройкой. Уехали. А по другой весне прораб, Фёдором его звали, за Кланькой пожаловал, с собой в город увёз. Наведывались редко и письмами тоже не баловали. Пелагея хоть и скучала, но не сердилась на дочь: жива-здорова, ну и ладно! Своя жизнь у дочки, и дай-то ей бог!
Одно смущало: не первый год живут, а всё одни да одни. Небось пора бы! При случае, когда наезжали молодые, обычно по осени – за картошкой да за грибами, – бывало, не удержится, спросит шепотком:
– Клань, а Клань, когда ждать-то? Не надумали ещё?
Та отмахивалась:
– Да брось ты, мам! Самим бы на ноги встать. Того нет, этого нет, жизнь такая…
«А какая ж она такая, жизнь, – тихо дивилась и печалилась Пелагея, – чай, и теперь не на головах стоят? Фёдор в строительное начальство вышел, а Кланька на главного товароведа выучилась – куда же выше-то?»
Но вот и порадовали наконец: с внуком, мол, бабка! Пляши!
А скоро и сами явились. На легковой машине подкатили прямо к дому: гляди, деревня, любуйтесь, соседи, какие у Пелагеи дети-внуки, какой зятёк солидный. Из машины вылезли, оба нарядные, у Фёдора брюшко молодое, не нагулянное ещё. И хоть была на нём белая рубашка, однако ничто, даже отдалённо не напоминало Пелагее о том прежнем парнишке-прорабе, который бегал когда-то по деревне да обивал по вечерам их крыльцо.
«Ну, теперь-то, видать, встали на ноги, – отметила для себя Пелагея. – Вот и машина своя..»
Пока хлопотала, собирая на стол, всё на гостей поглядывала, молча жалела, что одни, без внучка пожаловали. Не привезли показать. А она-то ждала, она-то надеялась и всю деревню оповестила, дура старая, что внучка везут… Однако огорчение своё шибко не высказывала, решила: придёт время, сами скажут, объяснят, что к чему.
И всё же заметила чутким от одиночества глазом: что-то суетлива нынче дочка. За всё хватается, тарелки у матери из рук так и рвёт, так и норовит скорей её что-нибудь да сделать. А глазами чуть встретятся – взгляд в сторону.
И зять озадачил тоже. Двух слов с дороги сказать не успел, а уже напустил на себя заботу: молчаливый, поджав нижнюю губу, он долго вышагивал взад-вперёд по избе, точно мерил её шагами вдоль и поперёк, и всё что-то разглядывал на потолке да по углам, а потом и вовсе озадачил Пелагею – стал упружисто пробовать ногой рассохшиеся половицы, будто к потолку подпрыгнуть хотел, хотя до потолка-то рукой подать; половицы скрипели, прогибались под тучной тяжестью зятя, и посуда на буфетных полках нервно побрякивала, отчего у Пелагеи начинало тревожиться сердце от дурного какого-то предчувствия.
Кланька краем глаза, чего бы ни делала, следила за мужем с заметным, ей одной понятным неодобрением. Однако помалкивала.
«Уж не починить ли мне пол зятёк собирается? – предположила Пелагея. – Вот бы уважил! А не то, не ровен час, и в подпол упаду с такими-то полами…»
Но вот и сели за стол. Пелагея, не зная, как выразить свою радость, и жалея, конечно, что всё же не полной получилась она, не удержалась, всплакнула.
– Вот и ладно, вот и свиделись, – причитала она. – А мне-то радость какая. Давеча вижу, кошка на крыльце намывается, ну, думаю, не иначе, мои грянут. Жаль, без внука, но ведь и то сказать, мал он ещё по гостям ездить. Даст бог, может, свидимся.
Не ведая того, Пелагея сама и начала этот разговор, ради которого молодые в гости приехали. Не то чтобы начала – подтолкнула зятя.
– А отчего же не свидеться, – тут же и подхватил Фёдор, – хоть завтра, если душа пожелает. И не здесь, а у нас, в городе. Полным семейством, так сказать.
Он поглядел на Клавдию, вдруг словно закаменевшую за столом, подмигнул ей: ну вот, мол, как всё гладко идёт! Дальше повёл разговор.
– В общем, – сказал он, – дела, мать, такие… Мы тут с Дюшей – это он Клавдию так назвал – посоветовались и решили, что всем нам будет лучше, если ты снимешься со своей халупы, – он обвёл горницу беглым, слегка захмелевшим взглядом, – и к нам на постоянное, так сказать, жительство, на городские хлеба.
Он помолчал, ожидая, что скажет Пелагея, хотя слова её ему, похоже, и не нужны были вовсе, поскольку не было у него никакого сомнения: тёща его разлюбезная спит и видит себя городской жительницей.
– Словом, – продолжал он, – давайте всем миром и решим, как жить будем, как с домом поступим… Люди мы свои, делить нам, как я понимаю, особенно нечего, а другим тоже не резон оставлять. Хоромы, конечно, не ахти, но если с умом, если среди городских поискать, я думаю, любитель природы найдётся. Я тут прикинул…
Что было дальше, какие слова и о чём говорили Фёдор и Клавдия, всё это Пелагея слышала плохо. Всё в ней с той минуты как бы разделилось надвое: наполовину она жила разумом – и слушала и понимала, и ничего как будто бы не удивляло её, ничему она не противилась («Ну что же, надо так надо. Им видней»), а на другую половину – душой, которая словно оглохла и не принимала, не слышала слов. Они блуждали над столом, толкались в её душу, а душа шептала ей: не принимай, противься, не сговаривайся. Потому она и сидела молчком, с чем-то машинально соглашалась, кивая безответно головой, и как сквозь сон добирались до неё утешительные, напористые Клавдины слова:
– Да ты пойми, мам, никто тебя не собирается выживать из твоего дома, живи на здоровье. Мы ж как лучше. И для тебя, и для нас. Ну что ты тут одна, ей-богу? С твоими-то ногами. Я ж вижу, еле ходишь. А там… там мы рядом, в больницу, если что, в любой момент. И Мишка тебя ждёт не дождётся. А насчёт продать или не продать, так это Фёдор не теперь имел в виду, а вообще. Мало ли как сложится, дело такое…
Она вдруг запнулась, смутившись от слишком уж явного своего намёка. Закончила торопливо:
– В общем, чего зря… Поживёшь в городе, пообвыкнешься, и сама, може, назад не захочешь.
Наутро другого дня и собрались. Дуньке Иванниковой, соседке, наказали приглядеть за домом. Козу Зойку тоже ей отвели, так и не решив её окончательной судьбы, а трёх кур, ещё с вечера обезглавленных, Фёдор завернул в полиэтиленовый пакет и упрятал в багажник, в машину. За картошкой и прочим, что осталось дозревать в огороде, Клавдия пообещала к осени приехать.
Последнее, что запомнилось Пелагее, – деревянный, будто кладбищенский стук, сиротливой болью отдающийся в её сердце. Это Фёдор приколачивал крест-накрест доски на двери и окнах. «Зачем это он, страдальчески думала Пелагея, – замка разве мало? И пусть бы видели, знали люди, что не на век я уезжаю».
Она уже сидела в машине, на мягком диване, с Клавдией рядом. Обе тяжело молчали под этот похоронный перестук. Клавдия наконец не выдержала, высунулась из окна.
– Господи, ну что ты так колошматишь-то, на всю деревню! Совсем ненормальный.
Но вот и Фёдор пришёл, сел в машину, хлопнул дверцей, как стрельнул напоследок. Скомандовал сам себе:
– Всё, трогаем!
И поехали.
За долгую свою жизнь Пелагея никуда дальше даниловского болота не выбиралась, а потому и представить себе не могла, как сможет жить она не у себя дома, а где-то на стороне, пусть даже и у родной дочери. При этом не о себе думалось ей – сама-то она, будет надо, как-нибудь проживёт, переможет, а вот как всё это, родное её сердцу, до последней травинки, до последней тропки привычное, ставшее частью её самой, как это всё без неё жить здесь останется? Вот уедет она, думалось ей, и крыша старая на её избе, до которой руки ни у кого не дошли, вовсе прохудится, и пуще прежнего завалится набок крыльцо, и огород без её пригляду заглохнет в траве, у Дуньки, конечно, на всё это рук не хватит, а о Зойке, козе, и говорить нечего – она же, Зойка, от тоски без неё помрёт. Да и всё в Даниловском будет без неё не так, как надо, как было все эти годы, пока она жила здесь, пока ходили её ноги по этой земле. А от этого ей и самой нигде не будет ни места, ни покоя.
А машина тем временем, пыля, проехала вдоль деревни, мимо домов, мимо старух, одиноко стоявших возле калиток, всё мимо, мимо… Урча взобравшись на крутой песчаный угор, она повернула и выехала на большак. Всё знакомое, что при неспешной ходьбе примелькалось за многие годы, вдруг увиделось Пелагее как бы не своими, а чужими, торопливыми глазами пассажира – всё враз отмелькало, пронеслось за окном машины и исчезло.
И вот уже второй год Пелагея – городская жительница. Но видно, для всего живого писан один закон: лишь смолоду можно прижиться на новом месте, старые же корни лучше не трогать. Так и у Пелагеи… Всё, что было в её теперешней жизни – сам город, огромный девятиэтажный дом на берегу Волги, шум трамваев и машин за окном, чьи-то голоса, грохот то поднимающегося, то опускающегося лифта в коридоре, какие-то люди, заявляющиеся по праздникам в гости к молодым, – всё это жило, существовало с ней рядом, за стеной, на улице, в другой комнате, и как бы в ином, так и не узнанном мире. Жизнь сама по себе, а Пелагея сама по себе.
Впрочем, до последнего времени жизнь у Пелагеи шла не так уж и плохо. Грех жаловаться или обижаться на кого-то. Ни козы, ни кур, ни огорода – забот никаких. И все дела-то – с Мишкой, внуком, сидеть, книжки с картинками перелистывать, да за стол, когда надо, усадить, да разлить, да разложить по тарелкам то, что с вечера Клавдией приготовлено, а потом посидеть рядом, попотчевать балованного, поразвлечь шутками да прибаутками, байками да историями разными, которые скопились в памяти за долгие годы.
Бывало, сядут за стол старый да малый, и пойдёт у них разговор.
– Эх, мил человек, – вздохнёт Пелагея мечтательно, – моя бы воля, увезла бы я тебя в деревню, бегал бы ты у меня по травушке, как стригунок во чистом поле. Молоко бы у Дуняшки брали, корова у ей хорошая, добрая, да и Дуняшка сама добрая душа. А може, и Зойка к нам воротилась бы, простила бы мне мою измену, молоко у неё жирное, полезное. Прожили бы без мамкиных булок за милую душу. Как думаешь, прожили бы?
И глядела в ясные внуковы глаза, будто за ним, за Мишкой, было решающее слово. А тот сопел над тарелкой с ненавистной манной кашей, слушая бабку, поддакивал: мол, проживём. И тут же предлагал:
– А давай завтра, баб?
– Эк ты скорый какой! – дивилась она сговорчивости внука, и сама загоралась пуще прежнего, и начинала фантазировать их с Мишкой деревенскую жизнь: как хорошо и как славно складывалась она у них!..
А вечером, придя с работы, Клавдия выговаривала Пелагее:
– Мам, брось ты парню голову морочить. Весь вечер про пастуха, про Коляню рыжего, мне рассказывает. Наговорила ему незнамо чего, вот он и…
– Так это ж Колька, пастух-то наш даниловский, – напоминала Пелагея забывчивой дочке, – аль забыла? Так он же рыжий и есть.
– Мам, ну что ж я, Коляню, что ли, не помню? – сердилась Клавдия на Пелагею за непонятливость. – Я к тому, зачем он дался тебе? Мишке-то он зачем? В пастухи, что ли, его готовишь?
Обиженная Пелагея уходила к себе в комнату, где рядом с её кушеткой стояла Мишкина кровать. Тихо укладывалась на ночь, а потом, уже лёжа в постели, молча просила у кого-то, чтобы и в эту ночь пригрезился ей сон и чтобы в этом сне увидела она хоть краешком глаза свой дом в Даниловском, свой огород и яблоню под окном, и козу Зойку, а также соседку свою, Дуняшку Иванникову, ну, а прежде всего мужа своего покойного, Ивана. Она поговорила бы с ним о чём-нибудь, спросила бы у него совета, как жить ей дальше в дочернем доме, чтобы поменьше доставлять им, родным людям, хлопот о себе, а главное – чтобы Мишке, их внуку, жилось хорошо, чтобы не разлюбил он бабку, чтобы здоровеньким рос…
Случалось, этот кто-то, к кому обращалась она, помогал Пелагее, и к ней являлись желанные сны – из той, прежней жизни, из даниловского далека. После них она ходила по дому притихшая и виноватая, будто что-то утаила от дочери, будто тайком от неё привезла она в город свой старый, бабкин ещё, сундук, а в сундуке том – ворох разных снов. Она вытаскивает их, как платья или сарафаны, те, что носила давным-давно, ещё в девичестве, и примеряет украдкой, по ночам, и смотрится тайком в зеркало…
И вот, на тебе, пропали сны у Пелагеи! Наверное, всему на свете бывает конец, и сны у человека тоже когда-то кончаются. Машина железная и та изнашивается, а человек – и подавно.
Думая так, Пелагея, однако, догадывалась о главной причине, с которой всё началось…
Случилось это недавно. Как-то вечером, Клавдия с Фёдором уже вернулись, вышла она во двор – с соседками на лавочке посидеть. Тут же, возле подъезда. Она и прежде посиживала с ними, бывало, сама говорила мало, больше слушала да дивилась говорливым городским посиделкам: как непохожи они были на те, что когда-то у них на деревне затевались. Там, помнится, ни одна вечёрка без песен не обходилась. Посудачат, посудачат, а потом и запоют, тут и молодые, и старухи старые – на все голоса. Бывало, от посиделок как от печки тёплой душа согревалась, а всё из-за песен. Вот и думала Пелагея, сидя у подъезда на лавочке: куда же нынче песни все подевались? Видать, все в телевизор ушли, там теперь посиделки.
И в тот вечер присела она на лавочку под самый разговор, который почему-то тут же и затих при её появлении. Пелагея на свой счёт это молчание вовсе не приняла: села, поздоровалась, и соседки ей приветливо так ответили. Попереглядывались между собой, вроде как подталкивая друг дружку к прерванной беседе: мол, чего уж там!.. И пошёл опять разговор.
– Вот я и говорю, – вздохнув, сказала одна, – от благополучия всё, от сытости…
– И от жадности, – закивала вторая. – Такой жадный пошёл народ, и всё-то нам мало, всего-то нам подавай…
– И я же о том… Жадность-то от чего? От благополучия. Нынче ведь как? Все на улучшение да на расширение. Забыли, как жили-то! Про казармы да про бараки забыли.
– Нашла о чём! Ты войну ещё вспомни. Что же тут вспоминать. А тогда рази лучшего не хотелось? Хотелось. Но не лезли за счёт других.
– Ты не лезла, а другие… И тогда разные были. И теперь. Вон возьми мою соседку, из третьего блока, на нашем этаже. Какой уж год шестером в двухкомнатной ютятся, всё очереди ждут.
– Это та, многодетная? Многодетной должны бы.
– Вот и ждёт.
Пелагея слушала и сокрушалась. Как же так, думала она, что же такое творится с городскими людьми? У них в Даниловском нынче домов пять пустых наберётся, поезжай да живи, тебе ещё и спасибо скажут, а тут – на тебе! Да и едут уже, возвращаются. Дуняшка по весне написала, что молодые Костровы, соседи её, прошлым годом ещё воротились, в свой же собственный дом. Нюрка в доярки пошла, а Лексей шофёром. Вот и другие бы так! Столько простору кругом – живи не хочу, а их всё в тесноту тянет! Её бы воля…
За размышлениями этими, которыми ей страсть как хотелось поделиться, она не вдруг заметила, что одна из соседок обращается к ней, о чём-то спрашивает.
– Я грю, – она тронула Пелагею за рукав, – когда на новоселье-то позовёшь?
Но и теперь Пелагея не поняла, о чём это она. В самом деле, о каком новоселье спрашивают, ведь года три назад, если ей память не изменяет, Фёдор с Клавдией своё новоселье, слава богу, уже справили.
А та опять за своё:
– Да будет тебе, старая! Как и не знаешь ничего. Весь дом знает, а она нет. Ох, старая, тоже видно хитра. Под одну гармошку, видать, с молодыми своими приплясываешь. – Соседка укоризненно покачала головой, но другая её урезонила:
– Да погоди ты, может, зря напраслину-то возводишь. Может, она-то и ни при чём, откуда ей знать. Может, они и её вокруг пальца…
Нет, ничего не понимала Пелагея, хоть убей. Только тревожно, стыло сделалось на душе. И голова пошла кругом. Хотелось встать и уйти, да ноги, чуяла она, двигаться не желали. Тут и соседки поняли: не притворяется она. Внесли ясность.
– Мой-то старший, – зашептала ей первая, – в одном управлении с Фёдором вашим работает. Так вот он и сказывал про его с Клавкой затею… На трёхкомнатную, слышь, метят, в новом доме, в этой уже не умещаются. Ну, а жильца-то одного им не хватало. Вот и выписали тебя из деревни… для этого… для балансу… Вот ведь какие дела. А ты, видать, и не знала?
Будто на крутую гору поднялась Пелагея в тот вечер на третий этаж, тихонько прошла к себе в комнату и улеглась на кушетку. И до утра пролежала недрёмно.
Мало смысля в хлопотных квартирных делах, она смогла усмотреть, однако, какую-то, пусть не прямую, но косвенную связь между той, давно ожидаемой квартирой, которую, наверное, спит и видит та незнакомая женщина, многодетная мать из третьего блока, и другой, на которую, по словам соседки, метят её дочь с зятем. И что бы ни говорило ей сбитое с толку воображение, сердцем она была не с родными, не с Кланькой, не с Фёдором, а с теми незнакомыми ей людьми, которых она и в глаза ни разу не видела, но чуяла, как нелегко им.
И другое она поняла: теперь, как ни кинь, она и сама становилась невольно причастной к тому недоброму обману, к несправедливости, которая творилась рядом и могла случиться не сегодня-завтра. Жить так она не могла, а как надо жить, не знала.
Было воскресенье.
Пелагея проснулась рано, когда тихое утро только зародилось за окном. Лениво урчали голуби на подоконнике. Какое-то время она лежала, не открывая глаз, прислушиваясь к их недовольному бормотанию. Городских голубей она не любила: жадная, ленивая и никчёмная птица. И на старушек сердобольных, случалось, целыми батонами скармливающих этим прожорливым птицам белый хлеб, поглядывала с осуждением, думая не столько об этих птицах, сколько о хлебе: что легко достаётся, то легко и кидается. Но и старушек этих почему-то жалела: сами-то что голуби… От одинокости, от суеты городской к птицам льнут, не на кого, видать, доброту свою тратить.
Рядом, в деревянной кроватке, точно боровок в клетушке, сладко посапывал Мишка. Боясь разжалобиться невзначай, Пелагея наказала себе не думать о нём, взялась настраиваться на другое – на то, о чём вчера сговорилась сама с собой. Оставалось только ждать. И она ждала.
По выходным молодые спали долго. Но вот наконец услышала Пелагея: Фёдор поднялся, заходил за стеной. Потом электробритва его заверещала. Скоро и Клавдия загремела на кухне посудой. Перевалившись со спины на живот, Мишка забормотал что-то спросонья, потом подобрал под себя коленки, поднял попку домиком…
«Эх ты, – не удержала вздоха Пелагея, – золотая моя головушка! Подымался бы поскорей, становился на ноги да не теснил бы, родимой, других, которые рядом по земле ходят».
После завтрака они ещё долго возились, собираясь куда-то. Фёдор с Клавдией ругались по обыкновению, отыскивая то носки, то рубашку… По разговорам, по этим сборам суматошным Пелагея поняла: отдыхать за город собираются, на машине. Значит, на весь день.
Собрались с грехом пополам. Отправились.
Пелагея проводила их до дверей, какое-то время постояла в прихожей, прислушиваясь, как звенит в коридоре Мишкин голос. С трудом удержала слезу: перед внуком виноватой себя почувствовала, шёпотом попросила у него прощенья, пообещала мысленно, что после, когда-нибудь она с помощью Дуняшки Иванниковой и отпишет ему, расскажет обо всём, а пока…
Вернувшись в свою комнату, стала сряжаться. Достала из гардероба своё старое платье, то самое, в котором приехала сюда, надела его, потом повязала голову ситцевым пёстрым платком – Клавдии подарок к женскому дню, вытащила из-под подушки аккуратно сложенный носовой платок, в котором хранилась сторублёвая бумажка, и с платком этим, крепко зажатым в кулаке, направилась к двери.
В последнюю минуту испугалась: а что, если Клавдия с Фёдором второпях забыли взять ключи? Но ключей не было на привычном месте, и тогда, успокоившись, она решительно шагнула за порог.
…Утром следующего дня шофёр попутного молоковоза подвёз Пелагею от станции до Даниловского. Тяжёлыми, будто не своими ногами ступила она на землю и, еле доковыляв с дороги до крайней избы, с которой начиналась её деревня, приткнулась плечом к пряслу и тут же увидела в проулке за углом свой дом, четвёртый от края. До него было рукой подать.
Тут и углядела её Дуняшка. Бросилась навстречу, подбежала, подхватила Пелагею под руку, повела к крыльцу. Сама же и доски оторвала от двери. Приржавевшие гвозди недобро скрежетали, не хотели вылезать, но Дуняшка их одолела. Чему-то радуясь, улыбаясь Пелагее, она ввела её в стылый от нежилья дом и объявила:
– А я чуяла, что ты не сегодня-завтра воротишься. Сон мне добрый приснился… Вот управлюсь с магазином, прибегу, расскажу тебе…
И убежала открывать свой магазин.
Сморенная тряской дорогой, Пелагея, не раздеваясь, прилегла на неразобранную постель, на серое простенькое одеяло, торопливо брошенное поверх чистого перед отъездом. Кровать отдалась под лёгким её телом тихим, вкрадчивым вздохом.
– Вот полежу чуток с дороги, – вслух сказала себе Пелагея, – передохну, а потом самовар поставлю. Скоро Дуняшка придёт…
Она прикрыла глаза и скоро заснула.
И снился ей сон. Снилось широкое зелёное поле с белыми ромашками, а посреди поля – внук её, Михаил, повзрослевший уже, очень похожий на деда Ивана…
«ЖИЛА-БЫЛА СОБАКА…»
…Это была породистая охотничья собака, шотландский или ирландский сеттер, Васильев точно не знал. Вислоухая, с длинной волнистой шерстью каштанового цвета и такими же каштановыми умными глазами. Вот такую ему хотелось заиметь когда-то. Купить ружьё, завести собаку и ходить на охоту – была такая мечта.
В тот вечер, как обычно, они возвращались домой пешком. С некоторых пор, после того как у Васильева прихватило сердчишко, он, не на шутку испугавшись, внимая совету врача, стал аккуратно выгуливать себя. Тогда они и взяли за правило: что бы ни было, снег ли, мороз, лень-матушка или усталость – никаких троллейбусов, никаких трамваев! Только пешком. После работы забегали к матери, упаковывали Алёшку в тёплую мерлушковую шубу, закручивали его шарфом, сажали в санки и тянули их с Алёной попеременно. Иногда, под хорошее настроение, дурачились по дороге, и Васильев, забывшись, случалось, пускался с санками бегом. Алёшка визжал от восторга, требовал катить его ещё быстрее, и Васильев, «впадая в детство», несся по опустевшей аллее, пытаясь увлечь, растормошить и Алёну. А она, смущаясь редких прохожих, не очень настойчиво требовала угомониться, а потом, спохватившись, пугалась не на шутку: ведь у него же сердце!.. Да и Алёшке опасно. Нахватается морозного воздуха, простудится, чего доброго… Строго командовала отбой.








