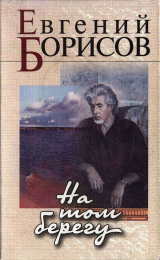
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
Но случались и другие прогулки. Как в этот вечер. Что-то не заладилось у них днём. А может, утром. Кажется, он попросил её забрать сына и ехать домой без него. Кто-то из сотрудников его отдела, а может, из сотрудниц, отмечал день рождения, и Васильев был приглашён. Об этом он и сказал ей утром. А она промолчала, сделала вид, будто ей всё равно – где и с кем её муж собирается развлекаться.
– Ты поняла, о чём я?.. – Молчаливая реакция жены почему-то неприятно задела его.
– Я поняла, – в тон ему ответила она, – чего ж тут не понять… Хотя, как мне кажется, существуют какие-то правила… Нормы приличия наконец… Женатого человека неприлично приглашать одного в гости. Мужчина, уважающий себя, – она с вызовом взглянула на него, – и свою жену, вправе отказаться от такого приглашения.
– Ты хочешь сказать, – всё больше раздражаясь, начал Васильев, но Алёна перебила его:
– Я уже сказала, а ты понимай и поступай, как хочешь. За сына можешь не волноваться.
Ни на какой день рождения он не пошёл. Решил: пусть ей будет хуже! Сама же изводиться начнёт, а потом будет заглаживать перед ним свою вину – такое не раз уже было.
Но как-то всё обошлось, как, впрочем, не раз уже обходилось. Радостная, без тени удивления на лице, будто ни на минуту не сомневалась, что именно так он и поступит, Алёна встретила его и тут же, в прихожей, одевая Алёшку, о чём-то неестественно громко переговариваясь с матерью, шепнула Васильеву:
– А я сухого вина купила.
Вся хитрость жены была как на ладони, и Васильев, хмыкнув, спросил насмешливо:
– По какому поводу?
– А разве не повод, – снова шепнула она, покаянно склонив голову к его плечу, – любимый муж домой вернулся.
И Васильев дрогнул, заулыбался.
И всё было бы хорошо в тот вечер. И погода была чудесная – лёгкий морозец со снежком, медленно кружащимся в свете уличных фонарей, и эта прогулка по затихающим вечерним улицам, а впереди был дом, своя квартира, которую они получили совсем недавно и так счастливо обживали теперь, пусть небольшая, однокомнатная, пусть далековато от центра, но зато своя, и можно вот так, как сегодня, вернуться домой, уложить Алёшку в кровать, а потом сидеть на кухне, за маленьким столиком, пить вино и разговаривать, забыв все эти мелкие пустяковые обиды, и никуда не торопиться, потому что завтра суббота, и весь день, даже два дня они будут вместе, втроём. И ей, Алёне, не надо больше ничего. Был бы Алёшка здоровенький, был бы Васильев, любимый муж, рядом. Что же ещё? Сапоги новые купим, пальто весеннее тоже – это не главное, это мелочи жизни. Важно, что они вместе, они семья, и у них всё хорошо…
И Васильеву было хорошо в этот вечер. Он шёл и похваливал себя за то, что не пошёл на этот дурацкий день рождения. Сидел бы сейчас там за тесным и шумным столом, в табачном дыму, в пустых и хмельных разговорах, конечно бы выпил, не удержался, а потом и закурить бы захотелось, а утром, жутко представить, мучился, ругал бы себя…
Они пересекли улицу, по которой ходили трамваи; Васильев, оглядевшись, потащил санки с Алёшкой на тротуар и тут увидел: в стороне, возле трамвайной остановки, сбившись в кружок, стояли люди. Любопытство поманило Васильева, и он решил подойти, посмотреть, что там случилось.
– Идите, – сказал он Алёне, – я догоню вас.
И подошёл. И раньше чем сумел протиснуться между людьми, прежде чем сам увидел то, вокруг чего, кто охая, кто громко негодуя, жалея и ругая кого-то, толклись они, Васильев услышал, как кто-то рядом сказал:
– Собаку задавило. Трамваем.
– Насмерть? – спросил Васильев.
– Лучше бы насмерть, – ответил тот же голос. – Колёсами по передним лапам.
Но и теперь, поняв в чём дело, Васильев почему-то не отошёл, что-то подтолкнуло его вперёд, заставило протиснуться сквозь редеющую толпу. Почему-то ему хотелось самому увидеть всё это, увидеть своими глазами. И он протиснулся наконец…
Она лежала на снегу, неловко привалившись боком к стене, красивая и жалкая в своей беспомощности, лежала, поджав под себя перебитые лапы, а вернее, то, что осталось от них, и, похоже, не понимала того, что с ней стряслось. Ни крови, ни обезображенных лап, ничего такого ужасного, что предполагал и боялся увидеть Васильев, он как будто и не заметил. Может, потому и не заметил, что боялся увидеть. Но вот глаза… Такими печальными, такими горькими глазами глядела она на людей, столько отчаяния было в них, такое смятение в них творилось, что Васильев, вдруг уловив на себе её взгляд, потревоженный, тут же и отошёл прочь.
– Что там? – спросила его Алёна.
– Да так, – почему-то уклонился он. Печальный взгляд собаки, казалось, преследовал его.
– А всё-таки? Чего они там?
– Собаку задавило, – сказал он негромко, оглянувшись на присмиревшего в санках Алёшку. – Страшно смотреть.
– Кошмар какой-то! – ужаснулась Алёна и тут же потянула его за рукав. – Пошли поскорее… Не хочу, чтобы Алёшка видел всё это.
Подчиняясь ей, Васильев и сам прибавил шагу, и санки с Алёшкой покатились быстрее. Алёшка ожил, запонукал, радостно замахал руками:
– Но, но, пошёл! Полный вперёд!
Пробежав под это весёлое понукание метров пятьдесят, Васильев вдруг остановился.
– Слушай, – недоуменно спросил он у подбежавшей и задыхающейся Алёны, – с чего это мы подхватились? Чего ты, собственно, испугалась-то?
– А ты? – она никак не могла отдышаться. – Хочешь, чтобы Алёшка увидел этот ужас? На ночь-то глядя! Мальчишка и так психованный растёт, капризничает по любому поводу, а тут ещё эти страсти…
– А бежать-то зачем? – удивился Васильев. – Несёмся как ненормальные, будто за нами кто гонится.
– Я тебя не гоню, – сказала Алёна, – иди, как все нормальные ходят.
– Нормальные! – досадливо усмехнулся он. – Нормальные не полупили бы от чужой беды без оглядки.
– И не лупил бы!
– Будь я один, – притихшая давешняя обида вдруг снова зашевелилась в нём, – я бы…
Тут и Алёна не удержалась.
– Конечно, – сказала она, – среди нас ты один такой… чуткий, а мы, – она как бы призывала сына в союзники, – мы, стало быть, бесчувственные и безжалостные, нам никого на свете не жалко, чужая беда нас, по-твоему, не колышет…
– Ну, поехало! – словно желая уйти от этого нелепого разговора, Васильев снова прибавил шагу, увлекая санки за собой. – Я просто хотел сказать, – уже на ходу, оглядываясь, договаривал он, – что нормальные, порядочные люди так не поступают.
– Ну и как же, по-твоему, они должны поступать? – не без ехидства спросила она.
– Очень просто. Надо было не убегать, а взять собаку. Положить на санки и отвезти…
– А Алёшка? Думай, что говоришь!..
– Ты бы вернулась к матери. Или поехала с ним домой, на трамвае, а я…
– А ты бы отвёз собаку к маме? Доставил бы ей радость! Мало того, что она целыми днями сидит с Алёшкой, ты ещё и собаку безногую решил ей подбросить. Подарок от любимого зятя!
– Да почему обязательно к маме! – боясь ввязаться в другой, давний и ещё более нелепый спор, тихо, осаживая себя, процедил Васильев сквозь зубы. – Можно в лечебницу. Есть же такие, специальные, ветлечебницы…
Она ничего не ответила, видно, и сама забоялась нежелательного поворота, который вдруг наметился в этом неожиданно вспыхнувшем споре.
Какое-то время они шли молча, уходя всё дальше и дальше от злополучной трамвайной остановки. На душе у Васильева было скверно, а тут ещё, как назло, Алёшкин стишок вспомнился – про собаку, – и он шёл и бормотал про себя привязавшиеся строчки: «Жила-была собака, она была большая, и был у той собаки огромный рыжий хвост…»
Алёна первая не выдержала.
– Послушай, – вдруг с новой неожиданной тревогой спросила она, – а в самом деле, что же с ней теперь будет?
– Не знаю, – задумчиво отозвался Васильев, потому что и сам всё это время думал об этом. – Даст бог, найдётся хозяин. Хотел бы я видеть этого раздолбая! Такую собаку угробить…
– А не найдётся?..
– Может, кто-то другой подберёт. Мир не без добрых людей.
С полквартала шли молча. Васильев угрюмо тянул за собой санки с Алёшкой.
– Ну чего ты? – Алёна взяла мужа за руку.
– Да так, – задумчиво ответил он, – себя самого вспомнил, когда был вот таким, как Алёшка. Представляешь, я кошек бездомных домой таскал. И кошек, и собак. Подберу на улице и домой. Каких только не было! И хромые, и слепые… Отец вечером с работы придёт, сесть не на что, на диване, на стульях кошки да собаки. Повыкидывает их всех, а утром я их снова…
– Ну и чем это кончилось?
– Как видишь… Тебя вот нашёл, – пошутил Васильев. – Помнишь, как мы с тобой познакомились? Тоже на улице. Ты стояла у телефонной будки и плакала, а я подошёл…
– Подобрал, одним словом…
Оба рассмеялись, но как-то невесело, через силу. И тут Алёна удивила его.
– Слушай, – сказала она, – может, и правда тебе нужно было остаться?
– Ну ты даёшь! – Васильев даже остановился, недоуменно уставился на неё. – Да ведь ты же сама… ты меня первая потянула оттуда!
– Ну хорошо, я потянула, – сказала она, – потому что испугалась. Не за себя, разумеется. Ну а ты? Ты же мужчина, ты должен был сам решать.
– Да, мать, с тобой не соскучишься, – завозмущался он, – я же, выходит, и виноват! А ты, ты… Так всю жизнь и будешь от стрессов Алёшку спасать? Сегодня от одной беды спрятала, завтра от другой уберегла, а послезавтра… Ты знаешь, чем всё это кончится? Ты об этом подумала?
– Не кричи, – она стала оглядываться по сторонам, – чего после драки кулаками махать? – И вдруг остановилась, сказала решительно: – Ну хочешь, возьми санки и поезжай назад?
Ни насмешки, ни издевки в её голосе Васильев не уловил; явно озадаченный, не зная, как поступить, он ответил:
– Как же, ждёт она меня там.
Но и потом, уже дома, пока распаковывали Алёшку, пока освобождали его от одёжек и укладывали спать, пока потерянно, молчком слонялись по квартире, они продолжали думать о том, что случилось там, на трамвайной остановке, что нежданно-негаданно вошло вслед за ними в эту уютную квартиру, в их кухню, в которой они так любили сидеть по вечерам, по выходным: сесть друг против друга и говорить обо всём – о себе, об Алёшке, о жизни вообще…
Разгружая на кухне хозяйственную сумку, Алёна вспомнила про обещанный ужин с бутылкой сухого вина. Решила: если он напомнит, можно будет достать. И убрала бутылку в холодильник. «Если достанет, – тем временем думал он, – можно, конечно, и выпить. А почему бы и нет».
Он не напомнил – не решился, а она не предложила, и ужин не состоялся.
И так же молча они лежали потом в постели, тайком друг от друга доругивались, доспоривали о чём-то, перебирали что-то в своей жизни, в самих себе, и оба, тихо вздыхая, мучились одной виной, и эта вина то разделяла, то снова сближала их, как сближает людей одна беда или одна потеря.
– Ты знаешь, – не выдержав этой тягостной тишины, прошептала Алёна, – мне так страшно почему-то. – Она протянула руку к нему, будто искала его защиты. – Боюсь, Алёшка никогда не простит нас за это. Если узнает, не простит…
Васильев понял её беспокойство, хотел утешить: мол, при чём тут Алёшка, он даже не видел, не понял ничего. Но промолчал. Как наваждение, как наказание за всё, что случилось с ними сегодня, глядели на него из темноты печальные, полные отчаяния глаза той собаки.
…Примерно через час, бессонно проворочавшись в постели, он тихо поднялся, стал одеваться в темноте. Она слышала всё: как он встал, как шуршал осторожно бельём, как обувался потом в прихожей, как звякнул связкой ключей…
Хотела окликнуть, отговорить его, сказать, что это бессмысленно – тащиться через весь город, ночью, к той остановке, что наверняка кто-то забрал несчастную собаку… Но удержалась. Подумала: пусть идёт.
ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Эту поездку в село Ильинское, случившуюся год назад, Алексей Павлович и теперь ещё вспоминает. В какой-то день и час нежданно-негаданно вдруг овеет душу желанным, уютным теплом, то ли от печки, возле которой он, Алексей Павлович, озябший и усталый, будто бы отогревался однажды с дороги, то ли это шло от слов, таких же тёплых и желанных, когда-то, от кого-то услышанных и полузабытых теперь. Станет радостно и беспокойно от этой нечаянной и словно бы запретной радости, и опять, в который раз, затревожится сердце, как от потери какой-то, в которой сам он и виноват. Что за потеря, перед кем и в чём надо виниться – поди разберись.
Но сердце же и подсказывало: там, в Ильинском, всё началось, оттуда и тянется эта история…
А история и впрямь вышла странная. Впрочем, это как судить. Если попросту, без премудрых фантазий, которыми Алексей Павлович на старости лет вздумал забивать себе голову, то ничего особенного, или, как говорят, криминального, в той поездке и не было. Обычная плановая ревизия в обычном магазине сельпо. И дорога недальняя – вёрст пятнадцать автобусом. Для толкового ревизора работы – на день с перекуром, а для Алексея Павловича, старшего инспектора райпо, имеющего тридцатипятилетний стаж безупречной ревизорской службы, к тому же и некурящего – и подавно.
И всё-таки было, было одно обстоятельство, которое придавало этой командировке некую, ну если не торжественность – по характеру Алексея Павловича это было бы слишком, – то значительность или, скажем, символический смысл, о чём никто, кроме самого Алексея Павловича, пожалуй, и знать не знал.
Обстоятельство в общем-то не из весёлых: через месяц Алексей Павлович собирался уходить на пенсию. Здоровьице стало пошаливать, нервишки поистрепались, да и устал он от этих частых разъездов, от бумажных головоломок, от кроссвордов всевозможных, на разгадывании которых он съел большую собаку, за что одни ценили и уважали его, а другие боялись.
Одно тревожило ревизора… Вот и компьютеры уже появились, к которым он, к слову сказать, так и не смог привыкнуть, больше того, не доверял им, считал чуть ли не баловством, модой или игрушкой, и по-прежнему обходился обыкновенными, затюканными счётами и собственной головой. Но бог с ними, с компьютерами – жулья бы от этого поубавилось! Растрат и хищений. Так ведь не очень! А значит, и ревизорам работы – конца не видно, и жалко, что последнего нечистого на руку будут выводить на чистую воду без него. Вряд ли при нём управятся.
Но что поделаешь, если пришла пора и ему подводить свой «дебет с кредитом». Сделать это Алексей Павлович собирался честь по чести, но без шума, без официальных торжеств, а поскромнее и подушевнее. Пригласить сослуживцев к себе домой, человек десять-двенадцать получится, квартира просторная, места хватит. Попросить кого-то из женщин, можно Зою Сергеевну из торгового отдела, чтобы стол соорудила. Он и сам бы, конечно, смог – навострился при своём одиноком житье-бытье, но у женщин это складнее, праздничнее получится. Но главное – никаких громких речей, никаких чествований, об этом нужно сразу предупредить. Вот уж чего не хотелось бы!
В самом деле, к чему это! Ну дожил человек до своих лет, все знают, что человек он хороший, так пусть и дальше так живёт, не делая зла добрым людям. Для того и живёт он, для того и на свет рождается. Так зачем же об этом кричать во всю ивановскую? Надо о плохих людях кричать, о ворах и мошенниках, прохиндеях всяких, пальцем на них показывать, чтобы все видели: вот, мол, шестьдесят или сколько там лет человеку, а он всё ещё ходит по земле, мерзавец такой, рядом с нами ходит, одним воздухом дышит…
В таких размышлениях, в привычных хлопотах, к которым прибавились и новые – кого позвать, чтоб, не дай бог, кого-то не обидеть; где что купить, чтоб на столе было не пусто, но и не густо, – незаметно пролетело время. И вот однажды, в середине февраля, – как снег на голову – ему сообщили о командировке. Алексей Павлович, немного сконфуженный, одной ногой вроде как уже шагнувший в неведомую пенсионную жизнь, хотел было отговориться, сослаться на приближающийся юбилей, но язык не повернулся. Не было ещё такого, чтобы он отказывался от служебных заданий. А потом, когда шёл домой, через силу настраиваясь на завтрашнюю поездку, вдруг словно споткнулся на ровном месте, сообразив, что это последняя его командировка, последняя ревизия… Лебединая песня, можно сказать.
Мысль эта – о лебединой песне – поначалу опечалила его, заставила обречённо подумать о том, о чём не раз уже думалось вот с такой же печалью: жизнь проходит, считай, что прошла, песня хорошая не сложилась. Так, промурлыкал тихонько, себе под нос, а кто услышал? Катерина, покойная жена его, разве что. А теперь – и подавно, ни голосу, ни духу. Прокаркать чего-нибудь – это он ещё сможет.
Нелепая картина, какую Алексей Павлович тут же представил себе, отвлекла его от грустных мыслей, даже развеселила немного. Он вдруг представил себя… увидел стоящим на сцене в красном уголке, у себя в райпо: он стоит и поёт хриплым старческим голосом свою лебединую песню, а Зоя Сергеевна сидит рядом и трескает костяшками на счётах – аккомпанирует. И такая дичь лезет в голову! Хорош лебедь, нечего сказать.
Наутро уехал с первым автобусом. А через час, добравшись до Ильинского, уже сидел в магазине, у Анны Егоровны, которая была здесь и заведующей, и продавцом, и товароведом, и грузчиком. Ревизора она встретила как гостя желанного, будто ждала его давным-давно. И печку с утра натопила, и даже самовар поставила, и на двери, снаружи, повесила объявление: «Не стучать! У меня учёт».
За весь день к ним никто и не постучался. Подходили, топтались на крыльце, но беспокоить не отваживались. Впрочем, ничего этого Алексей Павлович видеть не мог, как не мог заметить и оценить многого другого, что творилось в магазине у Анны Егоровны: ни чисто вымытых полов, ни половичка у двери, ни этого почти домашнего уюта, который – пойми отчего – создавался, как ни странно, из тех же витрин и полок, заставленных теми же банками консервными и теми же склянками с сахарным песком, крупами и вермишелью, тем же привычным, порой залежалым товаром, какой встретишь в любом сельповском магазине. Наверное, был тут какой-то секрет, поведать который могла бы сама Анна Егоровна, которая даже в казённом халате, аккуратном по полноватой, но ещё складной для немолодых лет фигуре, меньше всего походила на продавщицу, скорее – на домохозяйку, умеющую в любую минуту принять и званых и незваных гостей, какими, надо думать, были для неё все покупатели, а не только ревизор из райпо.
Но не было у Алексея Павловича ни времени, ни желания для праздных таких разговоров: отогревшись немного у печки, он тут же ушёл с головой в накладные и прочие документы, которые расторопная Анна Егоровна выкладывала перед ним на столе, и словно забыл обо всём.
Поначалу, посунувшись к ревизору со стаканом крепкого чая и наколовшись на хмурый, отчуждённо-предупредительный его взгляд, Анна Егоровна стушевалась, не знала, как понимать этот отказ, а потом, смекнув кой-что, рассмеялась легко и сказала просто, без всякой обиды:
– Да полно, Алексей Палыч, я ж не коньяк вам поднесла. Крепкого чая, с дороги…
Но Алексей Павлович, не отрываясь от бумаг, пробормотал в ответ что-то невнятное: мол, не до чая, потом, потом…
– Воля ваша, – покорно отозвалась Анна Егоровна. – Была бы честь оказана…
В ревизорской жизни своей Алексей Павлович навидался всякого, многое мог бы вспомнить… Однажды, вполне серьёзно, задумал он вот какую штуку: сложить бы вместе все растраты и хищения, какие удалось обнаружить не без его помощи, ну, допустим, за последние двадцать лет, подсчитать бы эти уворованные и возвращённые государству денежки – такой дворец можно отгрохать! Или дом отдыха, а ещё лучше – пансионат для одиноких ветеранов ревизорской службы. А почему бы и нет?
Но если по совести, любил Алексей Павлович, когда дело кончалось миром. После таких благополучных дел он заявлялся к себе в райпо переполненный тихой, умиротворённой радостью. Вы как хотите, словно бы говорил он, но честных, порядочных людей на свете всё-таки больше, чем мошенников, и не надо спорить со мной, я-то знаю.
Нынче дело шло без сучка, без задоринки, и Алексей Павлович, привычно не выказывая своего удовлетворения, успел, однако, подумать о том, как бы не прозевать последний и единственный автобус, на котором он мог бы уехать домой. Но тут и случилось неладное…
Нет, ни растрат, ни прочих нарушений острый глаз ревизора так и не обнаружил, потому как их и не было. Дело было в другом. Отлучившаяся на десять минут по своим делам, Анна Егоровна вернулась в магазин, раскрасневшаяся, в распахнутом полушубке, и огорошила ревизора:
– Вы гляньте, что на дворе-то деется! Деревни не видать, такая метель закрутила. Этак к ночи нас с вами совсем заметёт.
Говорила так, будто радовалась этой метели и делилась радостью с Алексеем Павловичем. А он, встревоженный, поднялся из-за стола, подошёл к забелённому, слепому окну и ничего не увидел: даже соседние дома растворились в белой круговерти, и в неприкрытую дверь рвался, пуская снежные космы, напористый ветер. Алексей Павлович остолбенело стоял у окна, озадаченно качал головой, досадуя и на эту словно с цепи сорвавшуюся метель, из-за которой теперь вряд ли можно рассчитывать на автобус, и на Анну Егоровну, которая, высказав это предположение, чему-то радовалась, как девчонка.
– Видать, придётся вам зимовать у нас, – усмехнувшись, сказала она. Но тут же и успокоила: – Да вы не пугайтесь, найдём, где заночевать. Вон хоть ко мне, изба вся пустая. И угостить чем найдётся, с устатку-то. – И опять непонятная эта усмешечка, будто вызов какой. – А я как чуяла, подтопила с утра.
– Выбираться бы надо, – отчуждённо и хмуро отозвался ревизор. – Я бы попросил вас…
Была надежда на председателя, на его «уазик», и Анна Егоровна, оставив ревизора в лёгком смятении, убежала в правление. Но ни председателя, ни его вездехода как на грех на месте не оказалось: уехал по бригадам, а когда вернётся, никто не знает. Правда, появился другой вариант: мужики на тракторе с санями в район собираются, за стройматериалами. Решили ехать на ночь глядя, чтобы с утра пораньше управиться. Но Анна Егоровна и сказала-то об этом ревизору как бы между прочим – была уверена, что такая оказия не для него. Ну мыслимое ли дело – пятнадцать вёрст на санях-волокушах, в такую-то пору! Мужикам что, дело привычное, а тут…
Но теперь и Алексей Павлович удивил её: вдруг оживился, стал собираться торопливо, словно мог опоздать на эти самые сани-волокуши, и Анна Егоровна в молчаливом недоумении смотрела на его, не понимая, что же это случилось с тихим и, как показалось ей, трусоватым ревизором, с чего же он так подхватился, какая нужда гонит его из тепла да в метель. Может, дома что? А что там может быть! То ли она не знает, что, кроме телевизора, в доме у Алексея Павловича – ни единой живой души, некому ждать его. Шесть лет, как умерла жена, Алексей Павлович живёт один, ни детей не дал бог, ни внуков. Всё это знала Анна Егоровна. Как не знать – земля слухом полнится. И понимала, сердцем своим вдовьим чувствовала, каково это – доживать век в одиночестве. Вот и хотела хоть как-то приветить, пожалеть аккуратно, не показывая ему своей жалости, а заодно и себя пожалеть. А вышло не пойми что… Подумала даже: уж не с испуга ли он бежит от неё? Похоже, так и есть – с испуга! А если стрясётся что в дороге, вот грех-то на душу!
Заволновалась не на шутку, принялась отговаривать его, даже пугала: мол, не по здоровью, не по годам ему такая езда, не ровен час, ещё окочурится в дороге, как тот ямщик, и надо бы выкинуть глупости из головы, не петушиться, а переночевать по-людски, вот хоть бы здесь, в магазине, если в гостях его не устраивает, она и раскладушку сюда принесёт… Но на Алексея Павловича словно затмение какое нашло, он и слушать не хотел этих уговоров, упрямо твердил своё, мол, еду, и всё, похоже, и сам удивлялся при этом: откуда, с чего вдруг нашла на него такая прыть? Не перед ней же он хорохорится, выставляет себя таким молодцом…
Как бы то ни было, но что-то толкало ревизора на решительный, пусть даже и легкомысленный шаг, на маленькое геройство, на которое в другое бы время он вряд ли решился бы с такой же вот лёгкостью.
Спустя полчаса, раскачиваясь в огромных, сколоченных из грубо тёсанных брёвен санях-волокушах, он неуклюже, коченеющими руками подгребал под себя жиденькое сенцо, натягивал на замерзающие колени полы старенького овчинного тулупа, которым поделился с ним один из попутчиков, и на чём свет стоит ругал себя за глупое это геройство. Вот уж отчудил на старости лет, вот так отморозил! Расскажи он завтра в своём торготделе, не поверят. Хорошо хоть ума хватило от валенок не отказаться, сейчас бы без них – хоть волком вой.
Валенки эти, оказавшиеся ему впору, Анна Егоровна принесла в последнюю минуту, прямо к саням, когда он, ещё петушась перед ней и перед двумя мужиками, попутчиками, усаживался на сене. Под общие уговоры он согласился, тут же стянул городские свои ботинки на рыбьем меху, бросил их в сани, надел валенки, пообещал заботливой Анне Егоровне завтра же их и вернуть с мужиками.
– Да полно, – отмахнулась она, – носите на здоровье, мне они ни к чему. Разве как память… Сам-то мой весь вышел, одни валенки вот… Другой раз соберётесь в наши края, сами привезёте.
И вот теперь, поёживаясь от холода, Алексей Павлович вспомнил эти слова, сказанные Анной Егоровной опять же с каким-то тайным смыслом, с намёком или обещанием, которое теперь, на этом холоде, под метелью, странным образом грело ему душу. В самом деле, рассуждал он, о чём это она? Эти усмешечки, приглашение в гости, настойчивые уговоры остаться заночевать, потом эти валенки – к чему бы?
А волокуша, как огромная ладья, плыла и плыла за трескучим трактором, то вздымаясь носом на белой волне, то падая вниз, в снежные тартарары, и дальше плыла под метелью по снежной целине, вдоль заметённой дороги, которая только и угадывалась по телеграфным столбам. Было темно и беззвёздно. Метель продолжала носиться над полем, закручивала у санных полозьев белые кометные хвосты, подвывала по-волчьи в стругах. И где-то далеко позади, в непроглядной этой темени, потонули огни деревни, в которой осталась Анна Егоровна со своим благополучным магазином, с одинокими, то ли вдовьими, то ли ещё какими печалями, о которых смутно и неопределённо думалось теперь Алексею Павловичу.
Но вот и мужики завозились под боком, видно, их тоже забирать стало. Откинув ворот тулупа, один из них по-приятельски подтолкнул ревизора в плечо, крикнул на ухо:
– Не окочурился, ревизор?
– Есть маленько, – едва шевеля губами, отозвался Алексей Павлович и тут заметил бутылку в руке у горластого соседа.
– Давай для сугреву, не повредит! – он тянулся к ревизору с бутылкой, ополовиненной уже.
Алексей Павлович затосковал, поскольку давно уже не пил. Как после похорон Катерины на поминках тогда напился – пытался залить своё горе, а утром и сам чуть не отправился за ней следом, – с того дня зарок себе дал: пить по две рюмки один раз в году – в День Победы. В тот день, в сорок пятом, он с Катериной своей познакомился в военном госпитале, где она была медсестрой, а он больным из «лежачей» палаты.
Хотел Алексей Павлович отказаться от этой бутылки, но – так уж нынче складывалось у него – вместо этого вдруг осерчал на себя самого: да что, не мужик он, что ли! К тому же и холод собачий… Заледенелая бутылка оказалась у него в руке, и он, зажмурив глаза, с неумелой, отчаянной лихостью запрокинул её, не сразу поймав губами стылое горлышко, отхлебнул глоток горько-студёной влаги и, в отвращении содрогнувшись всем телом, крякнул с фальшивой удалью: и мы, мол, не лыком шиты.
Стало весело в санях, мужики закурили, и Алексей Павлович, уловив папиросный дымок, был готов уже потянуться к предложенной пачке – за компанию, для разговора, но, раздумав, махнул рукой. Ему и того хватило, что они вспомнили про него, и теперь он даже радовался этой случайной поездке – в мороз, на санях, с весёлыми и покладистыми мужиками, которые и пьют-то по-хорошему, по делу, по мужской необходимости пьют. Теперь он и сам был с ними как бы заодно, тоже похлопывал их по плечам, кричал им что-то, пытаясь перекричать железный рокот трактора, и с сожалением думал о том, что вот доедут они до города и расстанутся – мужики по своим делам, он по своим, – а так славно было бы посидеть вместе, потолковать о том, о сём, о жизни вообще, а заодно, так, между прочим, и об Анне Егоровне порасспросить, мол, что она за человек такой… Почему-то ему хотелось узнать об этом.
Но тут Алексей Павлович приметил, что темнота ночная словно на убыль пошла. Понял: метель поутихла. Синий призрачный свет пролился на утихшие снега, а впереди, куда, увязая в засиневших сугробах, тащились редкие столбы, чисто и ярко вспыхнула, будто из снега народилась, синяя, мерцающая звезда, за ней другая, третья… И вот они уже заиграли, заподмигивали Алексею Павловичу, и, глядя на них, он вдруг подумал с удивлением, будто сделал невероятное какое-то открытие: как же так, подумал он, тысячи людей, да что тысячи – миллионы! – дрыхнут небось сейчас в тёплых постелях и в ус не дуют, и не ведают такой красоты! Эх, люди, люди, какие мы всё-таки лежебоки, как ленивы и нелюбопытны мы, и всего-то боимся, и как много теряем из-за этой привычки спать по ночам!
А звёзды и в самом деле как будто в душу к нему заглядывали, высвечивали её, вопрошая о чём-то, о чём он и сам давно собирался спросить себя, а может, и спрашивал не раз, но так и не нашёл ответа: а кто же он сам-то, Алексей Павлович, кто есть он на этой земле и что от него здесь останется? Ну, не вышло из нас генералов, певцов знаменитых не вышло или там космонавтов… Живём потихонечку; звёзд с неба не хватаем, это так. Ну и что? А вы в душу ревизоров заглядывали? Знаете, что это такое? Ах, нет! Тогда и не говорите…
Ему бы и успокоиться – пофилософствовал и ладно, – а его дальше и дальше куда-то несло, он словно выбился из ровной, давно накатанной колеи и пошёл, пошёл по ухабам. О чём-то поспорить ещё хотел, с кем-то и в чём-то объясниться, чтобы кто-то послушал его, – не посмеялся, не осудил, а понял, утешил, как могла понять и утешить его покойная Катерина, бывало.
Вдруг подумал: а не позвать ли к себе ильинских мужиков? Что им мыкаться в доме колхозника, а у него и чаю попьют, потолкуют. Но потом, поразмыслив, понял, что не такого, не мужского разговора хочется ему, к другому тянулась нынче душа, и он знал – к чему, да не решался в этом признаться. Боялся, что попутчики его, сидя с ним рядом, вдруг как-то ненароком разгадают его, подслушают эти тайные мысли, которые будто водят ревизора по заколдованному кругу, то и дело возвращая его назад, к знакомому магазину в селе Ильинском, к тёплой печке, возле которой – как знать – может, именно в эту минуту сидит, печалясь о нём, Анна Егоровна.







