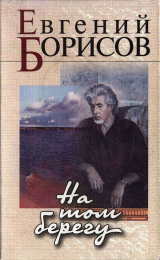
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
А флигель каким-то чудом уцелел, всё было в нём, как прежде: то же крылечко невысокое, та же веранда, правда, с побитыми стёклами в рамах, и даже старое плетёное кресло стояло, как когда-то, на веранде в углу, и тот же круглый стол в гостиной, и те же стулья, и комод с пустыми, наполовину выдвинутыми ящиками… В одном из них, в самом нижнем, мама хранила папины письма…
Втроём они поселились в старом флигеле: Надя с Любой в своей комнате, а тётя Поля – в комнате Веры Васильевны, и первые дни, устраиваясь, приводя в порядок свой быт и жильё, Надя жила с ощущением какой-то странной потерянности во времени и пространстве. С недоумением – неужели всё это было – и детство, и отец, и мама, вся довоенная её жизнь, неужели всё это было здесь! – то печалясь, то вдруг радуясь своему возвращению, переживая заново свою боль и потери, она молча бродила по этим сиротливо опустевшим, до слёз знакомым, но как будто бы уже и не своим, с чужим каким-то духом, комнатам, ходила как во сне, будто искала и не могла найти чего-то, что сказало бы ей: да всё это так и было… И была девочка, такая же маленькая, светловолосая, как Люба, – это она сама, и была мама, такая же молодая, но почему-то всегда с печалью и заботой в глазах.
Эта печаль теперь и к ней самой переселилась, вошла незаметно вместе с мамиными заботами, с её торопливой деловой походкой, с её голосом, каким она разговаривала с ребятами, и даже с давно знакомой Наде маминой привычкой – вдруг, проходя по комнате, остановиться возле окна и замереть на минуту, постоять в задумчивости, глядя на дорогу… Вот так ждала она отца. Но ей-то, Наде, кого ждать? Почему у неё-то появилась такая привычка?
А осенью Люба пошла в школу, и Надя хорошо помнит тот день, помнит, что Люба вернулась домой в слезах и прямо с порога, размазывая рукавом слёзы по лицу, заявила, что в школу она больше не пойдёт, потому что… И снова ударилась в слёзы. Горькая обида душила её, она стояла, уткнувшись в угол зарёванным лицом, и, задыхаясь, вздрагивала всем телом, бормотала что-то невнятное, что-то такое, от чего Надя, ещё не понявшая толком ничего, лишь уловившая одно-единственное, явственно прорвавшееся сквозь слёзы слово – отец, – замерла и затревожилась настороженным сердцем.
Она стояла рядом, растерянная и уже бессильная, перед той, чутко угаданной обидой, клокотавшей в этой маленькой, не защищённой ни от каких бед и обид девчонке, которую будто сама судьба, не спрашивая ни согласия, ни совета, отдала ей, Наде, под защиту. Да, она защищала её все эти годы, была с ней рядом, была ей и матерью, и старшей сестрой, и теперь уже не только понимала – душой и сердцем чувствовала, что нет у неё на земле дороже и ближе человека, чем эта, словно деревце к деревцу приросшая к ней, маленькая, такая необходимая ей жизнь.
Она бы и сейчас, в любую минуту, не задумываясь, сделала всё, что в её силах и даже выше её сил, чтобы отвести от неё беду, но перед той бедой, которая душила теперь слезами всегда спокойную, уравновешенную девчонку, перед этой бедой она и сама была бессильна. И сознавая это, сама с трудом сдерживая слёзы, Надя шептала привычные, утешительные слова и ещё больше страдала оттого, что слишком много, слишком часто приходится ей нынче произносить эти хрупкие, такие ненадёжные слова, которых лишь на то и хватало, чтобы унять слёзы, приглушить на время в осиротевшей душе непроходящую боль. Всё это было не раз. И были ночи, когда чей-то голос, детский плач или крик – мама! – подбрасывал её в постели, и она, испуганная, с тревожно бьющимся сердцем, срывалась и бежала на этот зов и прижимала к груди чью-то жаркую голову, и гладила, и целовала чьё-то солёное от слёз лицо, и до утра уже не могла уснуть.
А Люба, спокойная и ласковая Люба, вовсе не тревожила её. Казалось, всё, чем судьба однажды обделила её, уже нашло себе замену, и даже то, что когда-то началось с невинной игры в дочки-матери, так просто и естественно однажды перестало быть игрой, и обе они – Люба и Надя – легко, словно и не бросали той игры, согласились с этим, и просто тётя Надя стала просто мамой, а Люба – её дочкой…
В тот день, немного успокоившись, Люба рассказала о том, что приключилось в школе.
– А Вовка хвастался, – то и дело всхлипывая, говорила она, – что у него отец лётчик, что он погиб в бою и орденов у него много, а мне сказал, что я ничья, что папки у меня и не было вовсе, а я сказала, что он врун и хвастунишка, что у меня тоже был папка, что он самый сильный и самый смелый, а он спросил меня, как моего папку зовут, а я не стала ему говорить, потому что… потому что забыла, – уткнувшись мокрым лицом в Надины колени, она опять заревела, – забыла, как его зовут… Ну, который папкой моим хотел быть… Он ещё с нами ехал…
Всё что угодно была готова услышать она в тот момент, но только не это. И тогда, и потом удивлялась: откуда пришло, как могло удержаться в детской, почти младенческой памяти это воспоминание? Какая нелёгкая, тайная работа происходила всё это время в Любе, и в памяти её, и в душе, если однажды, в самый решительный миг, она вдруг вспомнила и назвала отцом человека, того курсанта, почти мальчишку по тем годам, которого и видела-то рядом с собой всего два дня? Даже имя его позабыла…
Но не менее странным было другое, то, что случилось потом. Произошло это так просто, так естественно, что Надя на какой-то миг сама поверила тому, что сказала.
– Его звали Алёшей, – сказала она, – Алексеем… Как же ты забыла, такое простое имя. Так и скажи этому хвастунишке Вовке, что папку твоего звали Алексеем, скажи ему, что он тоже погиб как герой.
Она помнит, как удивлённо, с каким-то просветлённым лицом Люба взглянула сквозь слёзы, спросила робко и с такой надеждой, что не дай бог было разуверить её:
– Правда, я могу сказать ему это?
– Конечно, можешь, – подтвердила Надя и только теперь поняла, какую опасную игру затеяла. К чему приведёт она, чем кончится? И для Любы, и для неё? Однако постаралась скрыть от Любы своё замешательство и даже сказала: – Мы с тобой должны им гордиться… Гордиться и помнить его, потому что он… он подарил нам жизнь. И тебе, и мне, и другим ребятам… Когда-нибудь я расскажу тебе о нём.
В те дни, словно разбуженная этим событием, она часто – чаще, чем прежде, – возвращалась памятью к осенним дням сорок первого года. Обычно собирались вечерами за столом – тётя Поля, Надя и Люба – пили чай и вспоминали. И Люба удивляла их обеих своей памятью, как много, оказывается, сохранила она: даже Саню, жениха своего пропащего, и его тоже вспоминала, и показывала, растопырив пальцы над головой: «Вот с такими ушами!»
А тётя Поля горевала:
– С обидой жил парень, а от обиды до беды… – и снова вздыхала: – Он мне, признаться, Михаила моего чем-то напоминал. Тот, бывало, тоже ежели упрётся… Потому и жалею, и вспоминаю его.
А исчез Саня на глазах у всех. Буквально как сквозь землю провалился. Случилось это в тот день, когда вызванный по рации самолёт вывозил найденных партизанами детдомовских ребят на Большую землю. Да, их искали. Искать начали, когда наткнулись в лесу на машину с пустым бензобаком. Когда бензин кончился, дядя Фёдор с тётей Полей повели ребят лесом, шли наугад, не решаясь выйти на дорогу, вскоре их и нашли. Неделю жили в партизанских землянках, ждали, когда пришлют обещанный самолёт. Когда он прилетел, на поляну, специально для посадки оборудованную, ребят собрали, и Саня до последней минуты был здесь. А потом, когда началась посадка, тётя Поля, крестясь от страха, стала всех пересчитывать и ахнула: Сани-то след простыл. Его искали по кустам, даже в лагерь бегали, по землянкам искали, командиру доложили: исчез, мол, мальчишка, и командир, раздосадованный этими свалившимися на его голову лишними хлопотами, растерянно разводил руками: самолёт нельзя было задерживать. Так и улетели без Сани.
А дядя Фёдор остался в отряде. На прощанье сказал Полине:
– Ты это, не серчай на меня. И не поминай лихом. Может, я в жизни и в сам деле не с той ноги плясал. Потому плохой танцор и получился. Попробую-ка по-другому доплясать, а уж как выйдет, не знаю. А эроплан этот не по мне. – Махнув рукой на самолёт, шагнул к Полине, неловко поцеловал её в щёку, сказал смущённо: – Свои, однако…
– Да брось ты, Фёдор, – не удержавшись, всплакнула тётя Поля, – чего зря казнишь-то себя, нашёл время. Сам берегись и пострела-то нашего, – она Саньку имела в виду, – погляди за им, коль объявится. И дай весточку, отпиши, как и что…
Но не дождались они вестей от Фёдора. Да и то сказать: куда, по какому адресу мог бы послать он тёте Поле обещанное письмо? Это плохие вести человека где угодно отыщут – вон как с тем письмом из госпиталя, – а хорошие не больно спешат. Тётя Поля ждала хороших вестей, на них надеялась и потому между делом поругивала «старого чёрта».
И лишь осенью, в сорок четвёртом, когда вернулась в Лугинино, узнала Надя, почему молчал дядя Фёдор.
Однажды группа партизан попала в окружение. Дядя Фёдор тоже был в той группе – упросился ребятам дорогу показать. Стали уходить от карателей, а он остался, решил взять огонь на себя. Как Алёша однажды. Ребята успели уйти, а он…
Ещё в сорок третьем, там, в эвакуации, Наде в руки попалась газета с указом о награждении орденами и медалями группы партизан. Стала читать список награждённых – и вдруг… Господи! Глазам своим не поверила: неужели Лидка, её школьная подруга! Имя, фамилия – всё совпадает. Ну, конечно, она! Надо же – орденом Красного Знамени…
От радости до конца не дочитала, схватив газету, побежала тётю Полю искать. Нашла, усадила её рядом, задыхаясь, стала вслух читать и тут увидела: на той же строчке, следом за фамилией, в скобочках было написано мелко: посмертно…
2
О встрече с Алёшиной матерью она думала уже давно. Ругала себя: ну почему до сих пор не смогла, не навестила?.. И возможность была. Не сидеть бы тогда на пристани, ожидая, когда подойдёт пароход и начнётся посадка, а добежать бы сразу до той знакомой улицы, минут десять-пятнадцать – вся дорога. В конце концов письмо-то она могла написать, ну, хоть коротенькую записочку. А могла ли? От одной мысли о том, как она обо всём напишет, сердце, казалось, холодело в груди. В самом деле, как написать об этом!
А потом начались хлопоты, суета на речном вокзале, посадка на пароход, которым их в тот же день – с самолёта да на пристань – из Волжска дальше отправляли, а тут ещё разговоры тревожные, что где-то на Волге, вчера или позавчера, фашистские самолёты бомбили пароход с беженцами – тут уж было не до письма!
А в сорок втором, когда радио принесло долгожданную весть, что Волжск освобождён, плакали от радости, обнимались тут же, у репродуктора, и с того дня уже стали ждать, что не сегодня-завтра освободят и Лугинино, и тогда, ну, пусть не сразу, сразу-то и билетов на поезд не достать, пусть через месяц-другой – дождутся, вытерпят, не такое терпели! – и поедут домой.
Тогда же, в этой общей радости, в ожидании новых добрых вестей, она сказала себе: может, и не стоит теперь торопиться с письмом? Пока идёт почта, они и сами поедут, и неизвестно ещё, что скорее, сами они или письмо…
Но возвращаться пришлось не скоро. От прежнего детского дома, из тех ребят, с которыми добирались до Тетюшей, осталось четверо. Остальные – кто в ФЗУ, кто на работу устроился. А тут стали новые прибывать – привозили их вместе с бойцами ранеными санитарные и другие поезда. Такие же сироты, без отцов, без матерей, но всё равно уже как будто и не свои, не лугининские. Они-то и задержали Надю с тётей Полей в Тетюшах ещё на два года: весь детский дом в Лугинино не повезёшь, но и здесь не оставишь. Ни воспитателей, ни учителей…
Лишь осенью сорок четвёртого после многократных запросов в район – помогите, мол, вернуться домой – пришёл наконец вызов: «Надежде Ивановне Строевой прибыть для формирования Лугининского детского дома…» Тётю Полю и Любу оставила – на них тоже нужно было вызов оформлять – и на четвёртые сутки, с пересадками, с утомительно долгими стоянками на каких-то станционных задворках, добралась наконец до Волжска. Здесь была последняя пересадка. Приехала в полночь, а поезд, оказалось, уходил рано утром, и надо было ждать. Вместе с другими пассажирами зашла в полутёмное здание вокзала. Найти свободное местечко, притулиться где-нибудь на лавочке и подремать до утра – ни о чём другом ей и думать не хотелось.
Хмурый, небритый дядька, в потрёпанном военном бушлате с пустым, заткнутым в карман рукавом, то ли от скуки, толи от жалости, заметив растерянно остановившуюся в дверях пассажирку, шевельнулся на лавке, позвал:
– Давай подсаживайся, коль не брезгуешь, – попытался передвинуться к краю, освободить Наде место, но как-то неловко, беспомощно ёрзнул на лавке, усмехнулся криво. – А эту штуку, – кивнул головой на мешок, стоявший справа от него, – скинь-ка его под лавку, пусть знает своё место.
Она подошла нерешительно и уже взялась было за лямку мешка, как вдруг увидела, что безрукий дядька ещё и без ноги: пустая, как и рукав, штанина, наполовину подвёрнутая, болталась над грязным полом, а из мешка, за который ухватилась она, торчала нога.
– Да ты не бойся, – дядька перехватил её испуганный взгляд, – она протезная. – И усмехнулся: – Вот приеду домой, присупоню её, родимую, и плясать пойду… Позовёшь на свадьбу, покажу, какие кренделя выкидываю. Я ж до войны первый плясун на деревне был, за что девки меня и любили. Теперь вот на железной плясать стану, – он бросил взгляд на свой мешок. – Мне бы руку ещё, такую же стальную, чтобы обнять так обнять… Как думаешь, научатся делать такие? Я думаю, научатся. Вот с головой, с другой какой частью тела – это, пожалуй, трудней, а руки запасные нашему брату давать будут. Работать же надо!
Поставив мешок с протезом на пол, Надя присела рядом с разговорчивым дядькой. Сидела и думала: «А если б и Алёша ко мне вот такой же пришёл, безрукий и безногий… Приняла бы его, жить с ним смогла бы?» Спросила себя как-то неопределённо, просто представила ту женщину, к которой едет дядька, и решила: пусть бы такой, пусть, но только Алёша…
Незаметно, под отзвук колёсного стука, который всё ещё продолжал жить в ней после долгой и утомительной дороги, Надя задремала. Всё ещё ехала и ехала куда-то, какие-то лица, знакомые и незнакомые, мелькали за вагонным окном, она вглядывалась в них, кого-то искала, хотела угадать, увидеть того человека, которого давно уже ищет и ждёт… И вдруг увидела и сразу узнала: да, это он, Алёша, его она искала, это его стриженая голова, его лицо, по-детски смущённая улыбка. Глядела сквозь мутное вагонное окно, которое разделяло их, уже видела то, чего так боялась, так не хотела увидеть: пустой рукав Алёшиной гимнастёрки, не один, оба… Он шёл рядом с поездом, рядом с её окном и улыбался виновато, и рукава, как два перебитых крыла, свисали с его плеч. А поезд всё шёл и шёл, чаще и громче стучали колёса, и Наде казалось, что он не остановится никогда, вот так и будет всё дальше уезжать.
Кажется, она закричала во сне: то ли «остановитесь», то ли «подождите» – и тут же, разбуженная собственным криком, проснулась с ощущением горькой, до слёз потери. Испугавшись, что крик её слышали все, огляделась смущённо по сторонам, не сразу сообразив, где она и что с ней. Но нет, похоже, никто не услышал крика, наверное, этот крик, как и всё остальное, ей приснился.
Какое-то время сидела, замерев, затаив дыхание, и слушала, как гулко и часто – так вот откуда этот всё убыстряющийся стук колёс – бьётся в груди сердце. Какая-то мысль, забота какая-то, разбуженная этим тревожным сном, не давала покоя, и Надя мучительно спрашивала себя: что же она должна сделать – то ли идти куда-то, то ли кого-то искать?..
Глядела в тёмное, наполовину забитое фанерным щитом вокзальное окно, за которым тускло отсвечивали редкие, ещё не отвыкшие от недавних маскировок пристанционные огни, глядела и, кажется, уже догадывалась, понимала, куда так настойчиво, с таким страхом и с таким необъяснимым желанием тянется она и тайными мыслями, и потревоженной душой. Там, теперь уж совсем близко – стоит подняться и пройти по виадуку над путаницей железнодорожных путей, потом спуститься и выйти на привокзальную площадь, – начинается город, в котором живёт одинокая женщина, Алёшина мать, и, может быть, именно в этот час, в эту минуту вот так же смотрит в тёмное окно и думает о сыне: где он, куда подевала его война?
Встать и бежать к ней сейчас же, через уснувший город, по тёмным улицам, отыскать её дом, вбежать в квартиру… и не носить в себе этот тяжкий, мучительный груз. Всё рассказать, поплакать вместе, погоревать, утешить и утешиться самой…
Мысль о возможной, теперь уже совсем близкой встрече так разволновала Надю, что она уже не могла усидеть на месте. Поднялась, направилась к выходу и уже в дверях, уловив наплывающий гул, заметила, как быстро ожил зал ожидания. Спящие и дремлющие будто и не спали: повскакали, задвигались, похватали мешки и чемоданы и, обгоняя, толкая друг друга, устремились к двери, ведущей на перрон, к которому подходил поезд.
Не успев выбраться в первую минуту, отошла в сторону, стала ждать. Зал быстро пустел. Видно, этого поезда и дожидались люди. Она заметила, как безрукий и безногий дядька нескладно и суетливо выплясывал со своим костылём возле опустевшей лавки: всё пытался и никак и не мог приладить свою ношу – развязавшийся мешок с протезной, поблескивающей никелированным металлом ногой.
– Подождите, я помогу вам! – Надя подбежала к нему, схватила злополучный мешок, потащила к выходу.
– Ну что ж, – неуклюже прыгая рядом, он шутил на ходу, – как говорится, ноги в руки… А сама-то куда едешь, красавица?
– Да мне в город надо, – крикнула она на бегу, – а утром на поезд. До утра ещё ждать.
– Так он же туда и идёт, – дядька потянул из её рук мешок с протезом. – Беги-ка лучше за билетом, а я и сам как-нибудь… Спасибо тебе.
Уже под последний гудок паровоза она подбежала с закомпостированным билетом к последнему вагону, прыгнула на подножку. Уже в вагоне спохватилась: ведь не успела, опять проехала мимо!.. Когда же теперь доведётся снова побывать здесь?
И вот собралась… Ехала и думала о предстоящей встрече, мысленно представляла себе, как это будет. Казалось, вот приедет, подойдёт к его дому, а у подъезда на лавочке женщины сидят, и она сразу узнает её. Как? Да очень просто. По Алёшиным серым глазам. Подойдёт и скажет: «А я к вам. Ведь вы Алёшина мама?» И женщина с Алёшиными глазами скажет удивлённо: «Да, я его мама. А вы-то кто будете?»
С этого, думалось, и начнётся их разговор. Разговор непростой и для Варвары Васильевны – так звали Алёшину маму, – и для неё, Нади, тоже. Всё это она понимала, а вот себя понять ну никак не могла. Вчера, например… Собиралась на поезд, прикидывала, в чём поедет, а что с собой возьмёт, чтобы утром в поезде переодеться. Гардероб-то, что и говорить, не ахти какой, но всё-таки… Две кофточки, ещё довоенные, чудом уцелевшие, и одна – с кружевным воротничком и с такой же кружевной планочкой на груди – ей особенно нравилась. Носить не носила – некуда, но для чего-то берегла. И вот – с чего бы это! – в последнюю минуту, тайком от тёти Поли и от Любы, которая как нарочно рядом вертелась, схватила впопыхах и сунула эту кофту в сумку. И кофту, и белые, ещё не ношенные носочки под туфли. Потом, уже в поезде, сидела у окна и мучилась понапрасну, казнила себя невесть за что: вот вырядилась, мол, будто на свиданье какое тайное, и кофточку эту – стыд-то какой! – украдкой… Ну, зачем это ей? Для кого надумала вырядиться, кому понравиться хочет? Уж не ей ли, незнакомой той женщине? Зачем? Ведь разговор, ради которого она едет… Ну, при чём, при чём здесь её голубая кофта?
…Всё вышло так и совсем не так, как она себе представляла. Была улица, та самая, которую назвал ей Алёша, она без труда нашла её, был дом – ну, конечно, конечно, вот он! – хотя никакой лавочки у подъезда не оказалось. Может, была, а теперь нет. Подъездов в доме два, и она вошла наугад в первый и, едва ступив на лестничную площадку, замерла: квартира с номером десять – его квартира – глядела на неё старой обшарпанной дверью.
Шагнула к двери, увидела замысловато изогнутую медную ручку, тускло поблескивающую в полутёмном коридоре. Как просто, подумалось, подойти и дотронуться рукой до этой ручки, которой когда-то касалась его рука, а теперь вот она касается её, словно здоровается с ним… через несколько лет, через множество других рук, которые открывали потом эту дверь уже без него.
Звонка в квартире не было, и Надя, немного потоптавшись у двери, постучала негромко и стала ждать. Но никто не открыл ей. Тогда она постучала снова, погромче, и на этот раз услышала, как кто-то, шаркая ногами по полу, идёт к двери. Потом загремели ключи, и недовольный старческий голос спросил:
– Кого надо?
– Я к вам, Варвара Васильевна, – дрогнувшим голосом сказала Надя, успев подумать при этом, что не таким представлялся ей голос Алёшиной мамы.
– Ко-го? – удивлённо, врастяжку переспросили за дверью.
– Варвара Васильевна, – неуверенно повторила Надя, – к вам можно?
И вдруг – молчание. Долгое и странное. Будто за дверью и не было никого – так тихо там стало. Но вот опять загремели ключи, дважды щёлкнул один замок, потом второй. Дверь приоткрылась. В тёмном проёме шириной в ладонь, звякнув, провисла стальная цепочка, и в полутьме коридора возникло едва различимое, похоже, совсем ещё не старое лицо, глаза настороженные и неприветливые, торопливо обшаривающие гостью с ног до головы.
Нет, не её, не Варвары Васильевны, глаза! Надя увидела их и сразу поняла это.
Спросила по-другому:
– Могу ли я видеть Варвару Васильевну? Она мне очень нужна.
– И-и-и, милая, – не то сочувственно, не то с насмешкой пропела хозяйка, – припозднилась ты до Варвары Васильевны, ох как припозднилась. Видать, не близко где-то была, коли не знаешь…
– Что я не знаю? – с первой минуты, едва услышав скрипучий голос за дверью, чувствуя и подавляя в себе растущую неприязнь к этой женщине, Надя глядела теперь на неприветливую тётку почти враждебно. И вот теперь эти странные слова… О чём это она?
Откинув цепочку, тётка вышла в коридор, прикрыла дверь за собой. Рассказала:
– В сорок первом, под осень, нас на окопы посылали. Я-то соседкой её была, одну кухню делили. Ну, мне с ногами моими только окопы рыть! Освободили по справке. Всё по закону. А она, стал быть… Не помню уж где, не буду врать, то ли под Старицей, то ли под Ржевом… В общем, рыли окопы, ну, и налёт, известное дело. Пулемётами стали косить. Кто половчее да помоложе, укрылся в тех же окопах, а она не успела. Там где-то, слыхала, и схоронили… Ну, а ты-то кто ей будешь?
Возвращалась на вокзал в дребезжащем стареньком трамвае, ещё с фанерными листами, вставленными в окна вместо разбитых стёкол, а в ушах всё вязался этот голос: «Ну, а ты-то кто?..» За уцелевшим застеклённым окном вагона горьким напоминанием о недавней ещё войне громоздились развалины, чёрными, выгоревшими глазницами окон глядели коробки полуразрушенных домов, украшавших до войны этот ведущий к вокзалу проспект. Глядела из окна, и было такое чувство, будто не только она, но и сам город, вот эти улицы, этот проспект, по которому ходил когда-то Алёша, где жила его мать, и они осиротели тоже. Ощущение этого сиротства, беспомощности и неясной своей вины – в чём, перед кем? – всё это мучило её теперь, вновь и вновь заставляло думать о встрече, которая не состоялась и которая уже не состоится теперь никогда, потому что она, Надя, «припозднилась…».
3
Она вошла в зал ожидания, встала в очередь к билетной кассе. Стояла, отгородившись ото всех своими невесёлыми мыслями. Потому и не обратила внимания на того высокого военного, который в это время отошёл от окошечка кассы. Впрочем, нет. Уже тогда, в первую минуту, встав в очередь, она мимоходом отметила про себя, что где-то, кажется, видела этого военного, стоявшего у окошка. А может, он просто кого-то напомнил ей – на кого-то он был похож. Уж очень знакомо улыбался… И почему-то глядел на неё.
С этой улыбкой да ещё с широко распахнутыми – будто для объятий – руками он шёл вдоль жиденькой, в пять-шесть человек, очереди, и все, кто стоял в ней, да и сама Надя с интересом и ожиданием глядели на него. И Надя ещё успела подумать, что вот, мол, с таких, с блестящими погонами да с колодками медалей и орденов, с такими улыбками, с них, наверное, и надо писать картины о нашей победе. Нарисуешь с натуры такого, и подписывать ничего не надо. Ясно, что победитель.
Тут он и остановился. Стоял и, улыбаясь, глядел на неё, готовый и впрямь обнять её. И только потерянный, безразлично блуждающий Надин взгляд, а может, собственное короткое сомнение – а не ошибся ли? – ещё удерживали его от этого шага.
– Или я обознался, – сказал он, вопросительно глядя на неё, – или вы… – И вдруг сказал так уверенно, будто и не было у него никаких сомнений: – Ну, здравствуйте, Надя. Неужели не узнаёте? Это же я, Сергей.
Он уже тормошил её за руку, тянул из очереди, и она, не сопротивляясь, не говоря ни слова, покорно шла за ним.
– Ну, теперь-то вы вспомнили? Посёлок Лугинино, сорок первый год, наше училище, ваш детский дом…
Теперь-то она вспомнила, ещё бы не вспомнить! Труднее было другое – узнать в этом блестящем офицере-победителе того красивого курсанта, Алёшиного однокашника, которого, если быть откровенной, она и в самом деле вспоминала не раз, но вспоминала так, что вначале всегда был Алёша, а он уж потом. Чем вспоминался? Да вот этой улыбочкой самоуверенной и таким же уверенным, уже тогда командирским голосом… Ещё словами, очень красивыми и потому, может быть, казавшимися ей не очень искренними, какие он говорил ей однажды, в тот далёкий вечер. Но как давно это было! Да и было ли?
И словно оттуда, из той далёкой жизни, слышался ей знакомый голос:
– Вот это встреча! Сказка, да и только. А говорят, что чудес не бывает. – Он уводил её из зала ожидания, от любопытных глаз. – Нет, вы как хотите, Надя, а это судьба, самая натуральная. Вы уж поверьте, я эту штуку на пушечный выстрел чую. Может, потому и вылез оттуда. – Они уже шли по перрону, он держал её под руку, и она чувствовала, как крепко и надёжно сжимает ей локоть его рука. – Ну, в самом деле, – говорил он, – приехать на один день и перед самым отъездом, за пять минут, – он досадливо поглядел на ручные часы, – теперь даже не за пять, а за три минуты… – И вдруг спохватился: – Да, а вам-то куда, не в Москву ли? Тогда совсем здорово. Едем вместе, и у нас куча времени, чтобы поговорить. Но вы же билет ещё не взяли!..
Готовый бежать назад, к кассе за билетом, остановился, взглянул на неё, а потом туда, откуда уже нарастал, приближался паровозный гул. Она успокоила его:
– Да не волнуйтесь, мне не в Москву, совсем в другую сторону, и я ещё успею купить билет. А вы…
Хотела сказать: счастливо, мол, до встречи… Но тут же подумала: а о какой встрече может быть речь? Встретились случайно и разошлись, вернее, разъехались в разные стороны, ну и ладно.
А поезд уже подходил к перрону, уже прогрохотал мимо них паровоз, уже поплыли, сбавляя ход, вагоны, а он всё стоял рядом и глядел на неё, будто спрашивал совета, как же ему быть: ехать или остаться?
Потом они стояли возле вагона, и проводница в дверях строго и осуждающе – так показалось Наде – глядела на них, подгоняя Сергея своим сердитым взглядом, а он стоял и улыбался, словно и не собирался садиться в вагон.
– Эй, герой, – не выдержав, позвала его проводница, – смотри не догонишь. Я ведь и дверь закрою.
– Догоню, мамаша, – улыбаясь, он махнул рукой. – Считай, что догнал уже!..
В привокзальном буфете, за столиком, моментально покрытым свежей, будто специально для них прибережённой скатертью, в окружении шумных посетителей, которым – ну, всем до единого! – хотелось непременно подойти, а то и подсесть к ним за столик, выпить или просто чокнуться с майором и его молодой женой – почему-то их сразу приняли за молодожёнов – Надя чувствовала себя не в своей тарелке. И бутылка вина на столе, и бокалы, которые тоже специально, как и чистую скатерть, раздобыла обходительная официантка, – всё это смущало её. Смущала и та лёгкость, с какой уже с первых минут вёл себя Сергей, как просто и привычно принимал он внимание посторонних, предупредительность явно кокетничавшей с ним официантки.
Но, может, она слишком строга и несправедлива к нему, может, это ей, дикарке, в кои-то веки выбравшейся в город, так показалось? В самом деле, ну что тут особенного! Он пригласил её посидеть, выпить за встречу, и она согласилась, выпила немножко, меньше чем полбокала, и вино, кстати, оказалось очень вкусным, она никогда не пила такого, да и вообще до этого один раз всего выпивала – в День Победы. А эта официантка, эти люди за соседними столиками… Ну и что, пусть себе смотрят, если им интересно, пусть думают, что хотят, пусть они будут для них муж и жена. Так даже удобнее, спокойнее даже – никто приставать не станет. За ним, за Серёжей, как за каменной стеной. Вон он какой!.. А они посидят и уйдут, и билет на осташковский поезд у неё уже в сумочке, и до поезда осталось совсем немного. Как встретились, так и разъедутся. Она – в одну сторону, он – в другую. Велика ли беда!
И вот разъехались… Он – в Москву, а она – домой.
Замелькали знакомые перелески. А это значит, прикинула Надя, что Сергей уже к Москве подъезжает. Надя представила его сидящим в вагоне – как он глядит в эту минуту в тёмное окно, о чём-то думает, наверное, что-то вспоминает. Вот как и она сейчас. Интересно, о чём?
Что-то он говорил ей там, в буфете, кажется, опять про судьбу, про их вовсе не случайную и уж конечно не последнюю встречу, а ещё про то, что там, на фронте, он будто бы часто вспоминал её, ту ночь вспоминал, когда он её в парке после кино встретил. Говорил, а сам будто подсмеивался над собой, тем, прежним. Сказал, покачав головой:
– Да, какие гусары были! Зелёные, как детский сад.
И разговор их у крыльца, тоже, казалось, последний, но вот не последний, выходит, – и его припомнил. А она сидела напротив, слегка захмелевшая, слушала и даже кивала согласно головой: мол, помню, конечно, помню, – а сама всё ждала: когда же он про Алёшу-то спросит – мол, знает ли она о нём хоть что-нибудь, где он, что с ним? Была уверена, что спросит, хотя и не очень хотела этого. Её казалось почему-то, что упоминание об Алёше теперь, в этом не очень серьёзном, почти случайном, как и сама эта встреча, разговоре, за этим столиком, в прокуренном буфете, будет не очень уместным. Ему, Алёше, это было бы неприятно.







