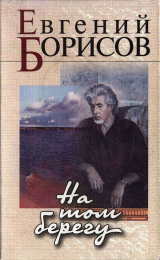
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
– Ну, чего уставились? Долго я вас ждать-то буду? Вот как съем всё, будете знать!
И застучали ложки…
НА ТОМ БЕРЕГУ
К реке Иван спустился в тот ранний час, когда над берегом, за его спиной, медленно поднималось солнце. Левый берег, крутой, высокий, весь кустарником и молодым сосняком зарос, и оттого у воды, в подъярье, где возле дощатых мостков, поджидая хозяина, тёрлась, поскрипывая, Иванова лодка, было сумеречно и стыло, словно здесь, под берегом, в омутово непроглядной глубине затаилась недолгая июньская ночь.
А на другом, на правом берегу уже совсем светло. Солнце успело добраться туда, перемахнув с левого берега – через кусты, через Волгу, – высветило добела широкую песчаную отмель, резким тёмно-зелёным клином обозначило картофельное поле и дальше, дальше пошло – по деревенским крышам, по заборам, по огородным грядкам, к дальнему лесу.
Деревня от реки не далеко и не близко – вся на виду. На сухом песчаном угоре двенадцать домов в один ряд, стоят они ровным порядком, окнами на реку, дворами к огородам, к лесу, соблюдая почтительный интервал, и только в одном месте, поближе к правому краю – широкий просвет меж дворами. Выгон не выгон – пустота…
На это месте и стоял Иванов дом. Крепкий был дом, хоть и старый. Дед ещё строил. Позапрошлой осенью, когда Иван с мужиками разбирал его, чтобы потом по ледоставу сюда, на левый берег перевезти, Иван все брёвнышки до единого самолично топором обстукал, как папа Карло своё полено со всех сторон оглядел – гудят, как литые. Четыре бревна из нижнего венца только и выбросил – подгнили малость. Не тащить же с собой в новую жизнь это гнильё…
Минуту-другую стоит Иван у воды, спросонья пялится на противоположный берег, чего-то ждёт, о чём-то думает. Лицо у него заспанное, помятое и оттого хмурое, как будто кто-то силком поднял его с тёплой постели и погнал сюда ни свет ни заря. Он ёжится, зябко поводит плечами, часто и глубоко затягивается сигаретой. Сизоватый пугливый дымок, срываясь, тает у него за спиной.
На том берегу просыпаются рано. Вот и теперь уже кто-то громыхает вёдрами у колодца, чья-то калитка скрипнула… А вот и белая рубашка мелькнула на крыльце. Не Санька ли Сукромин покурить вышел? Ему-то чего не спится? Приглядевшись повнимательнее, понял Иван, что ошибся: нет, не Санька это, да и дом Сукроминых – следующий, с голубыми наличниками, с белыми занавесочками на окнах.
«Эти ещё дрыхнут небось, – размышляет Иван, – а может, и проснулись, да подыматься не хотят. Ва-ля-ются…»
И от того, что грезится ему при этом, Ивану вдруг становится не по себе: и жар в лицо, и в голове туман… Будто с реки, с того берега надуло. И сквозь этот туман видится ему чужой, потаённый мрак сукроминского дома, широкая кровать за призадёрнутым цветастым пологом, а на кровати, на жаркой перине двое – Санька Сукромин, бывший его закадыка, и Варька Ильина, теперь и не Ильина вовсе, а Сукромина. «Лежат, нежатся… Мля…»
А ведь всё по-другому могло сложиться, и не Санька, а он, Иван, мог бы валяться теперь с Варюхой в своей постели…
Четыре года назад, когда их обоих, Ивана и Саньку, в армию призвали, она, Варька-то, ему, Ивану, письма писать обещала. Выходит, и ждать бы его должна была. Ещё бы не ждать, если столько было обещано: и свадьба на всю деревню, и дом, и корова, и всё хозяйство, что от отца-матери к Ивану, по всем расчётам, должно перейти. Мать-то к той поре совсем износилась, отпахала свой век… Успеть бы застать её после армии.
А Варюха, признаться, и тогда, уже с первых писем настораживала: все Ивановы посулы, какие он ей расписывал, она как и не замечала. Размышляя на досуге над этой странностью, Иван в конце концов сделал для себя такой вывод: мол, стесняется девка о деле-то писать, а сама небось там кругами возле его хоромин ходит. Приглядывается.
Однако осечка в расчётах вышла: ни домом, ни коровой, ни хозяйством обещанным не удалось Ивану приманить Варькину любовь. Его ли была в том вина, или судьба-злодейка сыграла с ним злую шутку – поди теперь разберись. Но факт остаётся фактом…
Вернувшись месяцем раньше домой, отличник десантных войск Санька Сукромин ухитрился обскакать Ивана сразу по двум статьям: и зав мастерскими ремонтными стал, и с Варькой Ильиной успел сговориться и даже свадьбу сыграть. Вот тебе и закадыка!
С горя-отчаяния собрался было Иван плюнуть на всё и ломануться куда подальше – с глаз долой, из сердца вон. Но куда? Так его где-то и ждут с распростёртыми!.. А тут ещё дружки-приятели стали сочувствие проявлять, подначивать начали: мол, зря ты, Ваня, без боя сдал свои позиции, мол, в прежние времена да за такую подлянку, какую тебе Санёк сотворил, морду били, а то и на дуэль… Да и Варьке, изменьщице, не мешало бы сказать пару ласковых…
Морду бить счастливому сопернику Иван не пожелал, дуэль тоже не подходила – на чём драться-то, на тех же кулаках? Стройбату против десантника?.. А вот потолковать по душам… Однажды уже наладился было, малость принял для храбрости духа, недопитую бутылку, побольше половины, взял с собой. Думал, посидят они с Санькой где-нибудь в тенёчке, в огороде, побеседуют, может, что-то и решат мирным путём. А спросить самого себя, что там решать-то, когда свадьба давно сыграна, – об этом Иван не подумал.
Вот с такими неопределёнными, но вполне мирными намерениями он и взошёл однажды к Сукроминым на крыльцо, но вместо душевного разговора одна буза получилась. Едва Санька вышел к нему, ещё не успел нежданному гостю руку протянуть, как тот, сам того не желая, ухватил его за грудки, запетушился, но тут же в мгновение ока полетел кубарем с высокого сукроминского крыльца. Сраму – на всю деревню!
…На этом неприятном воспоминании оторвал Иван взгляд от голубых ставен. За Ильиными, за Сукромиными ещё два дома, а там и тёщин двор, в котором Зойка, его нынешняя супружница, проживала. Не она ли с утра-то пораньше вёдрами громыхает? Вчера, уже под вечер, она снарядилась к матери – за сметаной-творогом, сказала Ивану, что на ночь останется, матери с дойкой подсобить. И вот взбутетенилась! Сейчас узреет его на берегу, орать начнёт: Вань, перевези! Всю рыбалку ему испортит.
На тот берег к матери Зойка ездит почти каждый день. Как на работу. Корова у тёщи хорошая, молока – пруд пруди. Вот и наладили безотходное производство, семейный подряд, можно сказать: бурёнка пасётся на вольных колхозных хлебах, с пастухом Иван через тёщу бутылкой расплачивается, а тёща, как молокозавод, производит натуральный экологически чистый продукт: немного себе – похлёбку подбелить, остальное Зойке – на продажу. Дачникам. Здесь у неё свои клиенты. С утра пораньше с банками да кринками к ней тянутся. Кто-то из дачников даже пошутил: мол, не зарастает к тебе, Зойка, народная тропа… Вот по этой тропе уже второй год и шествует к ней дачный народ.
Дальше тёщиного дома глядится с неохотой, но и обойти взглядом этот сиротский просвет между избами Ивану никак не удаётся. Как магнитом тянет! Тут, хочешь не хочешь, а вторую сигарету приходится доставать…
Как-то на Ильин день гостили у тёщи, посидели за столом, потом Зойка с матерью к соседке Маркеловне собралась. Звали Ивана, но тот заупрямился: не захотелось на деревне светиться. После семейной застолицы вышел в огород покурить, а оттуда ноги сами понесли его по заветной, давно не хоженой тропинке – к пустырю, выше пояса заросшему лебедой да иван-чаем. Пока топтался на останках бывшего дома, колупнул ногой кучу мусора – как будто что-то искал, очень нужное, потерянное – и извлёк из земли здоровенный ржавый гвоздь, видно, в кузнице кованый. Поднял, повертел его в руках, подумал: не с этого ли гвоздя его дед этот дом начинал строить? Хотел в карман запихнуть – на память, да брюки новые пожалел, и зашвырнул в сердцах подальше, в лебеду, к бывшему огороду. Усмехнулся невесело: «Может, новая хоромина вырастет…»
Вот такая невесёлая картина получалась: дед строил, отец достраивал, сад-огород с матерью разводил, а он, Иван, одним махом взял да и порушил всё… Тут же вспомнил, как неладно вышло у него с этим садом. Сад был небольшой – пять яблонь и четыре вишни. Это не считая малины, сливы, смородины… В сорок пятом, осенью, вернувшись с войны, отец Ивана с полмесяца отлёживался после госпиталя, а потом вдруг заявил матери, что желает в огороде, где капуста да картошка растёт, сад развести. И развёл. Саженцы сажал со смыслом: пять яблонь – это пять отцовских наград, а вишни – его четыре тяжёлых ранения. Когда сажал, всё приговаривал: «Родная земля, она и родит, и лечит, и покой даёт. Сам яблок не дождусь – детям, внукам достанутся…»
Выкапывать яблони было жалко до слёз. Иван хотел даже оставить: пусть, мол, растут на отцовской земле. А потом вдруг прикинул: для кого оставлять-то? Будут рвать все, кому не лень, оберут и спасибо не скажут. И срубил яблони под корень. А вишни с собой, на левый берег перевёз, посадил заново. Думал, приживутся. А они и засохли. Видно, какая-то сила в отцовской земле была, если без неё деревья сохнут…
А с переездом на левый берег – тоже история… Бес не бес, но какая-то нечистая сила, похоже, Ивана тогда попутала. А если уж честно – без Варькиных происков и тут не обошлось.
Как-то после той баталии, разыгравшейся возле сукроминского крыльца, встретила она Ивана на улице, даже первая поздоровалась, как ни в чём не бывало, и тут же предупредила:
– Вань, христом-богом прошу… Миром не отстанешь, я за Саньку не ручаюсь. Ну, не сладилось у нас с тобой, чего теперь-то… И себе, и другим нервы трепать. Насильно всё равно мил не будешь. А Санька, сам знаешь, мужик горячий, приёмам разным обучен, не дай бог…
– А ты за меня не боись, я уж как-нибудь без твоих этих… Нас тоже там кой-чему научили… сапёрной лопатой.
– Ну и дурак! – простодушно, но с сожалением сказала Варька. – Послушай лучше совета… Чем дурью маяться да алкашей своих слушать, съездил бы на тот берег…
– Это чтобы с глаз подальше? Чего я там не видал?
– Да не ерепенься ты, послушай. Там, говорят, садовый кооператив затевают строить, прямо напротив нас, на пустошах, – она показала на тот берег рукой. – Городские начальники местечко себе облюбовали, строителей, плотников ищут. А хороших, непьющих, вроде тебя, – не удержалась, съязвила, – с руками оторвут… У тебя ж, Ваня, золотые руки.
– Ну и чё?
– А вот и чё! – передразнила Варвара. – Побрился бы, просох бы маленько да и сплавал на тот берег, потолковал. Вон Зойку, соседку, с собой возьми. Давно по тебе сохнет…
– В сватьи набиваешься?
– А почему бы и нет. По старой памяти…
Словом, пустила, что называется, ежа Ивану под череп и пошла своей дорогой.
Как ни крутил, а всё в конце концов по-Варькиному вышло. С неделю похорохорился Иван – всё боялся свою зависимость от Варькиных участливых советов показать, – а потом решил сплавать на тот берег, провести разведку: вдруг и в самом деле что-то обломится?.. Сплавал, подивился разворотливости, с какой шустрые члены новорожденного кооператива внедрялись в отведённые им земельные наделы, без особого труда отыскал какого-то солидного дядьку, оказавшегося председателем этого кооператива, и, к удивлению своему, был принят им как желанный заморский гость или как посланник далёкой планеты, явившийся на грешную землю, к этим беспомощным, но, судя по всему, хватким и неленивым людям, руки которых не знали ни топора, ни рубанка, но которым очень хотелось устроить себе маленький рай на этом бросовом участке земли, поросшем молодым сосняком и кустарником.
С него, с председателя этого, с его двухэтажного коттеджа и начал Иван демонстрировать своё плотницкое мастерство. Не заметил, как к нему уже и очередь выстроилась…
Через год, получив в порядке исключения участок земли, а в придачу – и должность сторожа, перетащил Иван на левый берег родительскую хоромину. К осени свадьбу с Зойкой справили. Была мыслишка: Варьку с Санькой на свадьбу позвать, заодно и мировую устроить… Мол, кто старое вспомянет… Но тут и взыграло ретивое: «Да пошли они! Мы теперь тоже не те, ходим, стало быть, в новом пальте…»
Зато председатель кооператива, он же депутат городской думы, на свадьбе у Ивана на самом почётном месте сидел. Жаль, конечно, что Варька тех слов не слышала, какие в тот вечер гости про Ивана и его золотые руки говорили. Ну да бог с ним!..
…То ли от холода, то ли от мыслей этих вдруг зябко становится. Поёжившись, решительно бросив недокуренную сигарету в воду, Иван спускается к мосткам. Гулко грохает цепь, конец её бухает в воду, и тут же где-то на середине реки, испуганная этим грохотом, всплескивает большая рыба.
– Вона как! – откликается Иван. – Не иначе, меня дожидается. Погодь, погодь малость, мы сейчас…
Разбуженный этим всплеском, он проворно садится в лодку, берёт со дна обрубок весла – какой уж день выстругать новое собирается, всё руки не доходят, – отталкивается им от мостков, осторожно, словно ступая в воду босой ногой – не холодна ли? – трогает веслом воду, сначала по одну сторону лодки, потом по другую. Гребёт аккуратно, без плеска, направляя лодку вдоль берега к зарослям ивняка, к тому месту, где, невидимый, замытый песком, прячется кол, от которого в глубь реки, едва ли не к самой её середине, уходит крепкая капроновая леса с множеством поводков.
На крючки Иван не поскупился, густо навешал, один от другого – аккурат по длине поводка. Вчера, уже затемно, проверял перемёт, часа полтора провозился, даже умаялся, но хорошей рыбы не снял, так, мелочишка разная, ерши да плотвичка. А ещё ракушки… Эти – как зараза, прищучат крючок с червяком и висят, у порядочной рыбы хлеб отнимают… Вечернюю рыбу Иван обычно себе оставляет, на уху, на жарёху, а утреннюю, если повезёт – щука там или лещ, а ещё лучше судачок – эту на продажу. Дачники народ небедный, хотя и прижимистый, но свежую рыбку уважают. Сами не ловят, где им, редко кто в выходной спустится к реке, помашет удочкой, а потом всё равно к нему, к Ивану, за «уловом» бегут. В основном же все с утра до вечера в огородах да парниках копаются. Или по гостям друг к дружке ходят. На преферанс. Это у них «расписать пульку» называется. Нет, в эти замысловатые игры Иван не играет. Вот в подкидного дурака с Зойкой, это пожалуйста. Другое дело, если кто-то из городских начальников на подмогу позовёт: проводку исправить, крылечко на веранде подновить… Потом к столу пригласят, вместе с тобой посидят за бутылкой, иной раз и посплетничают… После этих посиделок явится Иван домой – никакого телевизора не надо. С Зойкой свежей информацией делится. «Зойк, – скажет он, – ты вот сидишь тут на лавочке, ворота сторожишь, а знаешь, что наши эти, – и назовёт фамилию одного-другого соседа по даче, – знаешь, какие дела они в своей долбаной думе проворачивают! А судака придёт покупать – за червонец готов удавиться. Ты, Зойк, как хошь, но в эту думу или в мэрию эту я б ни за какие баранки не пошёл…» «И не ходи, – соглашается Зойка, – чего ты там не видел».
Оттого, что грести приходится одним веслом, лодка идёт валко: то одним бортом заберёт, то другим, но вот, наконец, и добрался. Иван ложится грудью на левый борт, одной рукой хватается за ветки, чтобы лодку не снесло, а другой, с засученным выше локтя рукавом, шарит в воде, по песчаному дну. Нащупав лесу, успокаивается – слава богу, не подкараулили, не зацепили и не уволокли лодочным мотором, – поднимает лесу над водой, закидывает на нос лодки, за железное кольцо, и осторожно начинает выбирать перемёт из воды, тем самым подтягивая лодку.
Поначалу трос подаётся легко. Здесь, на мели, крючок мелкий, мелочь и берёт, с этой рыбёшкой Иван даже не церемонится, чтобы время зря не терять – вместо живца оставляет, вся рыба дальше, на глубине…
А на реке по-прежнему тишина. Солнышко пригревает, на спокойной воде серебром и золотом поигрывает. Благодать! Иван и дальше бы не прочь повспоминать, побродить мыслями по своей бывшей деревне, по недавней жизни своей. Но в этот момент какая-то неведомая сила медленно повела лесу в сторону, а за ней и лодку потащила. Ни толчка, ни подёргивания, лишь едва уловимое, но настойчивое, не обещающее уступок натяжение…
Сердце рыбацкое подсказало Ивану: всё, началась работа! Теперь только бы не спугнуть, не громыхнуть бы подсачником… Кстати, куда он запропастился? Ах, вот он, под рукой… И вываживать потихонечку, не подсекая, подыгрывая ей… Медленно, сантиметр за сантиметром, Иван перебирает дрожащими руками туго натянутую лесу, осторожно, чтобы не качнулась лодка, приваливается грудью к правому борту, склоняется над водой; от нетерпения, от предчувствия невероятной удачи сердце того гляди выскочит из-под ветровки. Ещё секунда, ещё усилие…
Но то, что в этот момент увидел Иван, не то чтобы удивило или потрясло его рыбацкое воображение, а испугало. Испугало настолько, что он напрочь забыл, что и как в таких случаях надо делать. Всю жизнь прожив на большой реке, понаслушавшись великое множество рыбацких баек, Иван впервые своими глазами увидел такое… Увидел он, как что-то странное всплывало с ленивой покорностью из речной глубины, и это что-то было черно и огромно.
«Неужто бревно!» – почти с облегчением подумал он, хотя уже знал, чувствовал, что не бревно это вовсе. Он глядел завороженно на эту чёрную тень, спокойно пролегшую почти у самой поверхности воды, вдоль борта, глядел и чувствовал, как холодеет у него спина, как немеют в бессилии руки.
«Господи, да что же это? – затаившись, в испуге подумал он. – Как же быть-то? – Он только подумал так, а ему показалось, что он прокричал это вслух, на всю реку: до того напряжено всё было в нём, что даже непроизнесённые слова, казалось, отозвались над рекой гулким эхом. – Что же делать-то, ведь не взять одному, не осилить…»
И вдруг неожиданно его осенило: «А если веслом, вот этим обрубком?.. Подтянуть лесу, ещё немного, самую малость, чтобы она высунулась на поверхность, и со всего маху по башке…»
Дрожь по-прежнему колотила его, дрожали руки, но он теперь знал, что надо делать. Однако прежде чем решиться на этот шаг, Иван по-хозяйски успел прикинуть: «Это ж на сколько она потянет? Килограммов на двадцать, а то и больше… Больше штуки получится… Мля!»
От мысли этой у Ивана словно прибавилось сил. Опустив на дно лодки ненужный подсачник, он нащупал рукой под лавкой сломанное весло. Оно показалось неожиданно лёгким, неувесистым, таким, пожалуй, и не ударить как надо, и всё же – была – не была!
Он чуть привстал с лавки, почувствовал, как неловко, ненадёжно стоять вот так, на полусогнутых, в этой чуткой к любому неосторожному движению лодке; слабым усилием потянул на себя лесу и стал поднимать руку с веслом, и уже замахнулся для решительного удара, но тут увидел… В последний момент увидел Иван огромный и, как ему показалось, зловещий щучий глаз, светящийся из-под воды жутковатым жёлтым светом, и глаз этот глядел прямо на него, на Ивана.
Иван услышал, как стукнуло о лодку вывалившееся из руки весло, как шлёпнулось оно за борт, и тут же скорее почувствовал, чем увидел, как судорожно, прижав лодку к воде, натянулась леса, и как резко, словно хлыст, секанула она по воде и пропала, то ли оборвалась, то ли ушла на дно, и что-то ухнуло под лодкой, даже всколыхнуло её, а по воде вокруг неё пошли круги. И всё, и опять тишина. Как и не было ничего. Как будто всё это приснилось, мираж какой-то: привиделось на миг и пропало.
Обессиленный, вялый, как после долгой бессонной ночи, Иван опустился на лавку. Его мутило. Казалось, какая-то пружина, минуту назад закручивавшаяся в нём в тугое кольцо, вдруг не выдержала – сорвалась, распустилась, ослабла. Он сидел ссутулившись, по-рыбьи широко и часто открывая рот, хватая воздух. Тошнота подступила к горлу, на бровях, на лбу выступила испарина. Вялой рукой он зачерпнул воду, плеснул в разгорячённое лицо. Потом ещё и ещё раз плеснул, почувствовал, как сходит с лица жар, как медленно, холодящими струйками стекает за ворот ветровки вода, как тут же теплеет она на груди, на спине.
Захотелось курить. Иван машинально хлопнул рукой по карману, качнув лодку, привалился на левый бок, чтобы вытащить сигареты. В спокойной, светлеющей от солнца воде вдруг снова померещился Ивану тот же желтовато-мутный щучий глаз…
«Тьфу ты, нечистая! – плюнул он в воду. – Вот напасть-то… Выгребать бы отсюда надо… Подобру-поздорову!..»
И вдруг спохватился: что-то неладное сделал он, что-то было в его руках, а теперь чего-то не хватает… Вспомнил, как шлёпнулся в воду обломок весла, как хлестнула и исчезла под лодкой струной натянутая леса перемёта…
– Вот это номер! – вслух ужаснулся Иван. – Как же это меня угораздило-то?..
Окинув растерянным взглядом ровную гладь воды, он увидел своё весло. Оно плыло по течению, удаляясь всё дальше и дальше от лодки, и ярко оранжевой своей окраской напоминало плавник той огромной рыбы, которая мгновением раньше сорвалась у него с крючка.
Сознание нелепости положения – без весла и без перемёта – на какое-то мгновение отвлекло его от мысли о рыбацкой неудаче, однако этого вполне хватило, чтобы прикинуть, каким манером он будет добираться до берега. Впрочем, чего тут раздумывать: раздеться, прыгнуть в воду, а потом, подталкивая лодку, доплыть до берега. Всего и делов-то!..
А солнце тем временем поднялось высоко. Теперь и левый берег повеселел от солнца. Время к полудню шло, пора было торопиться. Иван принялся стягивать тяжёлый, нагретый солнцем сапог. Стянул один, за второй взялся, и тут услышал:
– Ва-ня-а-а-а!
Кто-то звал его с правого берега. Зойка небось заждалась. Но по голосу – не она. Иван поднял голову; на берегу, у самой воды, на песчаной отмели стояли двое, две женщины, но кто они – попробуй разгляди, когда солнце бьёт прямо в глаза.
Стянув наконец один сапог, Иван стал ждать: позовут или не позовут снова? И тут же услышал:
– Ва-ня-а-а-а!
Было похоже, что та, которая кричала, то ли не видела, что он в лодке сидит, то ли не признала: уж больно громко она орала, явно вызывая его с того берега. Уж лучше бы не узнала, подумал Иван, куда ж ему без вёсел-то?.. А голос всё звал и звал, вселяя в душу Ивана неясную тревогу.
Если разобраться, то ничего необычного или странного в этом крике не было. И прежде, бывало, поутру заголосит кто-нибудь с того берега – в магазин или на автобус в город кому-то приспичит: Ивана зовут. У него на два берега одна лодка. Но всех крикунов тоже не перевезёшь, хоть и земляки – тут ни дня, ни сил не хватит. Откликался по выбору. Услышит голос, прикинет: «Ага, никак Степан Векшин орёт, это свой человек, в соседях жили». Брал вёсла, не торопясь спускался к реке, заранее зная, зачем Степану приспичило: ясное дело, в магазин, за бутылкой. Бывало, вместе и «уговаривали» одну на двоих, тут же на бережке.
А однажды своим ушам не поверил: Варька Сукромиха его зовёт. Думал, почудилось. Прислушался: она и есть. С чего бы вдруг? Сорвался было, чтобы за вёслами бежать, уже прикинул наперёд, как будут сидеть они в лодке друг против друга, какие слова он ей скажет при этом… Но тут словно бес какой-то взял да и ухватил его за штанину, усадил на крыльцо и зашептал на ухо: «Сиди, куда тебя понесло! Пусть себе орёт на здоровье. У Саньки небось денег куры не клюют, вот пусть моторку тебе купит да и возит взад-вперёд…»
И не пошёл.
А этот голос был незнакомый. Всех успел перебрать, но ни на кого из деревенских подумать не смог. Он так и сидел в лодке при одном сапоге, не зная, что предпринять: снимать второй сапог или подождать, пока лодку подальше не унесло? А её всё несло и несло: то носом, то кормой к правому берегу поворачивало. Прикинул на глазок: если и дальше так сидеть, сложа руки – это куда ж его вынесет, к какому берегу причалит?
А голос всё звал и звал…
– Ва-ня-а-а-а! – катилось над рекой вдогонку за уплывающей лодкой. – А Вань!..
Неожиданно, словно всплеск на тихой воде, мелькнуло воспоминание: «А ведь мать, когда жива была, так же певуче мне кричала, с речки домой звала…» И вдруг тревожно, с неясным беспокойством, с тайной надеждой подумалось Ивану: «А что как и впрямь кому-то занадобился? Может, случилось что, может, доктора из города привезти надо… А я тут тилипаюсь, как это самое… в проруби…»
Торопливо, одна за другой, бежали в Ивановой голове тревожные мысли. Но странно, в этой незнакомой тревоге, в потаённой её глубине оживала, поднимаясь к самому сердцу, тихая, забытая радость. От чего родилась она, Иван и сам не знал, но чувствовал, что больше всего на свете ему хотелось, чтобы в эту минуту кто-то очень нуждался в нём, и сейчас, и потом, всю жизнь, чтобы в нём одном кто-то видел, может, счастье своё, может, спасение.
А может, наоборот? Не он ли сам ждёт не дождётся его, этого счастья? Ну, пусть не счастья и даже не удачи, которая, как та рыба, в любую минуту сорваться может, оставив одни круги на воде, а самой обыкновенной радости – от жизни, от всего, чем он живёт и что делает на земле.
А лодку уносило всё дальше и дальше, всё выше и выше поднималось солнце над рекой. И голос затих на берегу…
«Неужели больше не позовут? – с неожиданной тревогой подумал Иван. – Решат, что я в город уехал… или сплю без задних ног и ничего не слышу… И как меня угораздило с этим веслом!.. – с досады и злости на себя он даже заскрипел зубами. – Чего же делать-то, куда выгребать, к какому берегу?»
– Ва-ня-а-а! – вдруг снова донеслось издалека.
И, не раздумывая, не медля больше ни минуты, схватился Иван за второй сапог, стал торопливо стаскивать его с ноги…
МЕСТЬ
В ночь на четверг, на третий день своего недуга, старик Егор задумал помирать. Первый раз он собрался было двумя днями раньше, когда – пойми отчего! – вдруг тесным широким обручем обхватило грудь, сдавило дыхание и, словно на собственных поминках, затосковала, запечалилась усталая Егорова душа. Однако после бани, на которую у Егора ещё оставалось немного сил, да после крепкого чая с малиной в груди постепенно отпустило, стало по-младенчески легко. Тогда-то дед и решил: будет отсрочка. Ненадолго, но будет.
И вот теперь, видно, всё. Крышка.
Егор лежал на остывающей печи в валенках, под полушубком и всем своим усталым от жизни телом ощущал, как вместе с печным теплом выходит из него и его собственное, живое. Стыли руки и ноги, и Егору казалось, что это зябнет, отмирает его душа.
Всю ночь пролежал он в странном оцепенении, ни на минуту не сомкнул глаз, к чему-то прислушивался, что-то выглядывал в тёмных запечных углах: вот сейчас, не в эту, так в другую минуту…
Утомительно, ровно тикали ходики в горнице на стене, а рядом, в печной трубе, сопел, постанывал простуженный октябрьский ветер. Это отвлекало Егора от главного, мешало думать и ждать. Впрочем, думать-то ему ни о чём уже не хотелось – всё думано-передумано за долгую жизнь. Теперь только ждать оставалось.
И он ждал. И если всё-таки думал в это время о чём-то, то об одном, пожалуй: как бы не пропустить, не прокараулить той самой последней минуты…
Для чего понадобилась она ему, эта минута, чего ждал он от неё, на что надеялся – этого он и сам не знал. Просто нужна, и всё… Но смерть и в эту ночь не пришла, а ждать до утра у Егора сил не хватило, и он уснул.
Пробудился поздно, увидел свет и испугался: неужто проморгал? Но тут же услышал знакомое тиканье за стеной, понял, что опять живой, и, ещё не веря до конца в своё возвращение, тихим, словно уже нездешним голосом, позвал:
– Ма-а-ать! Что теперь – утро ай вечер?
– Эва, как тя, болезного! – издалека, из-за перегородки, подала голос Александра. – С таким молодецким-то храпом!.. Всю деревню, чай, сполошил. Слезай, коли живой, день уже на дворе. Самовар остывает.
Егор промолчал. Лежал и думал спросонья: «Обижаться или нет на старуху за её насмешку? В такой-то момент – человек, может, у жизни на самом что ни на есть краю, а она!..» И всё же решил, что не стоит сердиться напоследок. Уходить – так уж с миром, чего зря обиду с собой нести!
Для верности попробовал шевельнуть ногой – шевелится. Другой пошевелил. Тоже на месте. Вот только валенки показались непривычно тяжёлыми, словно кто подменил их за ночь.
– Не знаю, спущусь ли, – чуть громче, но жалостно сказал он. И спохватился запоздало: «А ведь опять съязвит, холера старая».
И – как в воду глядел! Он уже свесил ноги с печи, уже нащупывал валенками подпечную приступочку, когда услышал:
– Може, за Макарихой, за Настькой, прикажешь слетать? Чтоб на кошлы тя усадила… У неё небось и теперь до тебя рука лёгкая. Зараз оживёшь.
– Тьфу ты, неладная! – в сердцах, с обидой, ругнулся Егор, дотянувшись наконец сапогами до пола.
То, что увидел он в эту минуту, удивило и озадачило его. За столом, чинно положив перед собой руки на столешнице, сидела Александра, перед ней на медном подносе, посверкивая крутыми начищенными боками, стоял самовар, из которого они лет десять, поди, чай уже не пили: как подвели к деревне газопровод, как поставили по избам плиты-скороварки, так на радостях и попрятали самовары по чердакам да по чуланам. Доставали по праздникам, да и то не всегда – когда гости сходились, когда чайника не хватало на всех… А какие гости у Егора с Александрой! Откуда им ждать их! Им что в будни, что в праздники – чайника на двоих за глаза хватало. А тут – на тебе: самовар!..
Но не только он удивил Егора, а новый, похоже, ни разу ещё «не надёванный» платок – белый в синий горошек, которым Александра повязала голову. «К чему бы это? – насторожился Егор. – Уж не на радостях ли, что я помирать собрался? Ишь, вырядилась!»
Он только подумал так, но спросил осторожно:
– Или ноне праздник какой? В обновке-то…
– И-э-эх ты, старый! – Александра сокрушённо закачала головой. – Валяисся там под потолком, что день тебе, что ночь, всё перепутал. А ведь праздник и есть. Всё ждала, думала, сам вспомнишь. Где уж!.. – И, не давая Егору поразмыслить над тем, какой же праздник сегодня, она объяснила: – Да ведь обженились мы с тобой нонче, Егорий. Аккурат нонче, год в год, день в день. Пятьдесят годов тому было…
Поднялась и вышла из-за стола, подошла к оторопевшему Егору, легонько, одними пальцами, держа на отлёте концы повязанного под подбородком платка, церемонно поклонилась ему.
– Так что горько, Егор Лексеич! – сказала и коснулась сухонькими губами щетинистой бескровной Егоровой щеки.
– Воистину горько, – оторопело отозвался Егор.
Он так и стоял посреди избы – топтался перед столом в валенках и видел, как расплывается, дрожит, мутнея, словно за дождливым окном, лицо Александры… И слышал голос её, насмешливо-ласковый, не обидный вовсе:
– Да будет, чего уж ты!.. Хорош жених! Садись вон к самовару-то…







