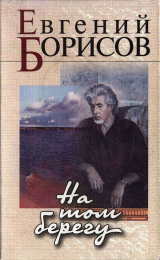
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
– Что не окончательно, о чём вы? Я только что получила открытку от Юры…
– Мы это знаем, наши товарищи видели Юрия Васильевича пять дней назад, живым и здоровым, а эта открытка… Он провожал их в аэропорту и передал для вас.
Потом, уже в Москве, куда, не помня себя, она приехала в тот же вечер, ей рассказали о том, как всё это было. Поздно ночью он возвращался домой, в корреспондентский пункт, ехал по окружной дороге, под проливным дождём, в машине с откидным брезентовым верхом. На полдороге, недалеко от города, из-за поворота, прорвав мутную завесу дождя, в глаза ударила мощными фарами встречная машина и, видимо, ослепила его. Побоявшись столкнуться с этой машиной, он повёл руль в сторону. Соскочив с бетона правыми колёсами, машина оказалась на скользкой глинистой обочине, а удержать её или вырулить на шоссе было уже невозможно…
Так ли всё это было? Кто мог об этом знать! Оставалось гадать и прикидывать, могло ли случиться такое. И прикидывали, и вычерчивали на бумаге замысловатые схемы, изображающие предполагаемое движение машин, и так усердно, с таким знанием дела ей объясняли всё это, как будто авария произошла не за многие тысячи километров, не в далёкой африканской стране, а где-то под Чёрной Грязью или в районе города Торжка, будто они, друзья Юры, всё это своими глазами видели и теперь пытались убедить её в том, что его, Юры, вины там не было и что такое могло произойти с каждым, а виноват, бесспорно, тот неизвестный, который мчался навстречу, включив дальний свет, и что если бы не брезентовый верх у машины, то вполне вероятно…
Потрясённая, она молча слушала их объяснения, машинально, не слыша, не понимая, кивала головой, и у неё даже не было сил попросить, чтобы они, эти отзывчивые, растерявшиеся от беды люди, беспомощно пытавшиеся хоть чем-то, хотя бы вот этими разговорами облегчить её горе, чтобы они не мучили её этими жуткими подробностями. К чему они? Зачем ей знать, как и по чьей вине перевернулась его машина, и что ей теперь тот неизвестный шофёр, который «врубил» свет? Что изменится от этого?
Юрия Васильевича хоронили в Поволжске. Гроб с телом доставили самолётом в Москву, а оттуда ребята из местной областной газеты, друзья Юры, перевезли его в Поволжск. Но и в тот день, на заснеженном кладбище, когда, увязая по колено в сугробах, товарищи Юры пронесли на плечах этот странный, неприлично шикарный, полированный, с декоративными медными ручками гроб, похожий на огромный футляр для какого-то жуткого музыкального инструмента, и опустили его в промёрзшую землю, даже тогда ей что-то мешало принять, впустить в себя эту ставшую для всех очевидной утрату.
Потом поняла: это потому, что ей так и не показали его… Нет, она просила, даже требовала, чтобы открыли крышку гроба, не для всех, только для неё, кого-то она долго убеждала, что ей очень нужно, просто необходимо увидеть его, что это её право, но ей объясняли, почему нельзя, это сделать, успокаивали, и она смирилась наконец, а может, просто устала. Устала просить, уговаривать, видеть всё это устала.
Все эти дни они были с ней рядом, Юрины друзья. И в Москву они примчались за нею следом, и на кладбище перед ней то и дело возникали печально-озабоченные лица, полные сочувствия и понимания глаза, в которых она угадывала готовность, обещание помочь ей и сейчас, в эти горькие минуты, и потом, в любое время, когда надо…
Многое, что происходило в тот день, не удержалось у неё в памяти. Поминки совсем не помнит. Помнит, что было много народу, знакомые и незнакомые люди, продрогшие, с красными от мороза лицами, они толклись и в коридоре, и в комнатах, и на кухне, снова и снова усаживались за стол и говорили, говорили…
Хотелось, чтобы скорее всё кончилось, хотелось остаться одной и больше не слышать этих слов в прошедшем времени – вот это запомнилось, а остальное…
Потому и была удивлена и тронута одновременно, когда весной, в середине мая, дня за три до Юриного дня рождения, кто-то из них, из Юриных бывших друзей, кажется Павел, позвонил и сказал ей о том, что в ближайшую субботу они уезжают. Спросил: как, мол, Алёшка?
Куда, зачем? Она не поняла, о чём речь.
– Ну как же, – удивился он, – забыла, что ли? Мы же договорились тогда, на поминках… Слово давали, святой мужской союз…
– Паш, прости, – ей было неловко, потому что она действительно забыла, не помнит ни о каком мужском союзе, – но я в самом деле… О чём хоть речь?
– Мы же слово дали, что каждый год будем собираться вместе и отмечать Юрьев день, у нас, на нашем острове. Вот мы и собрались…
Что-то забрезжило в памяти: действительно, помнится, был такой разговор. Кажется, Павел говорил об этом, а остальные, Глеб, Сергей и Митька, его поддержали.
Но при чём здесь Алёшка?
Об этом она и спросила его: мол, в каком смысле?
– Как в каком? – опять удивился он. – В смысле поехать с нами. Мы и его… в наш мужской союз. Ты отпустишь его?
– Паш, – она даже задохнулась от испуга, – ты это серьёзно?
– Вполне, – спокойно ответил он. – А чего тут такого? Сколько ему? Скоро пять? Значит, пойдёт шестой. Здоровый мужик, чего испугалась. Тёплую куртку, шапку шерстяную, чтобы ночью не зябнуть, носки тёплые под сапоги, и все дела. Есть сапоги-то?
Представила вдруг, как снаряжает Алёшку, как отправляет его куда-то: в куртке, в шапке вязаной, в резиновых сапогах, на какой-то остров… с ночёвкой… Совсем с ума посходили!
– Да что вы с ним делать-то будете, – сказала, усмехнувшись, пытаясь свести на шутку этот нелепый, как ей показалось, детский какой-то разговор, – на вашем необитаемом острове?
– Думаешь, мужики не найдут чем заняться?
– Мужики! – она усмехнулась. – Вы-то найдёте, не сомневаюсь, а он? Он же домашний у меня, маменькин. Через час домой запросится.
– Не запросится, уверяю. И зря ты так с ним… Зря, говорю, с ним по-домашнему. Парню в армию скоро идти, а ты его…
– Да я без него сама здесь свихнусь, – призналась она, – меня-то хоть пожалейте.
Сказала и испугалась: вроде как напросилась к ним в компанию вместе с Алёшкой. Только ей этого и не хватало!
– Жаль, – сказал он, – парням доложу, опечалятся. Мы же как лучше хотели. Слово давали. Не для себя…
В его обиженном голосе она уловила некий упрёк. Оправдываться стала:
– Паш, я признательна вам, конечно, и тебе и ребятам, рада, что не забыли. Всё это трогательно, честное слово… Но вы и меня-то поймите, я в самом деле с ума без него сойду, и вы уж не обижайтесь, не сердитесь на меня. Пусть подрастёт хоть немного.
Помнится, раза два или три, так же вот по весне, они по очереди звонили ей: снова заманивали Алёшку. Но она так и не решилась отпустить его. Чувствуя неловкость перед памятливыми Юриными друзьями, она сердилась и на себя, не сумевшую, как ей казалось, толково, раз и навсегда, договориться с ними, чтобы они поняли наконец её состояние, её тревоги и не взваливали на её плечи вину перед Юрой, не прибавляли ей проблем, у неё и без того их хватает; и на них сердилась, на их настойчивые, упрямые уговоры, порой приводившие её в замешательство. Ну в самом деле, что за настырность такая! Кажется, всё объяснила им, а они как нарочно!.. На прочность, что ли, её проверяют, терпение её испытывают? Но она же не давала им никаких обещаний, не вступала в их мужской союз по увековечению памяти её покойного мужа, у неё и своя ещё память есть, слава богу, ей бы в своих долгах перед ним разобраться…
А потом приходила с Алёшкой на кладбище – поздравить Юру с днём рождения – и находила на его могилке цветы, совсем ещё свежие, тюльпаны или гвоздики. Догадывалась: это они, его друзья, опередили её. И странное, забытое чувство, не то ревности, не то досады, оживало в ней, и было оно, пожалуй, сильнее тех благодарных мыслей, что возникали у неё в эти минуты, пока стояла перед могилой мужа и думала о его друзьях. Вот и с цветами снова опередили, думала она, и букет купили подороже, чем у неё, и надо бы этому только радоваться – что есть у Юры такие верные и памятливые друзья, но не было почему-то радости. И цветы эти – как нарочно, будто в упрёк ей или в отместку. Но за что? Что они этим хотят доказать? Что больше любят, сильнее помнят?..
Задумчивая, словно чем-то обиженная, возвращалась домой, доставала из почтового ящика утренние газеты, а вместе с ними, какой уж год, этот загадочный перевод на триста рублей. Без обратного адреса, без фамилии отправителя, всегда в один день, иногда днём раньше, и всегда эта сумма…
Первый раз, получив извещение, она озадаченно повертела его в руках, соображая, откуда и кто мог прислать ей деньги, что за благодетель такой сыскался? Не сообразила, не вспомнила. Пошла на почту, получила деньги. Надеялась, что на квиточке, на обратной стороне, найдёт разгадку, но и на нём отправитель не оставил никаких упоминаний о себе. Может, кто-то решил таким способом вернуть старый долг? Какой-то честный товарищ, предположила она, в своё время занял у Юры деньги и вот теперь возвращает.
Вечером Пашке в редакцию позвонила. Спросила напрямик: не их ли это рук дело?
Тот удивился. Ей показалось, что вполне искренне. Посоветовал, чтобы она голову не ломала, сказал, что лично он именно так бы и поступил, если б ему вдруг три сотни свалились на голову. Значит, у кого-то лишние деньги завелись, а может, и в самом деле кто-то задолжал Парамону.
А потом звонки прекратились. Впрочем, нет, был как-то один звонок. Довольно странный, если не сказать определённее. Позвонил Сергей. По голосу поняла, что он пьян и чем-то встревожен. Выслушав его сбивчивые, не очень внятные объяснения, она наконец поняла, что он непременно должен её увидеть, поговорить.
Заявился под вечер, для деловых визитов немного поздновато. Пришёл с бутылкой вина, которую тут же поставил в кухне на стол. И ещё цветы принёс. Она вытаращила глаза: мол, что сие означает, по какому, мол, поводу? А он опять понёс какую-то околесицу, как днём по телефону, стал уговаривать, чтобы она посидела, выпила с ним, хотя бы на кухне. Пить она отказалась, поставила перед ним на стол один бокал, сама присела к столу, напротив. Он обиделся, принялся снова её уговаривать. «Ну не пей, если не хочешь, но фужер-то себе поставь, хотя бы чисто симфонически». Она поставила второй бокал, но налить себе не дала. И он пил один. Наливал и пил, страдальчески мял лицо рукой, снова принимался говорить, печалиться на судьбу, на жену, на Нину свою, жаловаться. А потом вдруг заплакал. И что-то жалкое, нехорошее было в его пьяных слезах, что-то низкое и расчётливое, словно выпрашивающее сочувствия и жалости. С трудом скрывая неприязнь, она терпеливо уговаривала его, утешала, хотя уже начинала догадываться, куда он клонит, но всё ещё не смела верить, что он даже в мыслях может позволить себе такое…
Было бы проще, если б Алёшка был дома, при нём он, конечно, постеснялся бы так распускаться, да и она не больно бы с ним церемонилась. Но дело было летом, Алёшка жил с бабушкой на даче, и она, сбитая с толку его слезами, этими намёками на то, что с ним и в самом деле происходит что-то ужасное, не сразу сообразила, даже представить не могла, что у него на уме.
Утром, она была ещё дома, Сергей позвонил ей. И – как ни в чём не бывало. Посмеивался над собой: затмение, мол, нашло, чёрт попутал… Извинился, что нарушил покой, просил, чтобы она, не дай бог, ребятам, Глебу или Пашке, о его визите не рассказала. «Узнают, – сказал он, – со света сживут, моралисты, ханжи несчастные». И благодарил, что она вовремя его выпроводила, мол, поделом ему, дураку старому, неразумному. Пообещал, что больше такого не повторится. Говорил, а сам будто спрашивал: а сама-то, мол, не жалеешь, что выгнала?
Принимая его шутливый тон, она сказала:
– Мне всё теперь ясно, Серёжа, можешь не оправдываться. Я всё про тебя теперь знаю.
– Что – всё? – встревожился он.
– Всё, что мне надо, – ответила она, но уже без всякой иронии.
Не тогда ли и кончились их звонки? Отыгрались мальчики, подумала она, попотешили себя. Что ж, рано или поздно этим и должно было кончиться, и никто, наверное, в этом не виноват. Время во всём виновато.
Да, она прекрасно всё понимала, знала, что не имеет права осуждать кого-то из них за эту недолгую, как оказалось, память, которой хватило на пять или шесть лет. Ну а сама-то она? Много ли она сделала, чтобы, как бы это сказать… чтобы уберечь для Юры его друзей, вернее, уберечь и продлить их память о нём?
Нынче в мае Юрию Васильевичу исполнилось бы пятьдесят. Не исполнилось. Но что теперь об этом…
Утром, провожая Алёшку в училище, она сказала ему о своём намерении – собрать бывших друзей отца, отметить юбилей. Спросила, как он относится к этой идее.
– А что, мать, – уже в дверях, убегая, ответил он, – даже любопытно на батиных корешей посмотреть… А они ещё живы?
– Ты чего? – усмехнулась она. – Чего с ними сделается.
– Кто их знает, – Алёшка пожал плечами. – Если они живы, то где они раньше были, почему я никого не знаю? Кстати, много ли их?
– Настоящих много не бывает. Человека три-четыре. Кого я знаю. Я же тебе рассказывала о них. И про остров таинственный, помнишь?.. Был у них такой остров, они ещё с твоим отцом туда ездили, он мечтал и тебя с собой взять, показать тебе его…
– Так это же сказка, – удивился Алёшка, – ты же всё это мне как сказку на ночь рассказывала, как «Спокойной ночи, малыши!». Я и считал, что это сказка. Мне этот остров тогда ночами снился, а ты…
Он с обидой и укором глядел на неё, как будто она в чём-то его обманула.
– Ты чего? – ей даже смешно стало.
– Так был этот остров, – спросил он, – или острова-то и не было?
– Был, – сказала она виновато. – Был да сплыл.
Вечером в тот же день, она ещё плащ не сняла в коридоре, Алёшка ринулся к ней.
– Мать, а у меня идея, – он потянул её из коридора, – совершенно потрясная. Слушай!
– Да подожди, дай раздеться, – почему-то заволновалась она, но он нетерпеливо тащил её за рукав.
– Садись и слушай! Чего я придумал-то! Для дипломной работы, – он задыхался от волнения. – Я решил написать портрет отца. Мысль в общем не оригинальная, многие художники обращались к этой теме, есть, например, «Шинель отца» у Попкова, решения разные. А я, понимаешь, что хочу? Хочу написать его, ну как бы тебе объяснить… Я напишу его молодым, относительно конечно, каким он был тогда, а рядом, – он стоял перед ней, размахивая руками, как бы очерчивая воображаемое полотно, и только кисти в руке не хватало, – рядом его друзей. Вот представь себе вечер, а у костра, на берегу, сидят люди, пожилые уже, а в стороне, освещённый огнём костра, стоит человек, моложе их, понимаешь? Это мой отец. Он стоит и смотрит на них, вглядывается в их лица. Издалека, из темноты. Из того времени. Они его не видят, но он как бы с ними, он мысленно присутствует здесь, наблюдает за ними, ведёт с ними разговор. А костёр – это жизнь, понимаешь, наша память то есть…
Он замолчал, смутился. Увидел, что она вытирает слёзы.
– Мам, ты чего? Ну чего ты, это ж картина, и я ещё не знаю, получится ли. – Подошёл, сам растроганный и взволнованный, подсел к ней на край дивана. – В общем, мне нужна твоя помощь, только не отказывайся и не спорь… Я хочу побывать на том острове, понимаешь. Позвони и расспроси кого-то из них, из друзей отца, как добраться туда. Я бы в субботу съездил, мне непременно нужно там побывать. Понимаешь, нужно.
Она взглянула на него повлажневшими глазами, впервые подумала: «Господи, да он же взрослый совсем! Как быстро всё, как быстро…»
А утром позвонила Глебу.
2
Как всегда, ровно в семь зазвонил будильник. Ирина ойкнула испуганно, вскинула голову и тут же зарылась лицом в подушку. Глеб уже не спал. Лежал усталый, с тяжёлой, будто с похмелья, головой, не было сил подняться. «Всё, хватит, – уговаривал он себя, – пора кончать с ночными диспутами за кухонным столом! Сегодня же лягу пораньше, часов в десять, после программы „Время“, и в другой комнате, без Ирины… Перенесу машинку в большую комнату и сразу, с утра, за станок… Как все нормальные люди…»
Надо было вставать, вытаскивать Антона из постели. На это уходило десять – пятнадцать минут. Ещё десять минут на раскачку, на ванну столько же… И так каждый день: заправь постель, смени рубашку, почисти зубы, почисти ботинки, причешись… Парень в десятом классе, скоро в армию, а он яичницы элементарной поджарить себе не может, носки не постирает, брезгует. И с этой причёской опять… Ходит уже месяц этаким петрушкой, жутко смотреть. Оказывается, мода такая, оказывается, они оба, мать и отец, безнадёжно отстали от жизни. Вот так-то! Отстали уже.
Ну ладно, мода, и они в своё время отдали ей дань, стиляг длинноволосых пережили, узкобрючников разных, но сами-то не впадали в такие крайности. А тут на башке чёрт-те что, да ещё браслет металлический на руке, на запястье. Дикость какая-то! И оказывается, не у него одного – полкласса, говорит, носят. Металлисты, видите ли! Поклонники рок-музыки. Как в школе-то терпят?
Вчерашнее раздражение возвращалось, а это означало, что все благие намерения, всё, на что он какой уже день пытается настроить себя, ради чего себя бережёт, – всё насмарку, всё, извините, кобыле под хвост. В самом деле, ну что он теперь за работник – после бессонной-то ночи, после вчерашней дискуссии на кухне с женой, после взаимных утренних любезностей с собственным сыном!..
Кстати, о чём это они говорили вчера? Какую очередную новость принесла Ирина вечером из театра? Да, определённо что-то было, не из-за этого ли они и не спали так долго?
Обычно такие беседы по вечерам, а иногда и за полночь, у них случались довольно часто. Ирина их называла вечёрками. В дни спектаклей она возвращалась домой не раньше одиннадцати. Усталая, со следами торопливо снятого грима на лице, она надевала халат, домашние тапочки, приходила на кухню, присаживалась к столу и какое-то время, ожидая, пока Глеб подогреет и нальёт ей чай, сидела так, молчаливо-отрешённая, наполовину оставаясь ещё там, в театре, в других, не домашних заботах, в чужих запахах, в звуках неестественно громких голосов, в чужой, кем-то придуманной жизни, с чужими страстями, которыми с полчаса назад она и сама, сумев поверить в них, жила, и верила, и отдавала им свои силы и чувства.
В их маленькой кухне, под расписными декоративными досками, развешанными вдоль стен, – её давнее и недолгое увлечение – она постепенно возвращалась к себе, к привычным домашним заботам, к мужу и сыну, в свой дом. Она любила эти вечерние минуты, любила это возвращение из нереального, придуманного, а потому и ненадёжного, зыбкого, чем стал для неё теперь театр, в своё, настоящее, прочное, созданное своими руками, любовью своей, жизнью трёх родных, кровно близких друг другу людей, двое из которых – сын и муж – с годами как бы перетянули, а может, и вовсе взяли себе её по-девичьи пылкую и, как ей прежде казалось, вечную и единственную на всю жизнь любовь к театру.
Впрочем, были, наверное, на то и другие причины. Неуютно стало в любимом когда-то театре, невесело, как в казённом, присутственном доме. Не творилось, не священнодействовалось, не свершалось – делалось дело. Делалось скучно, без вдохновенья, не во благо искусства и самого театра, – чему-то иному или кому-то во благо. И пугала актёров по вечерам гробовая почти тишина и пещерно-глубокая темень безлико-пустынного зала, и не обманывали уже никого, ни зрителей, ни актёров, натужно шумные сборы в дни не столь частых премьер и появляющиеся в местных газетах дежурные рецензии, отмечающие как некоторые удачи, так и досадные просчёты творческого коллектива, который, как и прежде, находится в поиске…
– Сегодня в зале опять кот наплакал, – попечалилась вечером Ирина, – и опять наша мегера режиссёрская, – это она жену режиссёра, местную приму так называла, – сама себе дарила цветы. Представляешь, – не то возмущалась, не то дивилась она, – каждый вечер по букету!
– Ну хочешь, я тебе завтра тоже куплю, – пообещал Глеб.
Она отмахнулась:
– Завтра у меня нет спектакля, это, во-первых… Нет, но ты представляешь, – опять заудивлялась она, – весь театр, от билетёрши до костюмерши, знает, что она сама себе покупает цветы, идёт на спектакль и покупает, а потом кто-то из зала преподносит ей этот букет. Себе любимой. Все говорят об этом, а ей хоть бы что!
Глеб налил и пододвинул ей чашку чая. Налил себе и сел напротив.
– Да, – вдруг вспомнила она, – у нас потрясающая новость. Наш главный пьесу сегодня читал…
И замолчала. Сидела, помешивая ложечкой в чашке: интриговала.
– Ну и что? – спросил Глеб.
– Не что, а кто. Спроси, кто автор?
– И кто же?
– Вот то-то и оно! Мы сами. Как говорится, на все руки от скуки.
Она победительницей глядела на него, будто и в самом деле была преисполнена гордости за свой театр и за главного режиссёра, подарившего коллективу свою пьесу.
– Хозяин барин, – Глеб пожал плечами. – Об чём хоть пьеса?
– Об сём, – сказала Ирина, – а какая, собственно, разница. – Безнадёжно махнула рукой. – Тошно всё, Глеб, неприлично всё это. Не театр, а частная лавочка, семейный какой-то подряд. Сами пишем, сами ставим, сами играем…
– И распределились уже?
– Да в этом ли дело! – в отчаянии почти выкрикнула она. – Мне этих его ролей и даром не надо, переживу как-нибудь. Я о театре говорю, о моём театре, понимаешь, в котором я проработала без малого двадцать лет. Что с ним стало-то? И с нами тоже. О свежем ветре говорим, о переменах, эксперимент театральный затеяли… Можешь представить, сегодня перед читкой собрал он нас и на чистом глазу, на высоком пафосе к гласности призывал, к обновлению, а потом выложил свою самодельную пьесу на стол. Прошу любить и жаловать! А не полюбите… Жаловать не будем.
– А если пьеса талантливая, – осторожно предположил Глеб, – если она по-настоящему современна?
– Она будет такой, – пообещала Ирина, – хотя таковой никогда не была и не будет. Конъюнктура до мозга костей. Понадёргал проблем из позавчерашних районных газет, устроил заседание правления колхоза с оживляжем, а в финале все пляшут и поют. – И вдруг спросила: – Хочешь, скажу, чем всё кончится? Завтра же затрубят фанфары: в театре рождается гениальный спектакль, посвящённый знаменательной дате… Ты же знаешь, как у нас любят эти «датские» спектакли. Что потом? Потом благодарные организованные зрители, узнав на сцене знакомую тётю Глашу или дядю Васю, будут выражать восторги по поводу актуальности, узнаваемости и современности, а потом фестиваль под девизом «Театр – селу», потом смотры, творческие отчёты в столице, а то, глядишь, и на телевидении покажут, а там дипломы, звания, а может, и премия перепадёт. И никто, вот в чём загадка, никто не решится сказать, как всё это называется. Ох, Глеб, – снова запечалилась она, – тошно и обидно служить при голых-то королях.
Она отодвинула чашку с недопитым, остывшим чаем, просительно поглядела на него.
– Говоришь так, будто я виноват в чём-то.
– Ты виноват уж тем, – продекламировала она, – что хочется мне кушать… Слушай, – попросила она, – нет ли у нас в холодильнике чего-нибудь? Колбаски кусочек.
– Что такое холодильник, я знаю, – пошутил Глеб, – а вот…
Поднялся, подошёл к холодильнику, достал кусок колбасы, ещё с майских праздников, стал делать жене бутерброды.
– А вообще, я скажу тебе, в чём ты виноват. Хочешь?
– Давай, – он и себе бутерброд сделал. И чаю ещё налил, ей и себе. – Гулять так гулять!
– У тебя столько друзей в городе, даже редактор в газете свой. Неужели…
– А при чём здесь друзья? – Глеб уставился на неё. – Не надо путать божий дар с яичницей.
– Извини, – Ирина виновато опустила глаза и вдруг спросила: – Объясни тогда мне, чего стоит этот ваш божий дар, если от него ни жарко, ни холодно?
– Дружба дружбой, а служба, – Глеб перехватил руку жены, потянувшуюся за колбасой. – Хватит, разгулялась на ночь глядя.
– Вот и послужил бы твой Серёжа доброму делу, – ухватилась она, – в кои-то веки. Или Митя твой. Сколько лет на культуре сидит и в упор ничего не видит. Все молчат, всем хочется спать спокойно. Да и ты тоже хорош.
Глеб вопросительно взглянул на неё.
– Да, да, и не прикидывайся, не удивляйся, будто не знаешь о чём. Ты написал хорошую пьесу и сидишь целый год на ней, как, извини, собака на сене.
Легли уже за полночь. И не спалось, конечно, обоим. Проворочавшись с полчаса с боку на бок, понимая, что Ирина тоже не спит, Глеб не выдержал, зажёг светильник.
– Ты чего? – Ирина лежала с открытыми глазами, заложив руки за голову. – Скорей бы ночь прошла, чтоб снова на работу?
Он не ответил. Лежал с минуту, думая о своём, потом сказал:
– Я вдруг подумал… Чем мы живём, чем себя мучаем! Вот эти наши разговоры по ночам… Такая чушь, такая суета, а мы на это силы тратим, душевные и физические. Бичуем всех на кухне под сурдинку, а сами, что мы сами-то? Ну, выговоримся, ну, выскажемся друг перед другом, а дальше что? Люди раньше за правду на эшафот, на костёр шли, а мы, два вроде бы интеллигентных человека, что мы можем? Мы даже мелким благополучием, милыми привычками своими пожертвовать не сможем, живём как связанные по рукам, всё до последнего шага наперёд высчитываем, и за себя и за других. Мы даже за сына своего… мы для него мостим дорожки, те самые, которые он сам бы должен прокладывать, а он потом даже спасибо нам не скажет…
– Чего ты предлагаешь? – спокойным голосом спросила она. – И о какой такой правде печалишься. Есть ли она у нас, эта правда, ради которой можно на эшафот? – Она приподнялась на локте, взглянула на него совсем не сонными глазами, призналась: – Я вот лежу… как телепатия какая-то… я же сама об этом думаю. И знаешь, ещё о чём? Вот откажись я сейчас от всего, скажи всю правду тому же режиссёру, уйди я из театра в знак протеста, да меня же свои за дурочку посчитают.
– Похоже на то, – Глеб усмехнулся печально.
– А ты вспомни, – Ирина положила ему голову на плечо, – вспомни, о чём раньше мы говорили. Да, о других, но не так, как теперь. Мы за них, за других, болели, нам другие не безразличны были! Помнишь, радостный приходил: книжку у Пашки в издательстве приняли, а от Юры от Парамонова из Парижа письмо пришло, всем привет шлёт… Почему же нам от этого хорошо тогда было? А сейчас! Ты о ком-нибудь мне хорошее говоришь? А от меня ты о ком-то хорошее слышишь? Может, все «хорошисты» исчезли, а «плохиши» остались? Ну, а сами-то мы, ты прав, что мы сами-то? Чем мы дороги так себе? Ты писатель, вот ты и подумай.
С чего начали, тем и кончили: вдруг примолкли, ушли в себя.
– Выключай, – предложила Ирина, – завтра с утра репетиция.
Свет погас, но ему было ясно, что теперь-то он точно не заснёт. Так и было: часов до четырёх проворочался в невесёлых раздумьях чёрт знает о чём. В основном о себе самом, о своей невесёлой работе, от которой, если подумать и взвесить, было больше огорчений, пожалуй, чем радостей. В самом деле, какие радости! Это прежде, по молодости, после первых удач, ему думалось, что и дальше всё так же пойдёт: ровно, гладко, от успеха к успеху. Узнавал, что в журнале принят рассказ – и жил этой радостью, подгонял недели и месяцы в ожидании счастливого дня, когда в городе, в газетных киосках, появится наконец журнал, когда сам он возьмёт его в руки. И всё было так, как ему представлялось: появлялся журнал, и кто-то звонил, поздравлял, кто-то хвалил, а кто-то помалкивал, и это смущало его, конечно, хотя и этому находилось в конце концов объяснение: молчали, потому что завидовали…
Но как-то до обидного скоро всё затихало и забывалось, как будто и не было ни томительных тех ожиданий, ни желанно-счастливых минут, когда о тебе говорили, писали рецензии на твою книгу, и всё приходилось начинать сначала. А начиналось всё трудней и трудней. К тому же и газета много сил отнимала, и это было совсем нелегко – днём тянуть газетную лямку, а вечером садиться за рассказ или повесть. Прежде, по молодости, приходил домой из редакции: чайник на плитку, сам за машинку и – до утра. Нет, были счастливые-то минуты! Вот эти минуты, когда добирался до последней точки, когда ставил её, понимая, что даже на многоточие сил не осталось, пожалуй, это и было счастье. Но когда это было! Теперь он уже не работает по ночам, целый день сам себе хозяин.
Три года назад, дождавшись выхода новой, четвёртой по счёту книги, Глеб решил наконец уйти из газеты – на вольные писательские хлеба. Хлеба и в самом деле оказались вольными, но не такими сладкими, как думалось когда-то. Хотелось взяться за большую работу, но сама мысль о том, на какие муки он добровольно собирается обречь себя, приводила в смятение, рождала уже знакомую, не вчера зародившуюся тревогу: смогу ли, справлюсь ли? И будет ли то, о чём я хочу написать, для кого-то желанным откровением? Да и что я хочу написать, что собираюсь поведать людям?
И теперь, сидя в задумчивости перед машинкой, он вдруг вспомнил рецензию, появившуюся с год назад в «Литературной газете». Незнакомая столичная критикесса, вспоминая в обзоре последнюю книгу Глеба, назвала его молодым прозаиком. «Отрадно, – писала она, – что молодой волжский прозаик, следуя лучшим традициям современной российской прозы, уверенно идёт по пути поиска своей темы, своих героев…»
Вот уж повеселились, поострили и позлословили на этот счёт друзья-письменнички! Отвели душеньку, нечего сказать, «отоспались» на «молодом писателе». Сама рецензия, её смысл, оценки, вполне доброжелательные, хотя и спорные, однако пощекотавшие самолюбие автора, – всё это, похоже, осталось незамеченным «доброжелателями», а вот «молодой писатель» всем в душу запал.
Глеб досадовал, перечитывая рецензию, собирался даже рецензентку эту разыскать, позвонить ей, объясниться, мол, не мальчик он уже. А Ирина смеялась.
– Нашёл о чём, – успокоила она его, – другой бы радовался! Во-первых, полная гарантия, что никто из завистников не заподозрит тебя в личном знакомстве с этой рецензенткой, а значит, и в её особых к тебе симпатиях. Ясно, что она не видела тебя и не знает, что ты у меня не первой молодости. – Она смеялась при этом. – А во-вторых… Мне, например, даже приятно, что у меня муж молодой прозаик. Будь вечно молодым назло врагам своим и на радость любящей жене.
Наверное, он не скоро бы вышел из этих бесплодных, в общем-то, размышлений, если бы не телефонный звонок в коридоре. «Началось!» – с досадой подумал он, но тут же и ухватился за этот звонок, как за неожиданно пришедшее спасение от бесполезного – теперь уже ясно было – сидения за машинкой. Вышел в коридор, заранее готовясь отказываться, отговариваться, отнекиваться, полагая, что опять его будут приглашать куда-нибудь выступить, встретиться с книголюбами, поговорить о собственных книгах, о творческих планах. Делать это он не любил и не умел, всегда чувствовал себя на этих встречах не в своей тарелке и диву давался порой, глядя на некоторых своих коллег, на поэтов особенно, на то, как легко и непринуждённо общаются они со своими слушателями, с какой охотой рассказывают о себе, о своём творчестве, профессиональную «кухню» якобы свою раскрывают.







