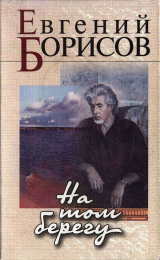
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Потом они сидели за столом, пили чай из гранёных, коричневатых от многолетних чаепитий стаканов. Не обжигаясь, подливали в блюдца, поднимали их на ладони, обмакивая кусочки сахару, посасывали, отхлёбывали нешумно, неторопливо. И не говорили ни о чём.
Они сидели так, что переборка, делившая горницу на две половины, была как раз перед ними, а на ней, оклеенной когда-то белой бумагой, висели, упираясь рамками почти в потолок, многочисленные фотографии и открытки. Сколько их было – пятнадцать, а может, двадцать – этого Егор не знал, но хорошо помнил, где, в каком ряду висит та или другая карточка. Даже теперь при никудышных глазах – стоило оторваться от блюдца – он без ошибки бы нашёл одну из них: ту, что висит аккурат посреди стены, в старинной резной рамке, под помутневшим стеклом.
За пятьдесят лет, с тех пор как была сделана эта фотография, Егор раза три менял в рамке стекло. Первый раз, уже в войну, беда приключилась… Это когда на станцию, тут неподалёку, самолёты немецкие налетели. От сброшенных бомб деревню так тряхнуло, что стёкла, будто дождь, из окон брызнули. Тогда у Егора с перегородки две фотокарточки сдуло – вот эту, свадебную, и портрет сына Василия. Александра, помнится, изревелась вся. «Да будет тебе, – ворчал на неё Егор, – что за беда такая, стекло треснуло… Благо сами целы, благо крышу не унесло! Найду вот стекло, вставлю. Делов-то…»
Через неделю, когда похоронная на Василия пришла, понял Егор, отчего плакала-убивалась Александра: портрет сына со стены упал – куда уж хуже примета. А про другой портрет – свадебный – она тогда же сказала как-то очень странно: «Нам-то что, с нами хуже, чем есть, теперь уж не будет».
Отыскал Егор вскоре стекло, приспособил. Правда, фотография исказилась: от синеватого стекла лица у жениха и невесты тоже малость посинели, и платье подвенечное на Александре в синеву пошло. Беда ли это?
В другой раз Егор менял стекло из-за мух. Всю карточку испоганили, обсидели окаянные, сделали жениха с невестой вроде как рябыми или веснушчатыми. И опять, когда задумал поменять стекло, Александра, застав его за этим занятием, сказала что-то такое, с намёком, после чего Егор окончательно понял: что-то таит против него Александра, что-то носит в себе, а сказать не хочет. Всё намеками да намёками…
«Чего уж теперь, – сказала она печально, махнув на его затею рукой, – раньше бы надо было чистоту-то блюсти… Не на карточке бы…»
Сказала так, будто занозу в душу воткнула: соображай, мол, как её вытащить оттуда… А что тут соображать, дело-то ясное. И намёки эти… Разве не знает Егор, куда она клонит. Думал: с годами Александра забудет всё – ошибся, выходит: не забыла.
Был когда-то Егор весёлым парнем: легко сходился с девками и расставался легко. Вот уж побродил, погулевал на молодом своём веку!.. И синяков – чего греха таить! – насобирал за свои проделки от дружков-соперников. Только в кучерявой его голове светлее от синяков не становилось – нет-нет да и снова пускался во все тяжкие. И не ревнивые соперники в конце концов, а девка – Александра – урезонила его однажды.
Жила Александра в дальней деревне, куда и на большую-то гулянку не вдруг соберёшься. А Егор, раз углядев её, даже по будним дням стал в ту деревню наведываться. Да не тут-то было! Видно, понаслушавшись от подруг о новоявленном своём ухажёре, Александра, не раздумывая, дала ему от ворот поворот. Раз отогнала от крыльца, другой, а на третий – батюшки-светы! – сваты на крыльце появились. Мать, опередив Александру, вышла навстречу. «От кого такие?» – спрашивает. «От Егора, сына Алексеева, – отвечают те, подбоченившись, – из Заборовья мы». – «И нечего, нечего, – замахали с крыльца, – негде нам кобеля держать! Пусть по другим дворам поищет. Вон у Настьки Макарихи… Иль разлюбились уже?»
С того дня что-то случилось с Егором: позабыл он другие дворы, обходить стал другие деревни – торил себе одну и ту же дорожку. К дому Александры. И добился-таки своего.
На удивление всем зажили дружно, в мире и добром согласии. И ни словом не поминала Александра беспутное Егорово прошлое – будто отодвинула решительной рукой. Было, да быльём поросло.
А поросло ли?
…Когда в последний раз менял Егор на карточке стекло – крыша в избе прохудилась, по стене потекло и подмочило карточку, – Александра, наблюдавшая за ним, не сказала ни слова. Взглянула да покачала головой, а ему опять неспокойно: сиди вот, майся… «Собралась бы с духом, – подосадовал он на старуху, – сказала бы, что ли. Всю жизнь так и промолчим, а о чём…»
И вот теперь, сидя в молчании за столом, знал, чувствовал Егор, что пришло время. Не иначе, смекнул он, этой святой минуты и ждала она, чтобы всё, одним разом…
– А я ведь и впрямь давеча помирать собрался, – не выдержав, начал он. – Ошибся, видать. Заместо поминок, вишь, праздник. Свадьба, едрёный корень.
Он хохотнул дурашливо, покосился на жену, увидел, как церемонно, отодвинув перевёрнутый на блюдце пустой стакан, выпрямилась она, положила аккуратно руки на столе – точь-в-точь, как девчонка-школьница; понял – быть разговору.
И не ошибся.
– А нам, Егорий, – тихо, почти торжественно начала она, – нам с тобой и на свадьбе есть чего помянуть. Ты небось думаешь, о чём это я? А я о любви нашей, вот о чём. Ты, поди, и не ведаешь, что это за штука такая – любовь, для тебя она всё одно, что нашим бабам по ягоды сходить: насобирал туесок, докрасна намазал сладким губы, вот и вся она у тебя. Ободрал, обчистил поляну, а там хоть трава не расти… – Она помолчала немного, собираясь духом, заговорила снова: – Теперь вот и я откроюсь тебе, а ты хочешь – верь, хочешь – нет… Не по любви я за тебя пошла, вот. И жила без всякой любви, хоть и в согласии. – Вскинула голову, и платок её новый, в синий горошек, сполз на плечи, голос вдруг окреп. – А попробуй кто упрекни меня в чём, скажи, что жила Лександра за нелюбимым – никто не скажет. Потому как честнее всех самых честных и любящих баб была. А за тебя… вот он весь мой секрет… из-за Настьки Макарихи пошла, чтобы не хвасталась тобой. Уж больно шибко она в ту пору тобой гордилась.
Александра вдруг замолчала. Молча, потерянно сидел и Егор. Одного теперь хотелось ему: потихоньку вылезти из-за стола и, собравшись силёнками, подняться опять на печку, накрыться полушубком, лежать и не слышать этих странных, давно забытых слов, от которых ему почему-то зябко, неуютно стало. Но что-то – то ли эта слабость, вновь опутавшая его по рукам и ногам, то ли любопытство: к чему всё же клонит она, чего от него-то ей надо? – какая-то сила продолжала удерживать его за столом.
– Вот говорят, неубережённой бабе цена – полцены, – опять заговорила Александра, – а мужику, мол, цена только выше. Неправда это. Вон Варвара, дурёха, – она кивнула головой за окно, – до седых волос дожила, всё своим кобелём хвастается, какой он у неё стреляный. Мол, знает в бабах толк. Вроде как и самой от этого цена больше. А ты спроси, что наши бабы о ней говорят. Смеются и жалеют. А я вот думаю другой раз: может, и про меня так же?..
Давняя, многие годы молчавшая обида, теперь запросилась наружу: лицо Александры распалилось, голос совсем окреп, платок сполз с одного плеча. Она и жалела притихшего рядом Егора, но и остановиться уже не могла.
– Тогда, на свадьбе-то нашей, сидела за столом ни жива ни мертва. Одна думка только и грела: «Вот тебе, Настька, моя отместочка! Не видать тебе Егора, как своих ушей! Ha-ко выкуси!..» Кажись, за всех других баб, какие были у тебя, тебе простила бы, а за неё… – и вдруг запнулась, сказала тихо, будто тайну открыла: – Красивая она была очень, Настька-то Макариха, завидовала я ей. Вот за эту зависть и мстила ей через тебя. А так бы и не видать тебе, Егор Лексеич, мово порога.
И снова была тишина, долгая, тягостная. Только ходики на стене тикали привычно. И поутихли угли в самоваре. Несмело ворохнувшись за столом, Егор пополз было к краю лавки, но голос Александры удержал его:
– Уж ладно, старый, – сказала она, – дело прошлое, но хоть теперь-то откройся… Было что у тебя с Веркой Нефедовой?
– С какой такой? – кротко переспросил Егор.
– С такой самой… с Нефедовой. Которая за Ивана Нефедова вышла потом.
– Да вроде как… Я уж не помню.
– А с Нюркой?
– С Косачихой, что ли? – заметно ожил Егор. – Так это когда ещё было!
Александра хохотнула незлобиво, спросила опять:
– Ну, а с этой, с мельничихой, из-за Волги?
– И эту упомнила? – старик удивлённо уставился на Александру. – Да шут их…
– Ну, а с Настасьей, – добралась наконец Александра и замерла в ожидании.
– С кем? С Макарихой, что ли? – вскинув брови, переспросил Егор.
– С ней, с распрекрасной…
– А вот с Настькой-то, – он глядел на неё сокрушенно, даже с обидой, – с ней-то как раз ничего и не было. Не нравилась мне твоя соперница, не по сердцу она мне была.
Александра даже руками всплеснула:
– Вот те на! Ведь врёшь, старый! Знаю, что было. Сердцем чую…
– Как на духу! – дед поднял глаза на перегородку, воззрился на свадебную фотокарточку, как на икону. Перекрестился. – Чистая правда!
Что-то стряслось с Александрой. Проворно подхватившись из-за стола, уронив с плеч на лавку платок, она метнулась к буфету, принялась что-то отыскивать там. К столу вернулась с четвертинкой. Лицо её светилось девической радостью.
– Ну вот, – сказала она, поставив на стол бутылку, – а это за нашу с тобой любовь. А про нелюбовь всякую я понарошку тебе наплела. Настькой сумлевалась, а спросить – язык не поворачивался. Вчера не удержалась, чёрт попутал, вижу – ты будто и впрямь занемог, я и напугалась: ну как помрёшь, а я так и не узнаю про Настьку-то! Врала она мне про тебя или правду говорила? Врала, выходит… Ох, язва, ох, сплетница! А я-то поверила, дура старая! Кому поверила!..
– Дура и есть, – согласился Егор и улыбнулся впервые за это утро.
Тикали и тикали на стене часы. Шло время.
РАННЯЯ ОТТЕПЕЛЬ
Наверное, в каждой семье хранятся такие истории… Они – как старые вещи: давно уже отжили своё, их бы выбросить и забыть, чтобы не напоминали о том, о чём и вспоминать-то не хочется. Но вот поди ж ты!.. Отыщешь такую где-нибудь в кладовке, повертишь в руках, отряхнёшь от пыли, да и положишь на прежнее место: а вдруг пригодится!..
Вот и эта история…
Как-то собрались всей семьёй на октябрьскую, был такой праздник, сестра из Москвы приехала, колбасы привезла. Колбаса в доме – уже праздник. Сидели за столом, разговаривали. И вдруг вспомнили…
Спросил у отца: он-то помнит?
– Ещё бы не помнить! – это мать ответила за него. – В сорок третьем, в ноябре, как раз перед праздником… Первый снег только выпал…
А отец усмехнулся, покачал головой:
– У меня в ту ночь седины прибавилось.
Пока сидели, чаёвничали, восстанавливая в деталях давнюю эту историю, мать – в её-то восемьдесять лет! – всё поражала нас удивительной своей памятливостью. Как будто о вчерашнем рассказывала.
– Помню, как в форточку-то высунулась, чтобы тебя позвать, гляжу, а посреди двора, прямо перед нашими окнами, скульптура стоит, из снега, ну вылитый Иосиф Виссарионыч. А рядом, гляжу, ты стоишь. С деревянной лопаткой в руке. У меня сердце аж в пятки ушло. Господи, думаю, чего ж это он натворил, что ж теперь будет-то! Кричу тебе из форточки, мол, в школу пора, а ты отмахиваешься: погоди, мол, не видишь, что делом занят. И охорашиваешь лопаткой Иосифа Виссарионыча. А по двору, вижу, люди идут, то один, то другой остановится. Обсуждают: похож – не похож…
Так всё и было. Помню, с утра повалил мокрый, липкий снег, и мы с мальчишками на радостях выскочили во двор, стали в снежки играть. В школу во вторую смену ходили, полдня впереди, вот и возились в снегу…
Приустав от жаркой возни, принялись лепить снежную бабу. Скатали по свежему снежку сначала один ком, здоровенный, с трудом докатили его до середины двора, за второй принялись. Этот, поменьше, для туловища, затащили на первый, а на него ещё один – для головы. Начали эту голову пристраивать, придавать ей божеский вид, и вот тут-то, пойми отчего, вдруг и пришла мне в голову эта странная блажь… признаться, я и сейчас объяснить не могу, что меня в тот момент подтолкнуло: спал, спал и проснулся во мне ваятель. Вдруг увиделось мне в этой рыхлой бесформенной снежной глыбе, предназначенной для головы снеговика, что-то неуловимо похожее то ли на бюст известный, виденный где-то, то ли на знакомый портрет, что висит в нашей школе над классной доской, и вот засвербило, забродило что-то во мне… Словно бес-искуситель шепнул мне на ухо: а ты попробуй!
Я и попробовал. Движимый этой ещё неведомой страстью, я, уже вполне осознанно стал превращать абстрактную и безликую снежную бабу в конкретный скульптурный портрет. И вот наступила минута, когда кто-то из мальчишек, молча и терпеливо наблюдавший за этим загадочно свершающимся на их глазах превращением, тихо и удивлённо прошептал:
– Жек, а Жек, знаешь кто у тебя получился? Хошь, я у деда очки стащу? Ему очков не хватает.
– Тащи, – вдохновенно откликнулся я.
Через пять минут очки завершили сходство снежной фигуры с портретом всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина. Работа была закончена, и я уже чувствовал, что дальше творить – только портить. Да и руки у меня заледенели от холода. Но что-то удерживало меня во дворе, чего-то мне не хватало. Может, зрителей, а, стало быть, и признания. Это, наверное, в любом деле так, а у людей творческих особенно: нам только кажется, что мы для самих себя творим, а если честно, положа руку на сердце, только того и ждём, чтобы о нас кто-то доброе слово молвил. Вот и я в тот день его ждал, наверное.
А тут ещё Вовка, тот самый, что притащил мне дедовы очки, вдруг спрашивает:
– А Сталина слабо?
– Не слабо, – откликнулся я. – Сниму очки и бороду, и будет Сталин.
Меня уже несло. Михаила Ивановича мне уже было мало. Ещё не зная, даже не догадываясь о том, что всё гениальное рождается посредством отсечения от целого всего лишнего, я с лёгкостью необыкновенной снял очки с холодного носа всесоюзного старосты и отлепил от него козлиную бородёнку… И получился Сталин.
Схватив дедовы очки, Вовка убежал домой, а я остался пожинать лавры. Я ждал признания и оно пришло. О, этот сладкий, ни с чем не сравнимый миг, который рано или поздно, наверное, дано испытать любому творцу. Да что говорить!
В тот день, стоя с лопаткой в руках посреди нашего убогого двора, тесно зажатого со всех сторон деревянными сараями, вечно заваленного то дровами, то торфом, то битыми ящиками и бочками из соседней орсовской столовой, на этот раз, будто ради особого, торжественного случая, забеленного, словно покрывалом, свежим снегом, я впервые испытал это удивительное, ни с чем не сравнимое, сладостное чувство от сотворённого руками своими…
Впрочем, если быть откровенным и честным, признание пришло не сразу.
– Ты чего это вздумал? – вдруг послышалось у меня за спиной. – Ты кого это тут слепил? Ну-ка живо, круши это дело, а не то я тя за уши и отправлю куда следует! Ишь, скульптор нашёлся!
Что-то злое, решительное вдруг надвинулось на меня, уже готовое крушить и раскидывать во все стороны моё творение. Может, этим бы и закончился мой первый вернисаж – два удара кулачищем по хрупкому моему ваянию – и осталась бы на дворе горка липкого снега. Но на моё счастье в этот самый момент из нашего подъезда вышел знакомый дядька, наш сосед. Он и прежде, как я замечал, был почти по-приятельски приветлив со мной, а в последнее время, после того, как моего отца продвинули по службе, отношения наши с соседом стали почти что дружескими.
– Ты чего расшумелся, – осадил он того крикуна, – ты порядки в своём дворе наводи. – В белых бурках с закатанными голенищами, в каких ходил тогда и мой отец, в кожаном пальто с меховым воротником, он подошёл ко мне, начальственным взглядом осадив сразу вдруг сникшего мужичка. – Ты на что руку поднимаешь, на кого замахнулся?! Знаешь, что за это?..
Я не успел от испуга прийти в себя, как того мужичка с нашего двора будто ветром сдуло. Мой спаситель ещё постоял, удивлённо покачивая головой и оглядывая мою работу, а потом вдруг спросил:
– Сам придумал или кто научил?
– Сам, – не без гордости признался я.
– Ну, ну! – он опять покачал головой. – Хоть на Советскую площадь ставь, перед обкомом. Ты отцу-то, отцу покажи. Вот порадуется!..
И ушёл, поскрипывая бурками по липкому снегу.
И ещё подходили люди. Удивлялись, ахали, говорили наперебой.
– Это кто же такое слепил? Это ж надо!
– Прямо вылитый.
– Вылитый-то вылитый. Только без разрешения такие вещи не делаются.
– А какое тут разрешения, если похож?
– А если все вдруг начнут лепить, кому вздумается?
– Ну тебе-то так не суметь. Тут особый талант нужен.
В школе в тот день я сидел как на иголках. Не терпелось сорваться с уроков, прибежать поскорее во двор, посмотреть: как он там, Иосиф Виссарионович? Не разрушил ли кто-нибудь? Жалко, что быстро темнеет. Вот уже и фонари за окном зажглись. Жаль, что отец приходит с работы поздно, ничего не увидит. А вообще, было бы здорово, если бы моя скульптура до седьмого ноября, до праздников достояла. Пойдут люди на демонстрацию, заглянут в наш двор и увидят…
Разве мог я подумать тогда, что в тот самый момент судьба моего творения вновь повисла на волоске, что какие-то бдительные люди, проявляя особую заботу о творении моих рук, уже сигналили куда следует, уже доводили до сведения кого надо, что в полдень, кем-то оповещённый о событии, произошедшем в культурной жизни нашего двора, встревоженный поступившим от кого-то сигналом, домой примчался мой отец. Злополучный бюст он увидел сразу, как только вошёл во двор, и первое желание у него было – подойти и разрушить его. Но как разрушишь! Это же не снежная баба. Скульптура! И не чья-нибудь… а потом – целый двор свидетелей!
Потоптался, потоптался у подъезда мой отец, но так ни на что и не решился. Ждали, когда я вернусь из школы. А вернулся я уже поздно, когда во дворе было совсем темно. Скульптура стояла цела-целёхонька. У меня отлегло от сердца. Неприятности ждали дома.
– Живо во двор, пока не разделся, – едва открыв мне дверь, скомандовал отец. – Пока никто не видел…
Он не договорил, но я и так понял, что он имел в виду.
– Но почему? – заупрямился я.
– Делай, что говорят. Скульптор, понимаешь, нашёлся.
– А что, не похож что ли! – слёзы навернулись у меня на глаза.
Разрушить своими руками то, что сам же и сотворил! Весь двор ходит и смотрит, все хвалят наперебой, даже чужие, совсем незнакомые люди, а родной отец… Хотелось зашвырнуть куда-нибудь свой портфель, хлопнуть дверью и уйти голодным, не кормленным из дома, уйти куда глаза глядят, простудиться, заболеть какой-нибудь страшной неизлечимой болезнью… Жалейте, ищите, плачьте потом!
Я стоял в коридоре и плакал от горькой обиды и упрямо твердил, выжимая слезами из своего бесчувственного отца утешительное признание:
– Но он же похож! Ну скажи, что похож!
– Да похож, похож, – отец решил пожалеть меня. – Но пойми же, не в этом дело…
– А в чём? – упорствовал я, – в чём, скажи?
С досадой махнув рукой, отец удалился в свою комнату. А я ушёл на кухню и долго, почти до полночи, сидел у окна, всё вглядывался в непроглядную темень нашего двора: как он там, Иосиф Виссарионович, стоит ли ещё?
А утром мать сообщила:
– Оттепель на дворе, – и вздохнула с облегчением. – Обошлось, слава богу.
Я поднялся с постели, подошёл к окну и увидел… Посреди нашего неуютного, обесснеженного за ночь двора уныло возвышалась бесформенная кучка серого снега. От товарища Сталина и следа не осталось.
…Через десять лет, солнечным мартовским днём, спрятавшись в укромном уголке в одной из студенческих аудиторий, я обливался горькими слезами… во второй раз оплакивая кончину вождя и учителя всех народов.
КРИК
Иногда среди ночи меня будил этот крик: в соседней комнате, за стеной, жутко и тоскливо кричал мой отец. Спросонья, не разобравшись, я вскакивал и бежал в коридор, к телефону – вызывать «скорую», но тут же, сообразив, в чём дело, возвращался назад. Пытался снова заснуть и не мог: в разбуженной ночной тишине, в тёмных углах нашей квартиры таилась, жила тревога.
А за стеной испуганно и настойчиво мать будила отца:
– Вань, а Вань, проснись, ну проснись же…
Трудно вздыхая, отец что-то бормотал, тяжёлый сон не сразу отпускал его, но он просыпался, охал, отдувался с облегчением:
– Фу, ты, мать честная, опять всё то же…
Я лежал с открытыми глазами, и в ушах у меня всё стоял его крик. Последнее время отец кричал часто, и мы с матерью научились угадывать наперёд, когда, в какую ночь это произойдёт.
Обычно накануне он подолгу сидел за столом, что-то писал, раскладывал перед собой разные фотографии, потом собирал их в папку, глядел на часы и, поднимаясь, командовал:
– Мать, пора! Время!
А она уже несла ему наглаженную рубаху, доставала из гардероба костюм. Потом, стоя перед зеркалом, он вертел в руках, примерял к лацкану пиджака орденские колодки и всё решал, приколоть их или нет.
Один раз я очень обидел его… Помню, вот так же, собираясь на встречу, кажется, к пионерам в школу, он достал из ящика стола свои ордена и медали, приколол их на грудь и так, при всех наградах, предстал перед нами. Мать так прямо засветилась от счастья, а меня почему-то смех взял. Вырядился! Ну, я и брякнул ему что-то о скромности, сказал, что не так уж и густо у него этих наград – три ордена да шесть медалей, а остальное значки, – чтобы кого-то, тех же пионеров, можно было удивить сегодня.
Ни слова не говоря, он снял свои награды, уложил их в коробку, спрятал в ящик стола, потом надел пальто и ушёл. Молча, как потерянная, мать ещё долго стояла в коридоре…
В ту ночь он тоже кричал во сне. О чём кричал, не разберёшь: то ли звал кого-то, то ли хотел остановить… Утром, когда мы сидели за завтраком, он рассказывал матери про свой сон. Говорил так, будто меня и не было за столом. А я сидел, опустив глаза, делал вид, что всё это мне совсем не интересно, и опять меня подмывало сказать ему что-нибудь такое… «Ну, в самом деле, – думал я, – сколько ж можно! Всё об одном да об одном… Раз десять, наверное, я слышал от него это, а он опять… Кому это надо – сидеть и слушать».
Снилось ему окружение, тот самый момент, когда он со своими товарищами возвращался из разведки. Снилось так, как и было наяву, в сорок втором, под Ржевом, когда все шестеро, что ходили с отцом, остались лежать там, за околицей деревни, а седьмым среди них был мой отец, и ему тоже лежать бы вместе с ними и быть бы одним из многих неизвестных солдат, которых соединили вечная слава да братская могила, но выжил, вытянул мой отец… Пролежал день и ночь, а потом ещё день, пока его, полуживого, с перебитыми ногами, не нашли и не укрыли в лесной землянке деревенские женщины.
С тех пор отец и носит в себе этот крик, много лет он словно прислушивался к нему, а однажды, будто оттуда, издалека, через три десятка лет, он вырвался из него и разбудил нашу спящую квартиру, как давняя непроходящая боль.
Но это я понял позднее, а тогда… Я просыпался среди ночи, долго ворочался, ворчал про себя, а утром на два голоса с матерью мы подступали к отцу.
– Отдохнул бы, – осторожно начинала мать, – на всех не навспоминаешься. Вчера в одной школе, завтра в другой… Вон они, твои воспоминания, – кожа да кости остались. И спишь плохо…
Он хмурил брови, вроде соглашался, говорил, что и сам чувствует – пора отдохнуть, и без него вспоминателей хватает. В соседнем подъезде полковник живёт, в отставке, тот хитрый мужик: чуть звонок, жена к телефону: «Он занят, его нет дома, ему нездоровится». Вот и ты бы, мол, мать, так…
И тут вступал я…
Сейчас, спустя много лет, я вспоминаю себя, прежнего, всё понимающего, готового с лёгкостью необыкновенной судить обо всём на свете и быть непоколебимо уверенным в своей правоте, и уши мои начинают полыхать запоздалым стыдом, и такой беспомощно-наивной кажется мне моя философия. Но ведь было, было… Я, например, думал о том, что жизнь наша, в общем-то, очень длинная и любопытная штука, успевает, однако, оставить для каждого из нас не ахти как много такого, что можно было бы с полным правом считать, ну, скажем, важным этапом. Этапом нашей жизни. И чтобы каждый этап – это что-то особенное, значительное, неповторимое и только твоё. Детство, юность, старость – это не то, потому что это у всех. То же самое – и женитьба, или, скажем, рождение ребёнка, или смерть ближнего… А вот так, чтобы для тебя одного и ни для кого больше! Чтобы потом, через много лет, когда придёт время подводить свои жизненные итоги, тебе было бы что вспомнить помимо того, что в таком-то году родился, в таком-то кончил школу, а в таком-то, дай бог памяти, свадьба у тебя была…
Вот мой отец, думал я, ну о чём он вспомнит? Где они, его этапы? Есть один, так только им и живёт. Как будто и не было в его жизни ничего значительнее, больше, чем война. Ни до неё, ни после как будто ничего не осталось. Есть только то, что было между далёким вчерашним и сегодняшним, и, уж конечно, завтрашним днём. И всё это – война… Была работа, теперь пенсия, а он каждый вечер садится за стол, достаёт свои папки, разбирает бумаги, письма, документы, фотографии, что-то пишет… О чём? Да всё о том же – о войне. Зачем он делает это? Ведь воевали тысячи, сотни тысяч, и воевали, наверно, не хуже, чем он, но почему-то не все ходят по школам, по пионерским отрядам. А ему вот не сидится…
После таких раздумий, после того как все они, неясные и невысказанные, соединялись в моей голове в обыкновенные обидные слова, я и говорил отцу:
– А в самом деле, брось ты это! Купи спиннинг, ходи на рыбалку, а то за грибами вон… Себе на здоровье. Всех грамот и значков всё равно не заработаешь. А пионеры… Да им какая разница, кто к ним придёт, старый большевик или инвалид войны, ты или другой кто. Вон как орал ночью – аж мурашки по коже!.. Мать, скажи ты ему…
Мать глядела на меня предупредительно и виновато и, желая сгладить резкость моих слов, говорила с надеждой на наше примирение:
– Если бы не так часто да без волнений, тогда бы и ничего, а так и в самом деле… Собрались бы вместе да сходили на рыбалку.
Но проходили дни, и снова начинал звонить телефон, опять его приглашали куда-то.
И он собирался. Ходил нетерпеливо по квартире, напевал молодецким голосом «По долинам и по взгорьям…». А после встречи возвращался с цветами, с пионерским галстуком на груди.
– Ну, мать, – заявлял он с порога, – исключительно слушали. И в пионеры опять приняли… Я у тебя вечный пионер. – Заметив, что мать хлопочет на кухне у плиты, предупреждал: – Чай пить не буду, не возись – какао пили с ребятами, в интернатской столовой.
И он долго ещё рассказывал ей о своей встрече, о том, как аплодировали ему мальчишки и даже учителя, как провожали потом шумной ватагой до трамвайной остановки. А она сидела перед ним, положив руки на стол, как школьница, слушала, радостно и понятливо кивая головой. Но я-то знал, чувствовал, что больше всего в эту минуту ему хочется, чтобы из соседней комнаты вышел я, его неблагодарный сын, и так же, как мать, сел бы подле него и слушал его рассказ, расспрашивал бы…
Но вот кончался день. Как всегда, шлёпая разношенными тапочками, отец завершал свой комендантский обход по квартире: проверял, заперта ли дверь, выключен ли газ, заводил часы…
И вдруг среди ночи…
Однажды он так же крикнул и затих, и я услышал, как мать беспокойно и суетливо заметалась по комнате за стеной, потом там зажёгся свет – узкая светлая полоска пролегла под дверью, просочилась в мою комнату. Растрёпанная, испуганная мать выбежала из комнаты:
– Отцу плохо! Зови «Скорую»… Господи, какой же там номер?
…Теперь, вспоминая всё это, я хочу одного: повернуть бы назад время и возвратить хотя бы один из многих вечеров, когда мы втроём – отец, мать и я – собирались, как обычно, на кухне пить чай, и чтобы отец, как когда-то, рассказывал нам о своём. И ещё я хотел бы, чтобы эти рассказы услышал от него мой сын, его внук. Но сделать это уже невозможно. Впрочем, как невозможно? Ведь всё это осталось со мной, и даже теперь, когда сам стал отцом, меня нет-нет да и будит вдруг среди ночи его крик. Разбудит и отзовётся запоздало собственной болью. И снова вспомнится та последняя ночь и тот рассказ, который я услышал от отца накануне.
В тот вечер он поздно вернулся домой, пришёл взволнованный больше обычного. Снял в коридоре пальто, ни слова не сказав ни мне, ни матери, прошёл к себе в комнату и лёг на кровать – прямо в костюме поверх одеяла. Мать, прислушиваясь, топталась перед дверью, не решаясь войти к нему, глядела на меня вопросительно и тревожно. Потом он вышел, долго плескался в ванной под краном. Мать не выдержала:
– Да что случилось-то? Скажи, я же вижу.
– А то и случилось, – вдруг сказал он, – что сын у меня отыскался.
И я услышал эту историю.
Его пригласили студенты педагогического института, второй или третий курс, молодые, в общем, парни и девчата, мои ровесники. И он рассказывал им о войне, о том, как воевали подо Ржевом. И о своих товарищах.
Он уж не помнил, как всё дальше было… Кажется, кто-то назвал знакомую фамилию, которую, разбуди отца ночью и спроси, он тут же назовёт первой в числе тех других… Кто-то из ребят подтолкнул парня, молчаливо и настороженно сидевшего за крайним столом у окна, кто-то сказал ему:
– Сашка, Авдеев, спроси, ну спроси же, чего ты, может, и правда…
Потом они стояли друг против друга: мой отец – фронтовой друг погибшего лейтенанта Авдеева и студент Авдеев – сын того лейтенанта. Да, всё сходилось, и не было сомнения, что это был его сын, тоже Александр. Фотографии в семейном альбоме и рассказы матери – вот и всё, что осталось студенту Авдееву в память об отце. Так случилось, что ни он, ни мать не знали до сих пор, где и как погиб лейтенант Авдеев. Было извещение: пропал без вести. И всё.
И отец мой, он, оказывается, искал все эти годы семью лейтенанта и не мог найти. Случай помог – вот эта встреча.
Опустела аудитория, а они ещё долго сидели друг против друга и разговаривали. Потом в коридоре, когда уходили, пожилая женщина, уборщица, распрямившись над ведром, понимающе взглянула на них, спросила:
– Сына, чай, повидать приехали?
– Угадала, мать, – ответил мой отец, – самого что ни на есть сына.
Всё это рассказал он мне в тот вечер. Но не сказал одного: того, о чём с такой обидой и горечью думал в те минуты. А думал он, конечно же, обо мне, о том, что в долгих поисках чужого сына он почему-то не заметил, как его собственный… Впрочем, кто может знать, о чём он думал тогда.
…Прошлым летом мы снова ездили подо Ржев. Я и Сашка Авдеев. Теперь уже Александр Александрович, учитель ржевской средней школы. Молча постояли мы у братской могилы, где похоронен его отец. Теперь мы каждый год туда ездим.







