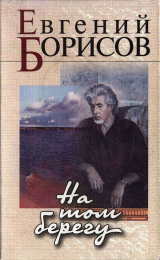
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Хотелось поскорее добраться до дома, чтобы никто не спугнул, не отвлёк, не испортил и чтобы сам он не потерял, донёс то, что так пугливо, словно свечечка на ветру, теплилось в нём и грело душу.
Дома, уже в постели, пристраивая к озябшим ногам горячую грелку, радостно ощущая своё возвращение и продолжая дивиться себе самому, своей разудалой прыти, он, замирая под одеялом, всё прислушивался к чему-то, будто настраивался на нужную волну, а она то убегала, то снова оживала, билась где-то рядом, у виска, и в этих тихих, ему одному слышимых звуках он начинал различать знакомый голос. Это был её, Анны Егоровны, голос, это она пыталась докричаться до него через вой метели, через огромное снежное поле, которое сейчас разделяло их.
«Вот выйду на пенсию, – легко и мечтательно думал он, – доживу до мая и поеду в Ильинское. Заявлюсь к ней и скажу, напомню, что в гости звала… Огород буду ей поливать, за грибами ходить, дровишки покалывать… А зимой стану печку топить, за водой ходить на колодец… Да, и валенки… валенки бы не забыть».
Ещё он успел подумать, что до мая будут март и апрель, и надо ещё дожить, и хорошо бы с утра обмозговать это всё на свежую голову, а ещё лучше посоветоваться с кем-нибудь. Может, с Катериной? Кто-кто, а она-то его поймёт, она всегда его понимала. Но тут же он понял, что засыпает, и потому в голову лезет такая нелепица. Всё, завтра, завтра… Утро вечера мудренее.
А утром, едва поднявшись с постели, он заспешил, засобирался и через полчаса был на лесоторговом складе. Увидел знакомые сани, без труда отыскал ильинских мужиков и передал им валенки. Думал, вот сейчас они его спросят: мол, что кроме валенок Анне Егоровне передать? А они и не спросили. И так неуютно, пусто стало на душе у Алексея Павловича, хоть волком вой. И мучила вина. Но, странное дело, с чувством этой, до конца не осознанной вины к нему постепенно возвращалось успокоение, которому не хватало ещё каких-то главных слов, но теперь и они нашлись, и он шёл, шёпотом повторяя эти слова:
– Ты прости меня, Катерина, прости… дурака старого.
…И КАЖДАЯ МИНУТА
Чем приворожил он меня, этот маленький полустанок?
Ехал однажды по каким-то не очень спешным делам и, помнится, уже начал томиться от дорожной скуки, от вагонной духоты, от бесконечных – обо всём и ни о чём – разговоров со случайными попутчиками, с которыми свела дорога и вагонное купе. Был март, и снежные поля за окном уже полнились влажным весенним светом, и, словно утопая в нём, то здесь, то там возникали и уплывали медленно к горизонту тёмные островки деревень.
У переезда, мимо которого промчался наш скорый, успел заметить я понуро стоявшую лошадёнку, запряжённую в сани, а в санях – мужичка в полушубке. Он сидел, полуразвалясь на сене, и глядел, задрав голову, на мелькавшие перед ним окна вагонов, улыбался чему-то. Может, над нами посмеивался, куда-то едущими в этих тесных, громыхающих железных вагонах.
И такая тоска вдруг меня взяла, такая зависть!.. Захотелось взять да и сойти на ближайшем каком-нибудь полустанке. Сойти, а там – будь что будет!
Только подумал так, а поезд – бывает же такое! – вдруг стал сбавлять ход, притормаживать начал.
– Что за станция? – спросил я у пробегавшей мимо проводницы.
– Это не станция, – ответила она на ходу, – полустанок. Стоянки нет никакой. Одна минута.
Как же нет стоянки, подумал я, если целая минута. И тут будто кто подтолкнул меня: схватив пальто, портфель и шапку, кинулся я вслед за проводницей в тамбур…
И вот какой уж год, едва запахнет на городских наших улицах приближающейся весной, мне уже не сидится дома. И я знаю: не сегодня-завтра сорвусь налегке и помчусь на вокзал. И пусть везёт меня скорый поезд до знакомого полустанка, где стоять ему всего одну минуту, где нет ни платформы, ни билетной кассы, ни зала ожидания – одна сторожка с окошком, с крутыми бревенчатыми боками, выкрашенными в казённый коричневый цвет, где встретит меня мой знакомый старик-обходчик Кузьма Егорович по прозвищу Жених.
Когда и откуда взялось у него это прозвище – об этом после. А тогда, в тот мартовский день, я и знать-то не знал о нём ничего. Сошёл с поезда, чужой и нездешний, и меня, единственного пассажира, встретил бравый старик. Тронув пальцем седой ус, сказал, прицеливаясь в меня острым глазом:
– Что-то личность вашу не припомню. Не из наших, видать…
И как-то неприютно стало оттого, что я и в самом деле «не из наших», что и оказался-то здесь просто так – захотел вот и вылез… Желая расположить к себе старика, я стал шутить, как бы подсмеиваться над собой, над своей странной выходкой: вот, мол, увидел из окна вагона его сторожку, взял да и вылез. Благо есть время, благо есть добрые люди, которые не оставят небось хорошего человека без крыши над головой…
– Так-то оно так, – услышал я в ответ, – но тут дело такое… – Старик призадумался, похоже, прикидывая, не на его ли это счёт было сказано про добрых людей и про крышу над головой. – Прежде бы надо узнать, кто ты таков, коли явился к служебному, стал быть, лицу? И почему – запросто так? Запросто так нонче никто никуда не ездит.
– А разве нельзя, отец, просто так – взять и приехать к тебе в гости?
Он пристально и долго глядит на меня, словно перебирает в старой своей памяти всех возможных гостей, говорит рассудительно:
– Запросто так даже в гости не ездят… Ничего не происходит запросто так, во всём свой смысл, свой резон должен быть. А мне гостей ждать откуда? Так что иди-ка ты до Славнова, во-о-он туда, – он показал рукой на тропинку едва ли не в один след. – Там давненько гостей не бывало.
И я пошёл, оставив старика-обходчика в нелёгком раздумье о странном пассажире, который невесть зачем пожелал сойти на этом полустанке. И хоть не близкой, но лёгкой и светлой показалась мне тогда незнакомая тропинка до деревни Славново. Не зная ещё ничего про сурового старика, я шёл и придумывал про него разное. Как легко, думал я, было ему сесть однажды на поезд и уехать куда-нибудь отсюда, хочешь – в ту, хочешь – в другую сторону. В самом деле, ну что за жизнь у него: живёт, похоже, один-одинёшенек, даже собаки не видно при нём, та бы хоть полаяла… Живёт, и ни с места. Зачем-то усы отпустил, а кто их у него видит, усы-то? До ближней деревни – идти да идти… А ведь что-то держит его здесь? Но что? Долг? Привычка? Может, память о чём-то?
…На столе у председателя колхоза мои документы. Объясняю, что я из газеты, хотел бы познакомиться с интересными людьми, с тружениками колхоза. Для газетного очерка, мол, собираю материал.
– Так-так, – разглядывая моё удостоверение, приговаривает председатель, – интересных людей ищете? Это хорошо. Только чего же их искать-то, небось не грибы в лесу. По-своему, я так считаю, всяк интересный. Со станции шли, небось встретили… Старик там, с усами, гусаристый такой… С него хоть и начинай. Самый что ни на есть в нашей округе ветеран, сорок лет при дороге наш Жених. Хоть не в колхозе, а всё одно свой, нашенский. Без него б нам…
– А почему Жених? – тут же цепляюсь я. – Из-за усов, что ли?
Он исподлобья, с хитрецой смотрит на меня: мол, больно ты прыткий, тут же тебе всё и расскажи! Неопределённо пожимает плечами, говорит уклончиво:
– Да я и сам, признаться, толком не знаю. Жених и Жених… Может, и впрямь из-за усов…
По глазам, по хитроватой усмешечке вижу: что-то знает председатель, определённо знает, да сказать не хочет.
И только потом, оказавшись в гостях у Александры, доярки колхозной, услыхал я эту историю.
А в доме Александры была большая радость. Оказалось, что следом за мной пришёл в деревню почтальон и принёс вчерашние газеты, а в них правительственный указ и список награждённых. В правлении прочитали и ахнули: «Нашу Александру орденом наградили!»
Побежали по деревне с газетой, и вот уже сама Александра к правлению идёт. Лицо у неё скуластое, обветренное, волосы светлые выбиваются из-под платка, на глаза лезут, и от смущения на людей не смотрит, всё под ноги. Она долго топчется у порога, сбивает с валенок снег голиком, наконец входит в кабинет к председателю. Да не одна, по бокам ещё двое – дети Александры, Сашка и Лида. Лида держится обеими руками за полу мамкиного пальто, стреляет по сторонам глазами. Сашка, старший, – самостоятельный, без стеснения развозит под носом длинным рукавом.
– А я ведь в гости звать пришла, – решительно говорит Александра, – раз уж такое дело… И тебя, Марья, и тебя, Пётр Матвеич, – с бригадирши, с председателя она переводит взгляд на меня, – и вас, не знаю, как величать, тоже, стало быть, приглашаю…
И вот уже тесно, шумно за столом. Александра, раскрасневшаяся, всё хлопочет, уговаривая гостей:
– Ой, да что ж это вы! Не едите, все так сидите. Марья, ну ты-то поддержи.
– Да я и рада бы, – смеётся бригадирша, – так ведь не подносит никто.
А хозяйке всё не сидится за столом: то огурцов подаст солёных, то подложит капусты квашеной… А огурцы!.. Откусишь – по всей избе морозный хруст идёт. А рядом сала краюшка, белая, точно в инее, отливающая нежной розовостью на срезанных ломтиках, а в миске яйца куриные, не магазинного, диковинного размера – крупные и круглые, лежат горкой, как снежки, заготовленные на великую рать перед снежным боем.
В просторной кухне, поодаль от русской печки, – новёхонький холодильник «Бирюса». Однако на стол подают из погреба – холоднее, ядрёней. Анатолий, муж Александры, то и дело ныряет туда, достаёт свои припасы. И под стать закускам, крепким и щедро посоленным, зреет разговор за столом. И каждое слово хоть бери в руку и клади в карман – до того желанно и непривычно радостно оно городскому слуху. «Это бы не забыть, – говорю я себе, – это бы запомнить…» И такая досада, такая злость на себя, что, как ни стараюсь, не могу говорить с ними такими же словами, которые кому-то из них вдруг захотелось бы приберечь для себя.
– А вы небось глядите на нас и диву даётесь? – это Мария, бригадирша, ко мне обращается. Она давно уже приглядывается ко мне и говорит как бы с оглядкой, не забывая, что нездешний гость за столом сидит. – Ишь, мол, сказки плетут – про Кузьму да про Ерёму! А я вам так скажу: не будь Кузьмы нашего – не сиживать бы вам с нами за этим столом. Проехали бы мимо и не узнали, что есть на земле деревня такая, Славново, что проживает в ней знатная на всю область доярка Лександра Новикова…
– Да что ты всё обо мне, – перебивает её Александра, – ты ж про Кузьму начала. Объясни человеку, почему Женихом-то его зовут?
– А потому что жених и есть, самый форменный…
Она сидит против меня, облокотившись одной рукой о край стола, подперев кулаком подбородок, глаза у неё светлые, будто выцветшие от времени, от долгих прожитых лет, и кажется, что перевидели эти глаза так много всего, что словами обо всём и не расскажешь – не хватит слов, и надо вот так глядеть в них и слушать, слушать и глядеть.
И я услышал эту историю…
Оказывается, было время, когда поезда не жаловали этот полустанок даже минутной стоянкой. И пассажирские, и товарные – все мимо шли. В ту пору и Кузьма был совсем не тот. Он выходил из своей сторожки встречать составы, как на свиданье с невестой: лихо подкручивал свои гвардейские, совсем ещё не седые усы, заламывал форменную фуражку на макушку, так что кудри чёрные развевались по ветру – стоял этак, подбоченясь, с флажком в руке. В грохоте колёс, в беспрерывном мелькании вихрем проносился мимо состав, на короткое мгновение возникали в квадратах окон чьи-то лица – разгляди их попробуй!
Но Кузьма углядел однажды, будто кто-то помахал ему рукой из окна скорого. Казалось бы, ну и что тут особенного – кому-то из пассажиров вздумалось помахать от скуки рукой, но Кузьма и другое успел увидеть: окно, из которого махали, приходилось аккурат на то купе, где проводницы обитают. Вот это и озадачило.
Положенным часом тот же скорый возвращался обратным рейсом, и так же быстро мелькали вагоны, и так же лихо был закручен у Кузьмы чернявый ус, и опять – тут уж и вовсе не до шуток – над приоткрытым окошком в третьем вагоне выпорхнула и затрепетала белокрылым голубем девичья ладошка. Но и другое успел увидеть на этот раз Кузьма в том окне – улыбающееся лицо девчонки-проводницы. Чему она улыбалась? Может, что-то хотела крикнуть ему да не успела?
С того дня и пошли у Кузьмы эти летучие свидания с весёлой проводницей из третьего вагона скорого поезда: она рукой ему да улыбкой из окошка, а он – жёлтым своим флажком.
Много дней жил Кузьма одной тайной надеждой, что однажды знакомый поезд сбавит ход, притормозит на минутку на полустанке и оставит возле холостяцкой его сторожки черноглазую проводницу. Но проходили дни, а поезд всё мимо и мимо… «Ничего, – говорил себе Кузьма, – мы терпеливые, мы ещё подождём». И ждал. И не терял надежды, что придуманная и столько раз перевиденная в мыслях встреча всё-таки сбудется.
А время шло. Парни-одногодки, с которыми встречался на гулянках когда-то, разбирали невест наперебой, развозили их по дальним и ближним деревням, вот уж и в Славново, в ближней от полустанка деревне, девчат не осталось, а кто-то, сказывали, из них давно уже сох по Кузьме. Но он будто ослеп.
Тут и прознали в деревне: Кузьма-то, обходчик, невесту ждёт… И невеста уже есть, да вот беда: поезда-то на полустанке не останавливаются. Никак не сойти невесте. Вот и ездит всё мимо да мимо.
…Та давняя зима была лютой и снежной. Дороги забило, будто их и не было. И вот случилось несчастье – в деревне занемог человек, а человеку тому год от роду… Дело к ночи. Обезумевший от горя отец заложил сани, укрыл двоих тулупом – мать и ребёнка – и погнал лошадь. Куда? Прямо к Кузьме, на полустанок. Ближе-то некуда: до единственной в округе больницы не двадцать ли вёрст.
С метелью ввалились к Кузьме в сторожку. Отец с порога: «Как хочешь, а выручай! На тебе нонче свет клином…»
Никто не помнит теперь, в каких подробностях тогда всё свершилось. Известно, что часом позже шёл мимо сторожки скорый поезд. Привычно снарядившись – в полушубке, в валенках и с фонарём, – вышел Кузьма на свой пост. Бутылку керосину с собой прихватил…
В ту ночь возле сторожки Кузьмы остановился поезд. Он увёз с собой первых пассажиров с полустанка – мать с больным ребёнком.
Всей округой потом в Москву писали – хлопотали за Кузьму, недопустимое самовольство которого грозило ему крупными неприятностями. И полушубок новый ему сообща справили – свой-то он тогда дотла спалил: облил керосином и поджёг, чтобы машинист сквозь метель увидал и остановил поезд.
С тех пор на этом полустанке и стали останавливаться поезда. Много ли, кажется, минута? А подумать – много! Не будь тогда той минуты… Да что там! Вот и я, выходит, должен быть благодарен ей…
– Ну, а Кузьма, – спросил я у Марьи, – чем же кончилось у него с той проводницей?
Призадумалась Марья, с печальной улыбкой взглянула на меня – будто посожалела, что чего-то – самого главного – я и не уловил, не понял.
– А и не кончилось ещё, – усмехнувшись, сказала она. – Так и ходит наш Кузьма в женихах. Может, не ждать бы ему, а сесть в тот поезд надо было. А он не сел, остался. Похоже, и сейчас ещё ждёт? – она вздохнула и поднялась из-за стола, подставила табуретку к тёплой печке, села к теплу спиной. – Ну вот, про Кузьму вы теперь всё знаете, считай, и про нас всех – про меня, про Лександру, про Матвеича нашего… Ведь тебя, Матвеич, сколько раз в район на высокую должность сватали, а ты вот с нами остался. Вот и выходит, что Кузьма-то, он в каждом из нас вроде живёт. Земля родная всех нас держит, куда мы без неё?..
Что правда в этой истории, что вымысел – я и теперь не знаю. Но всякий раз, когда вспоминаю об этом, я вижу одно и то же и думаю об одном… Вижу маленькую сторожку и человека, одиноко стоящего с флажком в руке, а мимо сторожки, мимо этого полустанка днём и ночью мчатся поезда. Остановятся на минуту и снова набирают ход, чтобы лететь дальше.
Как велика и как мала на земле наша жизнь! Вся жизнь и каждая минута…
ВИШНЁВЫЙ САД
Больше месяца в окрестностях города Волжска шли съёмки двухсерийного цветного широкоформатного художественного фильма о войне. Кончался август, погода стояла как на заказ – самая киношная; многие эпизоды, которые предполагалось снять «на натуре», были отсняты. Оставался последний, небольшой, но очень важный эпизод с массовкой.
На понедельник назначили съёмки. А в субботу заболела актриса, которая должна была сниматься в этом эпизоде. В группе началась паника.
Режиссёр Евгений Горелов, человек уже немолодой, не новичок в кинематографе, он же и автор сценария, ходил по гостиничным коридорам мрачнее ненастной осенней тучи и суеверно ругал себя за то, что чёрт дёрнул его назначить съёмки на понедельник. Неотснятый эпизод был очень нужен ему, просто необходим; вся эта невероятно сложная, с таким трудом и скрипом закручивавшаяся карусель, которая стольких сил и нервов стоила, держалась на этом эпизоде, а эпизод, каким он задумывался и виделся Горелову, – на этой актрисе, специально им, Гореловым, приглашённой на съёмки. Он вспомнил, как долго и терпеливо уговаривал её, звонил несколько раз ей в Москву, на квартиру, соблазнял как мог этой небольшой, но выразительной, ну прямо для неё написанной ролью, в которой он «не видит» никого другого, а в последний раз даже текст роли стал пересказывать в трубку, при этом так вдохновился, так распалил себя, что пожилая актриса не удержалась, дрогнула.
Наутро она приехала, но тут же пожаловалась на головную боль, а к вечеру у неё поднялось давление. Утром следующего дня – это было воскресенье – состояние здоровья актрисы не улучшилось, и от завтрашних съёмок она отказалась наотрез.
А время шло, и нужно было что-то решать. Распускать группу, ждать, когда поправится актриса? Или срочно звонить на «Мосфильм» и просить другую исполнительницу? Но успеют ли?
И тут кого-то осенило: ведь в Волжске, в этом небольшом городке, есть свой драматический театр! Пусть провинция, пусть не Театр на Таганке и не «Современник», но в таком-то положении…
Не рассчитывая на удачу, скорее, сознавая, что иного выхода нет, Горелов без особого энтузиазма принял предложение своей помощницы, ассистентки Зиночки, сходить в местный театр: а вдруг да и найдётся подходящая актриса! Через двадцать минут Зиночка была в театре. Но опять незадача! Кроме старичка вахтёра и дежурного пожарного, в театре никого не оказалось. Отпуск.
– Господи! – Зиночка в отчаянии опустилась на стул. – Вот не везёт! Что же делать-то?
Она с надеждой взглянула на старичка вахтёра, восседавшего в мягком реквизиторском кресле с газетой в руках.
– А вы, извиняюсь, по какому вопросу? – Отложив газету на стоявший рядом столик, он взглянул на неё из-под очков. – Ежели дело важное, так можно и поискать кого надо. Небось не все по курортам разъехались.
– Вчера ещё тут вертелись, – сообщил подошедший пожарный.
– А может, и правда, – воспрянула Зиночка. – Я, видите ли, с «Мосфильма», мы здесь картину снимаем, и нам позарез нужна актриса…
Она тут же принялась объяснять вахтёру и пожарному, какая именно актриса нужна для съёмок, и как это срочно нужно, и что за эпизод предстоит им снимать, и вообще о будущем фильме – о ком и о чём он… Всё больше проникаясь особой, свалившейся на их головы ответственностью за судьбу киноэпопеи – так Зиночка назвала будущую картину, – вахтёр и пожарный долго и озадаченно молчали, а потом, отважившись, стали наперебой вспоминать одну за другой фамилии местных актрис, обсуждая при этом их достоинства и недостатки; единодушия в творческих оценках и личных симпатиях не было – вахтёр сердился на пожарного, пожарный на вахтёра, – а дискуссия безнадёжно затягивалась. Зиночка сидела как на иголках, то и дело поглядывала на часы. Угадав её беспокойство, вахтёр решил поставить точку.
– Холину нужно искать. Нину Владимировну, – он с вызовом взглянул на пожарного и потянулся за телефонным справочником, лежащим на столе.
Пожарный, похоже и на этот раз готовый возразить, промолчал, однако, поразмыслив немного, сказал:
– Насчёт Холиной я, пожалуй, не против. Очень положительная, надо сказать, дамочка. И не курит, хочу заметить. За другими, скажу вам, гляди да гляди… То тут, то там окурок бросят, а эта нет. Думаю, стоит прислушаться…
– Не в том дело – курит или не курит, – ревниво вставил вахтёр. – Я при дверях, считай, пятнадцать лет сижу, ихнего брата насквозь вижу… Другой, может, на сцене хорош, а в жизни, в буфете или, скажем, на месткоме и не больно герой. А Холина… Душевный она человек. В театр придёт, с каждым поздоровается, ей что директор, что вахтёр…
На том и порешили: звонить Холиной.
Позвонили. Нина Владимировна, на счастье, оказалась дома.
Это предложение застало Нину Владимировну врасплох. Два дня, как вернулась домой с гастролей, оглядеться толком не успела, дорожную пыль с чемодана не стряхнула – он так и стоял в коридоре, даже Димку, сына, ещё не повидала, как раз сегодня собиралась ехать к нему на дачу, и вот… Как снег на голову!
Нет, в другое бы время – какой разговор! Она бы и раздумывать не стала. В самом деле, человека приглашают сниматься в кино, любая актриса, за такое приглашение схватится обеими руками, а она, видите ли, заколебалась. А если это и есть тот самый случай, которого она давно уже ждёт? Ведь как бывает… Попасть в эпизод, сыграть пустячок какой-нибудь, пусть даже без единого словечка, показаться на минуту на экране, но показаться так, чтобы всем стало ясно: да, это то, что надо, это не просто так… И всё. И с этого пустячка…
Может же и у неё быть такое? Почему бы и нет! А при нынешнем положении в театре, когда Нина Владимировна – не по своей, конечно, вине, а в силу всевозможных, не зависящих от неё обстоятельств – всё чаще оказывается не у дел, это было бы даже очень кстати.
Но этот дурацкий гастрольный комплекс! Вечно она мучается из-за него… Два месяца не была дома, моталась по городам, рвалась к своим мужикам – к мужу и сыну, – по ночам в гостиничных номерах изводила себя бессонными тревогами: как они там, здоровы ли, не случилось ли что, вот и письма от мужа давно уже нет; на крыльях, можно сказать, летела к ним, мечтала о тихом отдыхе в кругу семьи, хоть месяц пожить, как все нормальные люди, – ходить по дому, ездить на дачу, готовить завтраки, обеды и ужины… Ну что ещё надо человеку для полного счастья!
И вот два дня не прошло – опять из дома. Не жена, а птица перелётная.
Впрочем, о чём это она? Ведь ничего ещё не известно. Ну, встретится с режиссёром, побеседует, он поглядит на неё… Может, на этом всё и кончится. И бог с ним. Будем считать, что это ещё не тот случай, которого она ждёт, будет ждать другого.
Муж позвонил с работы. Удивился:
– Как, ты ещё не на даче?
Узнал, в чём дело, снова удивился. Теперь по другому поводу:
– И ты ещё сомневаешься? «Мосфильм», понимаешь, по тебе плачет, а ты… Когда встреча с режиссёром? Вечером. А съёмки? Ну и отлично! Доживём, мать, до понедельника.
Чуткий был у неё муж, всё понимал.
Засуетилась, засобиралась: какое платье надеть, какие туфли… Ох ты, господи! Собралась наконец. К пяти часам, как условились с Зиночкой, подошла к подъезду гостиницы.
Потом они шли по длинному и узкому, похожему на бесконечный купированный вагон гостиничному коридору, по мягкой ковровой дорожке, и Зиночка, увлекая её за собой, о чём-то говорила ей торопливо, кажется, о том самом эпизоде, в котором Нине Владимировне предстояло сниматься, и об актрисе, так неожиданно и некстати заболевшей. Но, слава богу, радовалась ассистентка, всё, кажется, складывается как нельзя лучше, и теперь остаётся немного – показаться главному… Словом, ни пуха ни пера!
Нина Владимировна волновалась, конечно, и торопливую болтовню Зиночки слушала не очень внимательно, а больше думала о предстоящей встрече, и потому, наверное, не уловила одной детали, на которую ассистентка режиссёра намекнула как бы между прочим, – что возрастом та заболевшая актриса была значительно старше Нины Владимировны, из чего Нина Владимировна могла бы заключить, что и роль, которую хотят предложить ей, вероятно, тоже возрастная.
Всё это она поняла чуть позже, когда, возвратясь домой, прочитала текст роли – одну страничку в режиссёрском сценарии, – а в ту минуту ей это и в голову не пришло. Правда, кое-что её уже тогда смутило: как-то странно, не то чтобы растерянно, скорее, озадаченно глядел на неё режиссёр. Впрочем, он и на Зиночку, свою ассистентку, поглядел точно так же, как бы спрашивая: «Это кого же ты ко мне привела и зачем?»
«Наверное, забыл о встрече, – предположила Нина Владимировна, – замотался поди на съёмках и запамятовал».
Смутило и другое… Очень коротким был у них разговор. Вернее сказать, разговора, к которому, волнуясь, как премьерша, готовила она себя, вообще не получилось, и ей было трудно понять, какое же впечатление произвела она на режиссёра. Нет, отказа как такового не было, больше того, там же, в гостиничном номере, Зиночка по просьбе Горелова вручила ей сценарий и, отчеркнув ноготком текст на страничке, сказала:
– Вот почитайте, поработайте. – А в коридоре, провожая её, наказала: – Завтра без четверти шесть – у подъезда гостиницы. Не проспите, ради бога.
И вот теперь, когда сценарий был прочитан полностью, когда дважды был перечитан текст роли, к Нине Владимировне пришла запоздалая догадка: «Так вот почему он растерялся… Рассчитывал увидеть совсем другое. Думал, придёт актриса лет под пятьдесят, вроде нашей Гонтаренко, и никакой с ней мороки – живое воплощение вечной скорби… как раз то, что нужно. А тут явилась я… Босоножки на платформе, платье выше колен… Выдала всё, что могла. Прифуртипитяпилась, идиотка».
Да, это была ошибка. Нет, не её, не Нины Владимировны… Ошиблась Зиночка, ассистентка, ошибся тот, кто порекомендовал ей Нину Владимировну, а режиссёр, поняв эту ошибку, почему-то промолчал, хотя именно он и должен был внести ясность. Может, передавая Нине Владимировне сценарий, он рассчитывал, что она сама разберётся во всём? Если так, решила она, то ей ничего не остаётся, кроме одного – тут же, не раздумывая, нужно звонить в гостиницу или бежать туда, пока не поздно. Отдать сценарий, объясниться, сказать, что всё это, в общем-то, несерьёзно – в её-то годы, когда на лице, слава богу, ещё ни одной морщинки, играть какую-то многодетную мать. Нет, извините, это от нас не уйдёт, это мы ещё успеем. И в театре и в кино на такие роли божьих одуванчиков и без нас хватает.
И словно гора с плеч. Вот сейчас она переоденется, возьмёт сценарий… А может, позвонить режиссёру? Так даже лучше, позвонить и отказаться, а утром с первым же автобусом – к Димке на дачу.
Было уже поздно. Муж позвонил, сказал, что задержится в редакции: дежурство. Она положила трубку, задумалась снова. Как же быть? Идти в гостиницу или позвонить? Она снова взяла в руки сценарий, нашла страничку, отчёркнутую ноготком ассистентки. Забылась первая фраза в тексте, а ей почему-то захотелось её вспомнить… Она отыскала её и машинально, пробежав глазами, произнесла вслух. В полутёмной комнате голос её прозвучал глухо и чуждо, ни для кого. Нина Владимировна поморщилась и, почему-то злясь на себя, отбросила на столик сценарий. Поднялась с кресла, пошла на кухню. Зачем-то открыла холодильник, постояла перед ним в отрешённой задумчивости, а потом, захлопнув дверку, вернулась в комнату и зажгла свет.
Лежащий на столике сценарий снова поманил её…
«Сколько же лет ей было, той женщине? – вдруг спросила она себя. – Трое детей… Старшему, допустим, четырнадцать-пятнадцать. Выходит, он мог родиться, когда матери было… Ну сколько ей могло быть? Двадцать два, пусть двадцать три. Женщины в деревнях рано становятся матерями, раньше, чем городские. Стало быть, в войну ей было чуть больше, чем мне теперь. Три, четыре года разница – только и всего-то. Неужели? Вот тебе на! И никакая она, выходит, не старуха…»
Открытие это, такое неожиданное, удивило Нину Владимировну и озадачило тем, что оно странным образом вдруг приблизило то ли её к той незнакомой женщине, то ли женщину к ней. Будто какая-то незримая ниточка потянулась из этой комнаты, по которой взад-вперёд расхаживала Нина Владимировна, потянулась туда, к далёким и страшным дням, откуда явилась эта незнакомая женщина без имени и фамилии, по сценарию – просто женщина-колхозница, явилась со своим страшным горем, с непоправимо искалеченной судьбой. И, ещё не видя этой связи, но уже чувствуя, что она есть, Нина Владимировна вдруг испугалась, что, едва возникнув, эта связь может так же быстро и оборваться. И тогда она не сумеет узнать чего-то очень важного, необходимого ей. То ли о женщине этой, то ли о себе самой.
В какой-то миг, всё больше поддаваясь сомнению, Нина Владимировна поняла, что всё это время она странным образом обманывала себя: найдя вполне серьёзный повод для отказа и без особого труда убедив себя в том, что предложенная ей роль не для неё, она тем временем не спешила с отказом, почему-то медлила… Вот и по комнате расхаживала взад-вперёд, то ли искала что-то, то ли к чему-то прислушивалась, и вот наконец поняла – к себе самой она прислушивалась…
Ещё глубоко скрытое и тайное движение, ей одной понятное и ею одной уловимое, постепенно нарождалось в чутких и отзывчивых уголках её актёрской души; оно томило и мучило её трепетным предчувствием близкого и уже желанного начала – такой же мучительной и желанной работы, в которой, она знала, был миг, когда в незримой точке эта чужая, кем-то придуманная, а может, и реально когда-то и где-то существовавшая жизнь должна будет соединиться с её собственной. Пришло время, она почувствовала это…
Час, полтора ли прошло, она не заметила. Что-то вдруг испугало её, она вздрогнула и оглянулась на неожиданный стук… Мокрыми, исплакавшимися глазами взглянула на мужа, появившегося в дверях. Когда пришёл он, когда открыл дверь?
– Ты чего? – забеспокоился он. – Случилось что-нибудь?
– А что? – она сразу возвратилась к себе. – Ах, это! – Нина Владимировна дотронулась пальцами до красных от слёз век, кивнула на лежащий перед ней сценарий. – Да вот, поплакала за старушку…
– Успела уже. Над вымыслом, так сказать, слезами… Представляю, что будет завтра на съёмочной площадке!
– Москва слезам не верит, – усмехнувшись, сказала Нина Владимировна, – а «Мосфильм» – тем более. – Она пришла на кухню, присела к столу напротив мужа – тот жевал бутерброд с колбасой и прихлёбывал кефир из бутылки; помолчала немного, потом призналась: – А я ведь, ты знаешь, отказываться хотела. Да вот она не пустила.
– Кто? – не понял муж.
– Она, моя героиня…







