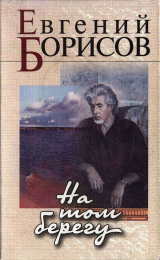
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
Что было, что будет…
Полуправдивый роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
– А будет тебе, дочка, дальняя дорога, а на дороге этой – нечаянная радость. Ты её не ждёшь, а она – нате вам. А дальше – какие-то хлопоты. Всё хлопочешь, хлопочешь… А вот и свиданьице сердечное в казённом дому, не иначе, в институте твоём педагогическом. А дальше, ты уж крепись, девка, ко всему будь готовая, дальше удар тебя ждёт какой-то, всё по той же, по дальней дороге. Но это ещё не скоро, коль по дальней, это, разобраться, во всякой жизни так, то, глядишь, ровно да гладко, а то вдруг и затрясёт, как на плохой телеге. Только держись!
Тётя Поля поднимает глаза, задумавшись на минуту, глядит куда-то поверх Надиной головы, поверх белой занавесочки, которой кухонное окошко призадёрнуто, будто и в самом деле в Надину судьбу, в её будущее заглядывает. И Наде, сидящей спиной к окошку, страсть как хочется оглянуться, посмотреть туда, проследить за её долгим, озабоченным взглядом: что же ей видится там, на той дальней дороге?
Год назад, перед тем, как уезжать из дома на вступительные экзамены, Надя вот так же, тайком от мамы, прибежала сюда и, хотя ни в какие гадания и в предсказания разные не очень-то верила, упросила тётю Полю поворожить. Предстоящая дорога, большой незнакомый город, чужие люди, подружки новые, ну и конечно вступительные экзамены – всё это пугало её ужасно. Вот и хотелось узнать заранее, хоть чуточку, хоть приблизительно…
Хочешь верь, хочешь – нет, но всё как-то складно тогда получилось. И дорога была, и казённый дом, то есть общежитие институтское в Студенческом переулке, и нечаянные радости, разумеется, тоже были. Хотя, подумать, у кого их не бывает! Вот только интереса трефового, который тётя Поля тогда нагадала, у Нади почему-то не получилось. Но стоило ли из-за этого переживать! Нет, так и не надо, значит, время ещё не подошло, и тётя Поля тут не виновата: ведь карты точного времени не указывают.
Вот и на этот раз… Света не зажигали, хотя и стемнело уже, но так, впотьмах, даже интереснее. Сидели друг против друга, как заговорщицы, склонив головы над столом, и гадание у них уже к концу шло. Теперь бы главное узнать: чем же сердце-то успокоится? Но тут и случилось… Ну, как назло – на самом интересном месте!
Когда за стол-то садились, дверь позабыли на защёлку закрыть: дядя Миша, тёти Полин муж, тут как тут, возник на пороге. И хоть сумеречно было на кухне, всё углядел, всё понял сразу.
– Опять за старое, – надвинувшись на стол, он сурово глянул на тётю Полю. – Вот сгребу вас обеих вместе с вашими картами да к директору. – Веру Васильевну, Надину маму, имел в виду. – Она вам живо нагадает где раки зимуют. Будет дурить девке голову.
– Да мы ить так, без всякого серьёзу, – торопливо сгребая карты со стола, заоправдывалась тётя Поля. – И ладно, дочка, и бог с им, – шептала она при этом и кивала головой на Михаила, – в другой раз как-нибудь, а то, не ровен час, он и вправду… У него хватит…
А в парке уже темно. Тихо шумят над головой старые липы, словно дошёптывают Наде какие-то таинственные, вещие слова, что не успела сказать ей тётя Поля. Остановилась посреди аллеи, прислушалась: ну, что они шепчут, что обещают?.. А на душе – пойми от чего! – какая-то смутная тревога. Уж не оттого ли, что так и не успела узнать, чем же её сердце успокоится? Да нет, глупости это всё! От чего ему успокаиваться, если для беспокойства, для тревоги нет ну никаких – ни видимых, ни даже невидимых – причин. Летняя сессия позади, и она снова дома, у мамы, в своём родном Лугинино.
А впереди – целое лето!
2
То ли тёти Полины карты ошиблись тогда, то ли сама ворожея обманулась в своих предсказаниях, но двух дней не прошло с того вечера, как сумерничали и секретничали на кухне, а жизнь нежданно-негаданно такой поворот дала!..
А ещё через день поселковых мужиков на войну провожали. Вместе со всеми Надя на тот полустанок ездила. Отсюда и её отец на войну уезжал, только на другую – на финскую, с которой он так и не вернулся. А какой весёлый он был тогда, перед проводами! Как будто не на войну, а на рыбалку или на охоту с друзьями собирался: всё над мамой посмеивался, над её суетливыми хлопотами – чтобы носки шерстяные не забыл, чтобы бритву, платки носовые не оставил…
Теперь дяди Мишина очередь пришла. И он уезжал тоже весело. Был небрит по обыкновению, и тётя Поля, стараясь спрятать за строгостью свою тревогу, песочила его на чём свет стоит:
– Ты на себя-то погляди, вояка! Все мужики, вона, люди как люди, один ты шершень какой-то. Небось не на конюшню, на войну срядился. Так, небритый, и пойдёшь воевать? Срам, да и только.
– Да я ж не на гулянку, – ухмылялся в ответ пьяненький конюх, – а на войну. Пусть им страшнее будет. Как увидят меня небритого, – он всё дурачился, делал страшную рожу, – так и побегут обратно в свою Германию.
Надя смеялась, глядя на него, а тётя Поля виновато, словно оправдываясь перед Верой Васильевной за дяди Мишины дурачества, разводила руками: ну что, мол, с него, с пьяного, взять!
А он вовсе и не был пьяным – так, принял самую малость – и дурачился не потому, что было ему весело. Наверное, так легче прощаться было, и все, конечно, понимали это. Да и тёте Поле самой было легче – вот так поругивать его.
– Ну, чего не стоится-то, – дёргала она его за рукав, – крутишь башкой, как сивый мерин. Кого всё выглядываешь-то?
А он и правда всё поглядывал по сторонам, тянулся куда-то взглядом, будто искал кого в толпе провожающих.
– Да с кралей одной не успел проститься, – поддразнивал он тётю Полю, – остаётся тут без меня. Вон стоит, голубушка, голову опустила. Почуяла, видать, разлуку.
Вслед за тётей Полей Надя и Вера Васильевна тоже поворачивают головы, глядят туда, куда кивнул дядя Миша. Там, возле деревянной будки стрелочника, у коновязи, стоит запряжённая в коляску кобыла Машка, любимица всех лугининских мальчишек, стоит и тревожно, будто и в самом деле почуяла близкую разлуку с хозяином, прядает ушами, кивает в частых, размашистых поклонах головой и косит неспокойным глазом в их сторону.
Вот с кем, оказывается, он прощается!
– Фу ты, чёрт старый! – тётя Поля, не удержавшись, хлопает дядю Мишу по плечу. Улыбается печально. – А я, грешным делом… – Глаза её теплеют от близких слёз. – Поди уж потолкуй на дорожку, утешь кралю-то, скажи, что воротишься со скорой победой, пообещай, что письма будешь писать нежные, что станешь беречь себя, не полезешь на рожон поперёк других, как бывалоча…
Она подталкивает его в плечо, и он, скинув к её ногам вещевой мешок, уже шагнул к коновязи, да поздно.
– Едет! – вдруг раздалось в толпе.
Толпа загудела, задвигалась. Мальчишки-оркестранты, подхватив свои трубы, нестройно, словно догоняя друг дружку, заиграли «Дан приказ ему на запад…», и чей-то голос на немыслимо высокой ноте ударился в плач; громко, перекрывая и звуки оркестра, и гул приближающегося поезда, кто-то скомандовал:
– В две шеренги стройся!
Стали прощаться.
Церемонно, сразу вдруг посерьёзнев, дядя Миша подошёл к Вере Васильевне.
– Прощевайте, Васильевна, – сказал он, пожимая ей руку, – не поминайте лихом. – Закинув мешок за плечо, оглянулся, подмигнул Наде: – И ты, дочка, будь здорова. Со свадьбой-то без меня не спеши, авось я недолго. А ты… – Он шагнул к Полине, – а тебе, Полина, – он торопливо искал и всё не мог найти для неё нужные слова, – тебе особый наказ, сама знаешь какой… Сбереги Машку, гляди за ней в оба… И чтобы до той, до самой скорой победы… Жалей её…
В это время кто-то потянул его за рукав, и он пошёл за другими следом, а тётя Поля, потерянная, жалкая, стояла и глядела молча ему вслед. Потом вдруг крикнула в отчаянии:
– Господи, да как же это!.. Кобылу пожалел! А меня, кто меня-то жалеть станет!
– Ну чего, чего ты! – Дядя Миша остановился, подбежал к ней, неловко приобнял за плечи. – Да поброюсь я. Вот приеду на фронт и поброюсь…
С того дня притих, насторожился посёлок Лугинино. Все словно ждали чего-то или прислушивались: вдруг да и донесётся издалека стук колёс того поезда, что увёз в неизвестную даль конюха Михаила и других поселковых…
А дни, как нарочно, стояли такие мирные, так медленно догорали на озёрах вечерние зори. Короткими ещё ночами срывались на землю шумливые и тёплые дожди, после них при утреннем, по-летнему пригревающем солнышке в садах и огородах над буйно разросшимися кустами малины и крыжовника, над кудряво-зелёными грядками словно дым потухших костров поднимался от земли тёплый пар. А в борах, на старых вырубках – на гладинах, по-здешнему, боровики пошли, хоть косой коси. Такого щедрого на грибы лета в верхневолжских краях давно уже не было. Стесняясь друг дружку, с оглядкой на соседей, уходили по утрам поселковые женщины в лес. В недолгой усталости, в разговорах да криках, которыми то и дело оглашался лес, на время забывали о том, что где-то, за неблизкими лесами, за высокими горами, идёт-громыхает по земле война. Какая она, страшная ли, а может, и не очень – этого ещё никто здесь не знал.
Пока ни одной похоронки не доставил в посёлок старик-почтальон: то ли почта нынче долго шла, то ли старик, обычно приезжающий с разъезда на стареньком, дребезжащем велосипеде, прихворнул некстати, но уже с неделю никаких вестей – ни плохих, ни хороших – не было.
А в Лугининском детском доме жизнь шла своим чередом. Правда, тётя Поля, выезжая по утрам за водой, – теперь она была и за няньку, и за конюха, и за водовоза – вслух печалилась кобыле Машке:
– А ведь забыл, видать, нас, чёрт небритый, завоевался совсем. Клочка бумаги не найдёт черкануть два слова: мол, живой и здоровый… Или другую кралю завёл.
Словно соглашаясь с ней, Машка кивала головой, и они выезжали за ворота, подсаживая на ходу в телегу детдомовских мальчишек, ехали к озеру.
Детский дом в Лугинино появился лет шесть тому назад. Тётя Поля в ту пору техничкой в поселковой школе работала, а школа размещалась как раз в этом здании – в старинном двухэтажном особняке с высокими белыми колоннами, с широкой лестницей перед парадным подъездом. Бывший хозяин его, богатый волжский лесопромышленник, место для дома облюбовал – лучше некуда: у самого озера, на высоком берегу. А вокруг дома парк с многочисленными аллеями, с беседками, с цветником под окнами, деревья самых разных пород от привычной берёзки до диковинной ели, отливающей дымчато-матовой голубизной.
Поговаривали, будто дом этот со всей усадьбой под санаторий приспособить собирались, да всё откладывали. А пока разговоры эти шли, в Лугинино ребят из детского дома, из города, привезли. Вроде как на лето, на каникулы. Приехали отдохнуть, да и остались: видно, понравилось жить на вольной-то воле. Год или два учились вместе с поселковыми, рядом, в одних классах, за партами сидели. Со стороны поглядеть – такие же девчонки и мальчишки, и вся-то разница – у одних одёжка своя, мамками-папками купленная, а у других – казённая: синие платьица у девчонок, а у мальчишек костюмы того же цвета.
Но это – если со стороны, если не видеть другого…
Вот прозвенит последний звонок, закончатся в школе уроки, поселковые ребята похватают свои книжки да тетрадки – и по домам. А эти останутся. Бежать-то им некуда, да и не к кому…
И кто бы мог знать, какой печалью отзывался в душах этих ребят весёлый звонок с последнего урока! Кто бы видел, какими глазами глядели они в эти минуты из окон своих спален, со второго этажа, на счастливых одноклассников, с весёлым и радостным криком разбегавшихся по домам, к своим папкам и мамкам!
А тётя Поля знала это, сердцем чувствовала. Потому и не уходила допоздна из школы, а то и ночевать там оставалась. А потом, когда в посёлке новая школа открылась, когда ребят поселковых туда перевели, сама пошла к Вере Васильевне – её тогда директором детского дома назначили – и попросилась остаться здесь. Скоро и мужа своего, Михаила, из леспромхоза переманила.
В те дни она о ребёночке, о сыне мечтала. Не о своём – о приёмном. Своего, единственного, кровного, не уберегла – года не прожил мальчонка… С этой болью, с бедой этой и жила много лет, чужой не замечала. А когда увидела однажды вот эти глаза, увидела мальчишек и девчонок в синих казённых одёжках – будто очнулась: чужое-то, детское горе вдруг горше своего показалось.
«Господи, да как же это, – сокрушалась она, – ни голода, ни войны, слава богу, жить бы да радоваться, а тут такое… Видать, так и будет на свете: какая-нибудь беда всё ходит, рыщет по земле, чтобы кому-то сегодня, кому-то завтра лихо было. Неужто нельзя без неё?»
Однажды решилась, сказала Михаилу – про мальчика-то, – а он в ответ:
– Ну и которого же ты присмотрела? Чернявенького или белобрысенького?
Не поняла, шутит он или всерьёз. Взглянула осторожно, а он брови нахмурил: какие тут шутки!
– Да я к тому, – говорит, – что и сам уж думал об этом. Ну, возьмём мы одного, пусть чернявенького. Это, к примеру. А что же другой, белобрысенький который?.. Он-то кому останется? Чем он-то хуже, а? И как ты потом ему в глаза глядеть станешь?
Прав или нет был тогда Михаил, она не знала. Но с тех пор в ней жило какое-то странное чувство хотя и не состоявшейся, но почему-то ощутимой, непроходящей вины перед этими мальчишками и девчонками, среди которых был и тот, чернявенький, а может, белобрысенький, который однажды мог бы стать, но так и не стал её сыном.
События последних дней – и проводы, и полные тревог ожидания вестей оттуда, с фронта, – всё это заглушило прежние переживания. От сообщений, которые слышали по радио, становилось беспокойно, хотя по-прежнему жили и верили: ну, месяц – и остановят, погонят его назад. Иначе и быть не может..
О плохом думать не хотелось.
Правда, однажды случился переполох. Средь бела дня – тётя Поля с ребятами как раз из лесу с грибами возвращалась – вдруг услышали… Незнакомый, подвывающий какой-то звук, то будто падая на землю, то снова как бы ввинчиваясь в небесную высь, какое-то время висел над посёлком, холодя душу неведомым ещё страхом. Кое-кто из ребят даже клялся и божился, что и самолёт видели – маленькую точечку в синем, без единого облачка, небе. Но поди узнай, свой или чужой летит. Вот только звук какой-то странный…
Самолёт погудел-погудел, и снова стало тихо в посёлке. Так прошёл день, другой. И вдруг – эта история…
В тот день, не дождавшись почтальона, тётя Поля запрягла Машку и уехала на полустанок, куда обычно приходила почта. До разъезда было километров шесть, но, уехав рано утром, возвратилась она только к обеду. Да не одна. Рядом с ней на телеге сидели ещё двое: дядя Степан, хромой милиционер, участковый с разъезда, а возле него, свесив с телеги босые грязные ноги, – мальчишка лет десяти-одиннадцати.
Был час, когда ребята, бездельничая и томясь в ожидании обеда, собирались обычно у парадного крыльца, на главной парковой аллее. В это время тётя Поля и подкатила к крыльцу со своими пассажирами.
– Слезай, приехали, – бросила она через плечо. – Вояка…
«Воякой», судя по всему, был тот босоногий, ушастый пацан, ради которого, похоже, и пожаловал в детский дом участковый. Обычно с его появлением здесь связывалось событие, которое на языке уже заранее встревоженных этим визитом учителей и воспитателей квалифицировалось как «из ряда вон…». Последним случаем был набег детдомовских мальчишек на поселковые сады и огороды. Правда, набег совершали трое, ребята из старшей группы, но яблоки, ещё не дозрелые, кислые, в ту же ночь были по-братски поделены. Грызли тайно – в спальнях, под одеялами, а утром в медпункте, куда, держась за животы, потянулась нестройная очередь, появился «околоточный» – так тётя Поля участкового величала.
И вот – будто снег на голову – дядя Степан явился снова. Неловко спрыгнув на землю, он потянул за собой ушастого пацана, и в тот момент, когда парнишка, сойдя с телеги, с обречённой покорностью поплёлся за ним следом, ребята, толпившиеся у крыльца, увидели нечто странное: правая рука участкового и левая – кожа да кости – того мальчишки были связаны верёвочкой. Ребята едва не шарахнулись в стороны, пропуская к крыльцу нежданных гостей. Так, словно хозяин с собачкой на поводке, дядя Степан и прохромал сквозь этот притихший строй, направляясь к Вере Васильевне в кабинет.
Потом он снова появился на крыльце, но уже один. Выставив торчком негнущуюся в колене ногу, нескладно избоченясь, присел на ступеньке, снял картуз, вытер рукавом вспотевший лоб. Стал деловито, не спеша сматывать верёвочку.
– Ну что, – тётя Поля поднялась на крыльцо, присела рядом, – сбыл с рук, и ладно? И душа небось спокойна? – Она сердито покосилась на верёвочку, которую участковый теребил в руках. – Видел, как наши-то на тебя глядели? Ровно преступника вёл какого. А какой он, разобраться, преступник, если форменный герой…
– Эк ты куда хватила! – участковый недоуменно мотнул головой. – Сама же небось по кустам носилась, точно зайца его ловила, а теперь, глянь, уж и в герои произвела. Мало, видать, этому герою уши драли. Был бы свой у тебя, я поглядел бы…
– У меня своих вона сколько, – уязвлённая, тётя Поля кивнула на ребят, в молчаливом ожидании – что-то дальше будет? – топтавшихся у крыльца. – И никого небось не вяжем…
А в это время в кабинете у Веры Васильевны разговор тоже явно не клеился. Нахохлившийся, угрюмый «вояка» сидел, свесив грязные ноги, на кожаном диване – точь-в-точь как минутой раньше на телеге, и всем своим видом показывал, что к задушевной беседе, к которой пыталась склонить его Вера Васильевна, он вовсе не расположен.
– Ну как же так можно, Саня, – искренне сокрушалась Вера Васильевна, – ехал к отцу на фронт, а попал… Заблудился, что ли?
Она говорила так, будто и впрямь очень сожалела, что он не добрался до фронта.
– И ничего я не заблудился, – боясь поддаться на этот доверительно-сочувственный тон, Саня с недоверием поглядывал на неё. – Это хромой всё, он меня под вагоном сцапал. Там, на разъезде. Если б не он…
– Ну, хорошо, – соглашалась Вера Васильевна, – будем считать, что это случайность. Теперь представим, что ты доехал, и что дальше? Откуда ты знаешь, где воюет твой отец?
– Известно где, – пробормотал Саня, – на передовой.
– Ясно, что не в тылу, – опять согласилась Вера Васильевна. – Но ты пойми, передовая это… там, где идут бои. Но ведь бои-то сейчас идут по всему фронту, ты представляешь, что это значит? Это огромное пространство, и на каком-то участке воюет твой отец. Но на каком? В какой армии, в каких войсках, в какой дивизии? – Она недоуменно, с сожалением пожала плечами, потом задумалась на минуту и вдруг сказала: – А ведь есть, есть один способ…
– Какой? – с осторожной надеждой Саня взглянул на неё.
– А если маме твоей написать? Спросить папин адрес. Ведь мама должна же…
– Откуда ей знать, – Саня испуганно вскинул голову, неспокойно заёрзал на диване. И вдруг – как отрезал: – Не надо, тёть, не старайтесь… Я всё равно убегу, вот увидите. Меня три раза на вокзалах ловили, а я убегал. А мамка, – сказал глухо, с давней какой-то обидой, – она и без нас проживёт, нужны мы ей больно…
И такая боль, такая горечь прорвались вдруг в этих почти шёпотом, сквозь стиснутые в обиде зубы, произнесённых словах, что Вера Васильевна совсем было растерялась. Сказала с сожалением, не скрывая досады:
– Напрасно ты так со мной, Саня. Я от души хотела помочь, а ты… ведёшь себя, как мальчишка. Будто ты один только хочешь на фронт, а другие хуже тебя, что ли? Все кругом трусы, маменькины сыночки, ты один, выходит, такой смелый. Ты у ребят наших спроси…
– Больно надо, – без прежней злобы огрызнулся Саня.
– А ты спроси, спроси! Думаешь, им не хочется? Ещё как! Каждый настоящий мужчина думает сейчас об этом, да не каждому время пришло… Вот поживёшь у нас, отмоешься, отъешься как следует, а то на голодный желудок, сам знаешь… Ботинки новые тебе дадим, не босиком же на войну отправляться.
– Мне бы добраться, – проговорил Саня, – а там дадут.
– Дадут во что кладут! – это тётя Поля появилась на пороге. Не удержалась, видно, решила помочь Вере Васильевне в затянувшемся разговоре. – Ты уж не рыпайся, милок, слушай, что добрые-то люди тебе толкуют. – Уловила предупредительно-строгий взгляд директора, спохватилась. Сказала виновато: – Я что зашла-то… Там Степан, околоточный, дожидается. Так что мне отвезти его или как?..
Вера Васильевна собралась что-то сказать, но не успела, потому что именно в этот момент, выждав, когда тётя Поля шагнёт от двери, Саня, словно испуганный воробей с забора, вспорхнул с дивана и, проскочив перед её носом, вылетел в коридор. Было слышно, как часто, удаляясь, шлёпали по полу его босые ноги.
А в это время дядя Степан – будто сердце чувствовало – докуривал на крыльце очередную цигарку: сидел и поджидал беглеца. Здесь, на крыльце, где участковый подкараулил Саню, и состоялся у них этот вполне мирный разговор. Они сидели рядышком, и дядя Степан, всё так же покручивая в руках верёвочку, миролюбиво, доверительно втолковывал ему:
– Ты ежели снова убечь удумаешь, прими мой совет: дуй прямо на разъезд, там я тебя и встрену. А по лесам да по ольшинам мне за тобой не угнаться, не с ноги, брат. Да и загинешь ты в наших болотах, пропадёшь ни за грош, ни батька, ни мамка не сыщут. А за верёвку эту, – он положил верёвку Сане на тощее колено, – ты уж извиняй. Сплоховал я с верёвкой-то, признаю, хорошего, храброго парня зазря обидел. – Рука дяди Степана легла на плечо мальчишке. – Но ты и меня пойми, брат, такая вышла морока… И прими мой совет: подхарчись тут маненько, силёнок поднакопи, а там видно будет. Война-то, по всему, завтра не кончится, может, и на нас с тобой хватит. – Поднимаясь, оглянулся, крикнул: – Полина, поехали. Неча мне больше тут делать.
А тётя Поля уже сидела на телеге, расправляла вожжи и, усмехаясь чему-то, поглядывала на дядю Степана, качала головой, дивясь тому, как ловко ему удалось усмирить парня!..
3
Тревожные, неспокойные дни настали в детском доме. Просыпались и засыпали с одной заботой: как удержать новенького от побега? В этих тревогах, в ночных дежурствах и прошла неделя.
А он, похоже, и не думал убегать. Обут, одет, и аппетит хороший – чего ещё надо! И поутихли разговоры. Успокоившись, воспрянув духом, Вера Васильевна уже подумывала о том, как бы уговорить Саню написать письмо матери, сообщить ей о себе. Таким путём она рассчитывала в конце концов узнать адрес – город или деревню, где жил Саня, – который он почему-то не хотел называть.
Но всякий раз, стоило Вере Васильевне напомнить Сане о матери, с ним происходило странное: он становился сам не свой, нервничал, старался уйти от разговора, весь ощетинивался, начинал грубить. Чутьё и опыт подсказывали Вере Васильевне: нельзя спешить с этим разговором, ждать надо.
И дождались…
Саня исчез на десятый день. Да не один: с ним ушли ещё двое из старшей группы. Воспитательница, дежурившая в ту ночь, призналась, что часов около трёх она вздремнула немного, буквально на несколько минут, и если бы был хоть малейший шум, ну, скажем, дверь из спальной приоткрылась, она непременно услышала и проснулась бы. Но ничего подозрительного, уверяла она, за всю ночь не было, даже в туалет никто из ребят не выходил ни разу.
И ребята из старшей группы твердили то же самое: не видели, не знаем, мол, спали всю ночь без задних ног… Ходили вокруг да около трёх разобранных кроватей, не догадываясь выглянуть в окно. Шутка ли, второй этаж! Спустись попробуй! Но кто-то из воспитателей подошёл, однако, к кровати, к той, что стояла у окна, и увидел: от железной спинки, из-под подушки, по подоконнику верёвка тянется. И окно оказалось незапертым…
Позвонили на разъезд, предупредили участкового, а оттуда телефонограмму дали на другую станцию, в ближние сельсоветы тоже сообщили – чтобы искали беглецов. А беглецы в это время другой дорогой шли – не на разъезд, а в противоположную сторону, за лугининское озеро, полагая, наверное, что рано или поздно доберутся до железной дороги, а может, сразу до фронта…
Деревенский дядька в этот ранний час ехал на лошади в соседнюю деревню, он и увидел: впереди вдоль большака шагают трое. Идут обочиной, оглядываются. Заметили лошадь, шастнули в кусты.
– Эй, мужички! – крикнул возница дружелюбно. – Чего прячетесь! Свой небось. Да и телега пустая. Садитесь, подвезу!
Пошептавшись за кустами, «мужички» вышли на дорогу, один из них поинтересовался: далеко ли, мол, до станции?
– Да я ведь туда и еду, – не задумываясь, ответил смекалистый дядька. – Километра четыре, может, поболе. Подсаживайтесь, чего зря хорошую обувку топтать.
По ней, по этой обувке – по одинаковым чёрным ботинкам, он и определил с первого взгляда, что мальчишки-то – детдомовские. К тому же брючки эти синие, одинаковые…
А ребята притомились, видать, да и соблазн подталкивал их – поскорее до станции добраться. Забрались на телегу, поехали. Оглянуться не успели, как подкатили прямо к порогу сельсовета. Почуяли неладное, попрыгали с телеги в разные стороны, да где там!.. Трое взрослых парней будто поджидали их: живо догнали.
Однако новая неудача не только не обескуражила Саню, а наоборот – она будто подзадорила его. Теперь он вовсе не напоминал того прежнего пойманного воробьишку – упрямство и вызов угадывались в его открыто непримиримом, независимом взгляде. «Ничего, – словно предупреждал он, – не вышло сегодня, выйдет завтра…»
А ребята с того дня смотрели на Саню как на героя, и он видел, чувствовал это.
Дня не прошло – новое происшествие… На этот раз Люба, новенькая, отличилась в столовой.
…Уже второе разносили, кажется, котлеты с гречневой кашей. По заведённому порядку дежурные по столовой обходили сначала младших – им первым ставили тарелки на стол. И вот когда дежурный принёс Любе второе, она вдруг вылезла из-за стола, обхватила обеими ручонками тарелку и засеменила меж столиков. Никто – ни ребята, ни тётя Поля, обычно присматривавшая за порядком в столовой, – не понял, куда это она – с тарелкой. А она приблизилась к столу, за которым в ожидании котлеты с кашей ёрзал на стуле Саня, и поставила свою тарелку перед ним.
– Это тебе, – сказала она, – вот…
В столовой вдруг стало тихо, даже ложки перестали стучать: все ждали, что будет дальше. А Саня, от неожиданности очумело хлопая глазами, глядел недоуменно то на Любу, то на тарелку с дымящейся паром котлетой. Не зная, что делать, огрызнулся для порядка:
– А на фига она мне?
– И вовсе не на фига, – невозмутимо ответила Люба, – а чтобы сил больше набраться. Будешь больше есть, и дядя Степан… не догонит.
Кто-то из ребят захихикал осторожно, кто-то посоветовал:
– Сань, рубай, раз дают, чё ты.
С других столов тоже поддержали.
– Ну и срубаю, – заявил Саня решительно. – Не пропадать же.
И взялся за вилку.
А Люба стояла и глядела на него, и такая недетская забота, такая радость светилась в её глазах, что тётя Поля, готовая было ринуться к Саниному столу, заступиться, если понадобится, за Любу, остановилась. Стояла возле раздаточной с подносом в руке, дивясь на Любу, качала головой.
– Ну, солдатка, – приговаривала она, – ну, заботница. Откуда что берётся?
Потом замечать стали: Люба за Саней хвостом ходит. Куда он, туда и она. А однажды кто-то из мальчишек, трусливо прячась в кустах, крикнул им вслед:
– Ха, жених и невеста!..
Сжав кулаки, Саня кинулся вдогонку за тем дразнилой, но его и след простыл.
4
В тот вечер Вера Васильевна вернулась домой сама не своя.
– Вот и дождались, дочка, – сказала она, и Надя поняла: случилось то, чего все так боялись, во что не хотелось верить.
– Мама, о чём ты? – Надя поднялась из-за стола, уронив ручку на бумагу. Фиолетовая чернильная клякса расплылась по страничке, вырванной из тетради, по только что начатому письму.
– Эвакуация, – глухо, по складам произнесла мама это странное слово. – Получена телефонограмма… К нам переводят военную школу, а мы…
Фиолетовая клякса расплылась, и Надя с огорчением подумала о том, что письмо придётся переписывать заново и начинать его придётся теперь по-другому: вот с этой ужасной новости, из-за которой, похоже, рухнут все её планы. Ведь только что, минутой раньше, она пообещала своей подруге, однокурснице Вале Нечаевой, что через неделю, а может, и раньше, она приедет в город. Август кончается, в институте занятия скоро, и вот – пожалуйста!.. Как же ей быть теперь, что написать подруге? Об этом она и спросила у мамы.
– Надя, о чём ты?! – Вера Васильевна недоуменно взглянула на неё. – Ты словно забыла… или не понимаешь… Идёт война, и никто не знает, что будет дальше, завтра, послезавтра… А я знаю одно: в такое ужасное время… ты пойми, нам просто нельзя разлучаться, мы должны держаться друг друга. Должны быть вместе, ты понимаешь?
Она уже стояла в дверях, опять спешила к своим мальчишкам и девчонкам, грустно и виновато – вот, мол, опять ухожу, даже в такую минуту не могу побыть с тобой, – будто издалека, из своих новых тревог и забот, глядела на дочь. Убегая, уже с порога попросила:
– Об эвакуации пока никому. Пусть хоть эту ночь ребята поспят спокойно. Кто знает, что нас всех ждёт… А тебе, – она обвела торопливым взглядом комнату, – собери вещи в дорогу, необходимое самое, твоё и моё. И папины письма не забудь, ты знаешь, где они.
И ушла. А Надя снова села писать письмо подруге. Вырвала из тетрадки новый листок, задумалась… Мысль о предстоящем отъезде – куда, зачем? – не давала покоя. Нет, не получалось письмо, до того ли!.. Отложила ручку, встала из-за стола, заходила по комнатам: из своей – в мамину – снова в свою. Перебирала книги – неужели и их придётся оставить! – доставала из шкафа и снова вешала туда свои и мамины платья. И всё, к чему прикасалась она, на чём машинально останавливался её рассеянный взгляд, всё до последней, самой маленькой безделушки на комоде, казалось, глядело на неё и спрашивало о том же: зачем, ну зачем мы должны уезжать отсюда? Это же наш дом! Где и кому ещё мы будем нужны так, как здесь, в родном доме?.. И одинаково жалко было и то, что оставалось, и то, что предстояло уложить в чемодан, чтобы везти неизвестно куда.
Под вечер, вконец измученная этими хлопотами, не раздеваясь, прилегла на диван и заснула.
Уже под утро услышала сквозь сон: что-то тяжёлое, незнакомо гудело на улице. Вскочила испуганная, подбежала к полутёмному ещё окну, в котором, мелко позвякивая, дрожали стёкла, и увидела: в парк одна за другой въезжают машины; четыре грузовика с кузовами, покрытыми брезентом, без огней, будто чёрные чудовища, медленно, словно на ощупь, развернулись по парковому кольцу, приглушённо урча моторами, проехали мимо флигеля, перед Надиными окнами, и остановились у главного корпуса.








