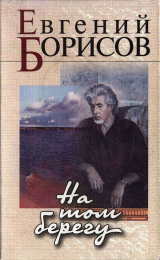
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
14
Сначала они вместе мыли посуду – это у них называлось: мыть в четыре руки… Стояли рядом на кухне у рукомойника, Надя мыла, а Люба с полотенцем через плечо принимала тарелки, вытирала и ставила их на стол. Делала она это с таким старанием, будто выполняла очень важную и ответственную работу. Так бывает, когда одинаково трудно и говорить и молчать.
Потом, не снимая передника, с полотенцем на плече, Люба вышла из кухни, а Надя одна домывала посуду и всё не могла отделаться от ощущения близкой и непоправимой какой-то беды. Мельком, бросив взгляд в комнату через приоткрытую дверь, она заметила, как неспокойно поглядывает в её сторону Сергей, будто ждёт чего-то. Да и Люба, отметила она, ведёт себя как-то странно: то неестественно громко смеялась за столом, а тут вдруг замкнулась, примолкла… О чём-то она разговаривала с Сергеем Васильевичем, там, в комнате, и Надя видела её лицо, словно чем-то взволнованное.
Надя домывала последнюю чашку, когда Люба вернулась на кухню. Она вошла, прикрыв за собой дверь, села за стол, на котором стояла посуда, и вдруг спросила:
– Мам, а ты любила его?
– Кого? – почти машинально отозвалась она, подумала при этом, что Люба Сергея Васильевича имеет в виду.
– Ну кого, вот этого курсанта или солдата, я уж не знаю… – И только теперь, оглянувшись, Надя увидела, что Люба держит в руке фотографию из того альбома. – Только честно, ты любила его? И не выдумывай ничего, не обманывай меня больше… Я должна это знать.
Голубая фарфоровая чашка выпала у Нади из рук и без звука раскололась и распалась на две половинки, будто грецкий орех, а она стояла и глядела на фотографию, с которой молодой курсант в пилотке, надвинутой на левую бровь, смущённо улыбался, глядя на неё.
Ещё она успела подумать, что надо бы спрятать эту чашку, чтобы Сергей не увидел её, увидит, расстроится, потому что он очень берёг этот трофейный сервиз, доставал его из серванта только по очень торжественным случаям, в праздники или для нужных гостей… Убрать, а потом склеить, и Любе сказать, чтобы молчала… Вся эта пустяковина мимолётно пронеслась у неё в голове, опередив на мгновенье мысль о том, что это вовсе и не чашка разбилась, а что-то хрустнуло и раскололось у неё в груди, что-то обжигающе горячее пролилось там, под сердцем, и, почувствовав это, она с болью и досадой взглянула на Любу, на её побледневшее, испуганное лицо, увидела, как, метнувшись из-за стола, та рванулась к ней, уже опускающейся тут же, перед столом, на пол, услышала её крик: «Мама, не надо! Прости! Я не хотела…» И топот ног, лицо Сергея, склонившегося над ней, и снова голос Любы, то ли к нему, то ли к другому кому-то обращённый: «Это всё вы, вы виноваты!.. А я-то слушала вас…»
Думала, целая вечность прошла, а оказалось, совсем немного: ещё и «скорая» не приехала, и Сергей Васильевич, снова вызывая её, кричал по телефону, и Люба с испуганным, несчастным лицом так и сидела перед ней на коленях, а она уже пришла в себя. И боль приутихла, будто что-то остыло там, и врач, появившийся наконец, осмотрел её и успокоил, сказав, что случай не самый страшный, больница тоже не обязательна, а вот покой… При этом он обвёл взглядом просторную гостиную, как бы засвидетельствовав, что для покоя больной места вполне достаточно, оставил на столе стопку рецептов, с которыми Сергей Васильевич тут же и устремился в аптеку.
Когда вернулся, Надя лежала на диване в комнате у Любы. И Люба сидела рядом. Они тихо разговаривали о чём-то, но тут же и замолчали, как только Сергей Васильевич вошёл к ним с лекарствами. Увидел её осунувшееся лицо с болезненной темнотой под глазами, уловил, как невольно замерла она, как взглянула на него с молчаливой просьбой не говорить, не спрашивать ни о чём, оставить её в покое. Молча потоптался перед ней, оставил лекарства на тумбочке и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.
А утром Люба вышла из комнаты, чтобы принести ей воды, но тут же вернулась и сообщила:
– Мам, а он уехал. – И протянула записку. – Вот, на столе лежала.
«Надя, – писал он, – прости, но так больше продолжаться не может. Жить в своём доме и ощущать постоянно присутствие другого, чужого для себя человека, всю жизнь отвоёвывать тебя у него, отвоёвывать то, что мне одному принадлежит по праву, – не слишком ли много для него! А теперь ещё этот альбом, невесть откуда появившийся в нашем доме, его фотографии… Я не хочу, чтобы тень так называемого Любиного отца, которого ты ей придумала, вставала между нами. Ты слишком много придумывала в своей жизни и для себя и для неё и мало думала о последствиях. Ты понимаешь, о чём я говорю? Думаю, и Люба поймёт меня, она уже взрослый человек. О чём вы договоритесь, не знаю, но хочу, чтобы вы поняли друг друга и обе поняли меня: вы мне нужны, но только без него. Не хочу, чтобы тот человек жил в моём доме.
Прости и выздоравливай.
Сергей».
Он так и написал про него – тот человек.
– Не смей, – тихим голосом, сквозь подступившие слёзы прошептала Надя, – не смей о нём так, слышишь!
15
…Сидели вдвоём в маленькой кухне, в той самой, где когда-то, давным-давно, ещё до войны, когда Любы и на свете-то не было, Надина мама, Вера Васильевна, в свободные, не очень хлопотные дни пекла по утрам вкусные и пышные оладьи, и из кухни в Надину комнату, прямо к ней в постель, добирался чудесный, ни с чем не сравнимый запах, и слышались осторожные мамины шаги, и так сладко, так уютно было просыпаться по утрам и заставать маму дома… Они сидели на кухне, Люба и Надежда Ивановна, пили чай, как бывало, и молодой, неожиданно стройный, ветвистый тополь заглядывал к ним в окно.
– Надо же, – сказала Люба, – как будто никуда и не уезжала. Так хорошо у тебя. Может, и мне вернуться? – Посмотрела на мать и вдруг спросила: – Скажи, а ты не жалеешь? Ну, что так вышло тогда… Что ты уехала от него?
Пожала плечами:
– Не знаю.
Она и в самом деле не знала, правильно ли тогда поступила? Ни она и никто другой не смог бы, наверное, объяснить это.
Тогда она ещё не помышляла ни о каком отъезде, хотя именно с того дня её так и не покидало странное, опасливое, с постоянной оглядкой, чувство, будто она от кого-то что-то скрывает, кого-то в чём-то хочет обмануть… Как с той разбитой чашкой… Будто только этим и занималась: приставляла одну к другой две никчёмные половинки, пыталась склеить их и не могла.
А потом приглашение это, на которое она откликнулась с такой радостью… Но и в тот день, когда они с Любой решили поехать в Лугинино на вечер встречи бывших воспитанников детского дома, она и не думала, не гадала, что всё так обернётся.
Правда, когда вышла из вагона, ступила на низенькую дощатую платформу, увидела знакомую будку стрелочника, услышала, как внезапно, заглушая гудок отъезжающего поезда, грянул в утренней тишине духовой оркестр – это ребята детдомовские пришли со своими трубами встречать гостей, – присела тут же на свой чемоданчик, сидела и шептала сквозь слёзы: «Зачем, ну зачем я уезжала отсюда!»
И весь тот день, потеряв над собой власть, жила как во сне – не сегодняшним, а далёким вчерашним днём, теми счастливыми и горькими воспоминаниями, теми радостями и печалями, которые соединились вдруг в один большой, может быть, самый счастливый в её жизни день.
Как ни старалась, но и на торжественной линейке она не смогла удержать слёз: стояла на невысокой, кумачом обтянутой трибуне, рядом с другими почётными гостями, и как сквозь туман вглядывалась в лица тех, кто собрался на главной аллее, перед трибуной узнавала и не узнавала их. И всё это время словно ждала чего-то какой-то особой, именно к этому дню, именно для неё уготованной радости, из-за которой, может, и приехала сюда.
И ведь не ошиблась в ожидании…
Произошло это вечером, во время концерта. Надежда Ивановна сидела в зале, в первом ряду, и очень волновалась: и за ребят, которые пели и плясали перед гостями и очень хотели им понравиться, и за Любу, вдруг совершенно неожиданно согласившуюся участвовать в этом концерте. Конечно, из-за волнения этого Надежда Ивановна и не уловила того, о чём, выйдя на сцену, сказала Люба. Поняла только, что свою песню она хочет спеть для одного человека, который опоздал на эту встречу, но теперь присутствует в зале. Примерно так она сказала и стала петь, а Надежда Ивановна ещё больше разволновалась: сидела сама не своя, мяла в руках мокрый от слёз платок и всё хотела оглянуться, посмотреть в притихший в ожидании зал.
Она хорошо знала эту давнюю, с военных лет песню, Люба часто пела её и дома и в концертах, выступая перед ранеными в госпиталях:
На позиции девушка
Провожала бойца.
Тёмной ночью простилися
На ступеньках крыльца…
Люба допела и, поклонившись, ушла со сцены, а в зале с минуту, может, больше стояла тишина – все словно ждали чего-то, какого-то продолжения. Может, хотели увидеть того человека, для которого Люба пела эту песню. Потом уж зааплодировали, даже на «бис» вызывать стали.
А потом, когда кончился концерт, Надежда Ивановна выбралась в коридор, стала Любу искать. Тут её и окликнули. Оглянулась, увидела высокого офицера с густой курчавой шевелюрой, он стоял рядом с Любой, и оба они улыбались, глядя на неё.
Уже не в силах ни плакать, ни удивляться, она тихо охнула и промолвила:
– Са-ня…
Поздно вечером, оставив всех за праздничным столом, она ушла от шума, от песен, от танцев. Вышла в парк. Шла по тёмной аллее и повторяла вдруг пришедшее из далёкого далека: «А будет тебе, дочка, дальняя дорога, а на дороге этой нечаянные радости…»
Так вот же она, эта дорога, думала Надежда Ивановна, это о ней тётя Поля говорила когда-то, суля и нечаянные радости, и разные хлопоты, и встречи в казённом доме… Хочешь – верь, хочешь – нет, а ведь всё было, было!.. Но кто же скажет, где её дом? Где свой, где казённый? Там, в Волжске, или здесь, в Лугинино, где ей было сегодня так хорошо, как никогда и нигде, наверное, не было и уже не будет?
Вот только сердце – с чего бы это! – вдруг заныло, затревожилось. Ему бы радоваться, а оно…
В ту осень она и вернулась в Лугинино. Насовсем…
Юрьев день
Повесть

Мы все оправдываем себя, а нам, напротив, для души нужно быть, чувствовать себя виноватым. Надо приучать себя к этому.
Лев Толстой
1
Пятнадцать лет назад Валерия Николаевна Парамонова, а для близких просто Лера, осталась вдовой. Её муж, Юрий Васильевич, журналист-международник, погиб в Конго, в автомобильной катастрофе.
Печальное известие о гибели мужа застало Валерию Николаевну в Поволжске, в её родном городе, куда годом раньше они втроём – Лера, Юра и трёхлетний Алёшка – вернулись из Парижа, где Юрий Васильевич работал собкором газеты «Известия». В Поволжске они собирались пожить месяц, от силы два, дождаться обещанной московской квартиры, а там, по всей вероятности, и нового для Юры назначения. Но, как известно, человек предполагает, а кто-то располагает… Словом, всё вышло не так, как планировалось, и уж тем более не так, как ей, Лере, хотелось.
А как хотелось? Пожалуй, она и сама тогда толком не знала. В тот год с ней вообще творилось что-то странное, необъяснимое. Расскажи кому, не поверят… После трёх лет, проведённых в Париже, она вдруг так затосковала по дому, по родному Поволжску, по своей малогабаритной двухкомнатной квартире, по участковой детской больнице, где её так любили и коллеги-врачи, и сёстры, и маленькие её пациенты, и эта тоска почти физически, до головной боли, до бессонницы, до смятения даже, стала одолевать и мучить её день ото дня.
Тоска мучила Леру, а Лера мучила Юру… Через полгода, в Поволжске, оставшись одна, она и сама дивилась: да с ней ли всё это было? И где? В Париже! И сам Париж, да был ли он в её жизни, была ли она там? Может, всё это приснилось ей? А эти фотографии в альбоме, которые они с Алёшкой разглядывают иногда по вечерам, – не отпечатки ли с тех снов? Ведь он ей и в самом деле тогда часто снился, всегда цветным, в ярких красках, как Монмартр в весеннюю пору, когда хозяева маленьких кафе и бистро выносят на улицы и ставят тут же, на тротуаре под деревьями, аккуратные столики и ажурные стулья, а над ними раскрывают разноцветные зонтики; когда в садах и скверах зацветает душистая сирень; когда парижские художники, сами по себе живописные, разодетые кто во что горазд, тут и там устраиваются со своими мольбертами, с этюдниками, выставляют рядком свои картины; когда из сероватой утренней дымки возникают контуры Эйфелевой башни, очертания приземистых мостов через Сену, какие-то памятники, тронутые зеленоватой патиной, с восседающими на конях французскими королями, о которых так много и так интересно рассказывал ей Юра, исходивший Париж вдоль и поперёк.
Знала, слышала, что существует такая болезнь – ностальгия, но полагала, что это не для неё, это для тех несчастных, обездоленных и бездомных эмигрантов, которых она видела бесприютно слоняющимися по парижским улицам, одиноко сидящими под мостом, на набережной, на острове Сите, а ей… В самом деле, ей ли, приехавшей с мужем в Париж, с трудом поверившей в это почти невероятное, как дивный сон, чудо, в такое везение, ей ли, вполне нормальной, здоровой женщине, думать об этом! Быть в Париже, ходить по этим улицам и бульварам, от одних названий которых дух захватывало, видеть своими глазами знаменитый Нотр Дам, сидеть, как заправская парижанка, в каком-нибудь уютном кафе с чашечкой кофе, скажем, на Елисейских полях или в Булонском лесу, где когда-то вот так же, может, за этим или за соседним столиком, сидел и пил кофе, любуясь вечерним Парижем… Да что говорить! Какая тут ностальгия!
Разве думала она тогда, что с ней случится такое, и многое, что на первых порах вызывало радостное удивление и чуть ли не детский восторг, что соблазняло, манило и искушало едва ли не на каждом шагу, к чему так усердно, ценой материальных и душевных усилий приобщалась она, желая походить на парижанку, думала ли, что всё это примелькается, потеряет свой соблазнительный блеск и ей станет тоскливо и одиноко на многолюдных и красивых улицах, в этих до неприличия роскошных магазинах, заваленных всяким тряпьём?
А её милые соседки, улыбчиво приветливые тётушки, с которыми она вовсю старалась быть изысканно любезной? И года не прошло, как из мадам Луизы и мадам Симоны они превратились в обыкновенных болтливых и не в меру любопытных тёток, готовых совать свои носы в чужие дела и так же охотно перемывать за глаза косточки друг дружке, как это делали её соседки по подъезду там, в Поволжске.
А мадам Кристина, их консьержка, миловидная и кокетливая не по годам старушка в неснимаемом фиолетовом парике!.. Три года, изо дня в день, видеть её подозрительно юную улыбку, старательно обнажающую два ряда фарфорово-свежих зубов, слышать фальшиво-восторженный возглас «Мой миль подруг!», которым она встречала её по утрам, – легко ли всё это!
Юрию Васильевичу было легче. Так, во всяком случае, думалось ей тогда. Впрочем, так и было, наверное: у него была работа. Там, в корреспондентском пункте, в ежедневной репортёрской суете, под перестук пишущих машинок и телетайпов, среди разговоров и новостей, за чашечкой кофе, в частых поездках по стране, сегодня в Марселе, потом в Гавре, потом в Дижоне или Тулузе, всегда на людях, при любимой работе – там была его жизнь. Жизнь без неё, без Алёшки. Туда он уходил по утрам, каждый день ровно в восемь, чтобы успеть пройтись пешком, «пообщаться» со своим Парижем. Всегда элегантный, спортивно подтянутый, в сером костюме, в свежей, непременно светлой, белой или голубой, сорочке, с аккуратно подстриженной светлой бородкой, которую он начал носить ещё в Москве, незадолго до отъезда в Париж. Он уходил, а она оставалась с Алёшкой, и в их распоряжении был… вы думаете, весь Париж? Ничуть не бывало!
По Парижу они гуляли только втроём и только по выходным дням, когда Юра был свободен, а в его отсутствие география огромного города с его парками, кинотеатрами, музеями и магазинами, как и маршруты их прогулок, сокращалась до пределов небольшого дворика, мощённого полированно-серыми каменными плитами, с четырьмя пальмами, сиротливо растущими в кадках, возле которых она ставила по утрам Алёшкину коляску, шикарную, как королевская карета. Оставались ещё ближайшие улицы и сквер с аптекой и магазином на углу, куда они раз в день отправлялись, бывало, как на подвиг: она пешком, а Алёшка в коляске.
И вот, нежданная и непрошеная, приходила к ней эта сиротская тоска. Нудная и серая, как зимний парижский вечер, как их ухоженный, без единой травиночки дворик с шуршащими на ветру пальмами, с фиолетовым париком консьержки, с утра до вечера маячившей в квадратном, как телеэкран, окне на первом этаже; тоска эта начинала мучить её, и никакие воскресные прогулки по полупустому городу, ничто уже не спасало от изо дня в день растущей тревоги за Алёшку, за Юру, за себя.
Чего боялась, о чём тревожилась, сама не знала, но даже с этих совместных прогулок она почему-то спешила вернуться домой. Но и там чувствовала себя неспокойно: то и дело вздрагивала от телефонных звонков, от шума поднимающегося лифта. Плохо спала по ночам.
Однажды, после такой вот тревожной ночи, она призналась ему, что устала и от этих пелёнок-распашонок, и вообще от всего, от этой парижской жизни в четырёх стенах, что хочет домой, что надоело изо дня в день сидеть и ждать…
– Надоело? В Париже?
Он глядел на неё недоуменно:
– Ну и шуточки у тебя, мадам!
Но ей не до шуток было.
– Во-первых, не мадам, – сказала она, – а во-вторых…
– Ну, пошло-поехало, – опечалился он. – Занялась бы лучше французским, хотя бы в пределах элементарного разговорника. Из уважения к нации, к этим людям, к стране, в которой живём…
Это уж было слишком! Не удержалась, съязвила:
– Может, и парик фиолетовый прикажешь купить, в консьержки устроиться. До вашей телетайпистки мне, конечно, не дотянуть, коленками не вышла, а в консьержки…
Телетайпистку, длинноногую парижанку лет восемнадцати, с причёской, как у певицы Мирей Матье, о которой тогда говорил весь Париж как о новой звезде французской эстрады, Лера увидела однажды в корреспондентском пункте во время встречи Нового года. Красивая девчонка, с чёлочкой под самые брови, в мини-юбочке, усыпанной блёстками, этакая а ля Снегурочка, с весёлой непринуждённостью исполняла обязанности хозяйки праздничного вечера. Но особенно усердно, как заметил кто-то из Юриных коллег, она «строила глазки» своими очаровательными коленками всем братьям-журналистам, аккредитованным в Париже. И Лера была уверена, что не менее старательно она занималась этим и в другие, будние дни.
И вот припомнила…
– При чём тут коленки? – Юра недоуменно пожал плечами. – На нет, как говорится, и суда нет.
Впервые за два с половиной года парижской жизни они поссорились тогда всерьёз. В то утро он ушёл из дома, совсем не по-французски хлопнув дверью, а впрочем, может, именно так и уходят от своих жён рассерженные французы – откуда ей знать?.. Как бы то ни было, но именно этот поступок Юрия Васильевича был замечен и по достоинству оценен мадам Кристиной, этой всевидящей мымрой, оказавшейся в данный момент на своём посту. Кажется, после этого она ещё больше зауважала своего постояльца, всегда такого уравновешенного, спокойного. Зато к Лере после этой истории она стала относиться с каким-то особым, молчаливо-скорбным сочувствием. Увы, дорогая, словно говорила она ей, такова наша доля, и я всё прекрасно понимаю и даже сочувствую вам, но… Вы на себя-то взгляните!
При этом она окидывала её долгим, всё видящим и всё оценивающим взглядом с головы до ног и, кажется, уже не ей, а ему, Юрию Васильевичу, начинала откровенно сочувствовать. В такие минуты Лера с трудом удерживала себя от искушения схватить пыльный коврик с порога и вдарить им по фиолетово-серебристому парику мадам Кристины.
Без слов, без новых объяснений, которые, наверное, потянули бы за собой и старые обиды, и новые претензии, они постарались «забыть» эту ссору. Ну конечно, рассуждала она, пытаясь оправдать и себя и его, всё это от нервов, от того, что оба они порядком устали… Устали жить в чужой стране, среди чужих людей, жить не так, как тебе хочется, и даже не так, как может позволить себе любой другой иностранец не у себя дома, скажем, американец или итальянец. Эти, похоже, нигде не чувствуют себя в гостях, а здесь, в Париже, – тем более.
Что-то забылось, но что-то осталось, и потому на предложение продлить ещё на год срок пребывания во Франции Юрий Васильевич, даже не посоветовавшись с ней, ответил отказом. Попросил, чтобы его отозвали в Москву, сказал, что устал, что хочет отдохнуть немного, хотя бы с полгода поработать дома, в аппарате редакции.
Ему пошли навстречу. И в начале июня они возвращались домой. Юрий Васильевич мечтал о рыбалке, говорил: вот приедет, побросает чемоданы, позвонит друзьям, Глебу и Пашке, и махнёт с ними на денёк-другой, есть, мол, у них одно заветное местечко на Волге, островок один небольшой, просто рай земной. Вот туда ему и хотелось махнуть, попробовать новую удочку. Удочку эту, телескопическую, он перед самым отъездом в Париже купил, хотел Пашке её подарить, главному рыбаку в их компании.
Он и Алёшку собирался взять с собой, и все четыре часа, пока летели в самолёте, он будто нарочно, чтобы позлить её, расписывал сыну прелести рыбацкой жизни с ухой, сваренной в котелке, с ночёвкой у костра на этом таинственном острове. Стыдно, говорил он ей, парню скоро три года, а он, кроме Парижа и Сены, ничего на свете не видел, даже Волги, с которой никакая Сена конечно же не сравнится, но ничего, мол, они это дело исправят, наверстают упущенное.
Лера сердилась, пыталась урезонить его: совсем, мол, голову задурил мальчишке! Как будто других забот у них нет, кроме этой рыбалки! С московской квартирой вопрос ещё не решён, пока одни обещания, а он опять со своим островом да с рыбалкой. Как мальчишка, ей богу!
Прилетели. Юрий Васильевич в Москве в редакции задержался, а Лера с Алёшкой уехали в Поволжск. Ждала его со дня на день, ни друзьям, ни знакомым не звонила, думала, вот приедет он из Москвы, сам и сообщит… А ещё лучше, если достанет из кармана заветный ключик от московской квартиры, ради которой он, собственно, и решил задержаться в Москве; вот тогда, думала она, можно и знакомых оповестить, позвать кой-кого из них в гости, заодно и приезд отметить.
Он приехал через два дня и огорошил прямо с порога, сказав, что квартира в Москве отменяется, рыбалка на Волге тоже.
– Крокодилов еду ловить, – пошутил он, – африканских.
Она так и села в прихожей, под вешалкой. Пролепетала потерянно: когда, мол?
– Неделя на сборы. – И пояснил виновато: – Обстоятельства так сложились, что… Словом, я еду один. Обстановка в Конго не очень располагает…
– А обстановка в семье, – вдруг вырвалось у неё, – это тебя не тревожит?
Признаться, ей не хотелось ловить крокодилов, ей вообще никуда не хотелось ни ехать, ни лететь, а тем более в Африку: она даже представить себе не могла, физически не представляла, как это можно – снова с чемоданами, с Алёшкой, и куда? Это после Парижа-то! С самолёта на самолёт, не отдохнув, не повидав ни родных, ни знакомых, даже с матерью больной не пообщавшись… Всё это она и собиралась сказать ему, пока он не преподнёс ей главное – что едет один. Ей бы вздохнуть с облегчением, пожалеть его, посочувствовать, а она…
– Пойми, – он как вошёл, так и стоял в дверях, и два чемодана стояли рядом: то ли приехал, то ли уезжать собрался, – я не мог отказаться, понимаешь, не мог. А потом… может, так будет лучше?
– Кому? – она даже голоса своего не услышала.
– Свободолюбивому африканскому народу, – он усмехнулся невесело и устало.
Через неделю, проводив мужа в Шереметьевском аэропорту, она вернулась домой и в тот же день позвонила Антонине Ивановне, главврачу, попросилась на работу, в родную больницу. Алёшку в садик определила, мать уже с ним не справлялась. Слабела мать, старилась.
Тут звонки начались. Ребята из местной газеты, давние Юрины друзья, узнали об их возвращении, стали названивать один за другим, Юру требовать. И надо было всем объяснять: так, мол, и так, был Юра да весь вышел, улетел. Как улетел, почему, быть такого не может! Не повидавшись, не позвонив! А ещё друг называется. Зазнался мужик окончательно, променял, видать, старых друзей на французскую похлёбку, то бишь на луковый суп, подпал под влияние жёлтой прессы, брезговать начал провинциальными газетчиками, забыл, откуда в люди вышел…
Она терпеливо выслушивала полушутливые их обиды, старалась, как могла, поддерживать этот весёлый трёп, вроде как и сама разделяла их справедливые упрёки, хотя и в этой обиде, похоже, ревновала их к нему. Как будто она одна только и имела на это право – сердиться и обижаться на него.
Пожалуй, именно к этой поре воспоминания Валерии Николаевны стали делиться как бы на два периода: допарижский и собственно парижский. Из тех, допарижских, воспоминаний, которые по возвращении из Франции как-то померкли, расплылись, словно бы затуманились, уступив место другим, не столь давним и конечно же более ярким, значительным, из тех далёких дней ей отчётливее других вспоминались вот эти, последние перед отъездом из Поволжска.
Сколько волнений было, сколько хлопот, разговоров сколько! А как боялась она уезжать! Да и было чего бояться: ехала-то, считай, не одна – с будущим Алёшкой, которого ещё не было, но которого она ждала. До него, по её подсчётам, месяца четыре оставалось, и были, конечно, сомнения: ехать, не ехать, а если ехать, то как быть потом? Рожать в Париже? Но Юра тогда успокоил, сказал, что консультировался со своим руководством, что всё согласовано, всё решено: они едут вместе, а рожать она вернётся домой, время ещё есть. И она согласилась, потому что ей очень хотелось в Париж.
Но Алёшка родился в Париже. И даже в паспорте, полученном год назад, этот факт засвидетельствован. И ничего, нормальный родился ребёнок.
И ещё вспомнилось, из той, допарижской поры… Как провожали их в Поволжске. Тогда на прощальном вечере, устроенном в маленьком ресторанчике «Берёзовая роща», их собралось человек шесть, не больше, самых близких Юриных друзей, ребята из молодёжной газеты, с которыми Юра прежде работал. Годом раньше его пригласили в Москву, для беседы, в одну из центральных газет – сокурсники по университету, журналисты-международники, вспомнили, отыскали, кто-то из них побывал тогда в Поволжске, убедил Юру, что грех ему с его прекрасным французским просиживать штаны в провинциальной «молодёжке». И вот уговорили, вытащили в Москву, представили руководству редакции, и судьба Юры была решена: через год, пройдя стажировку в международном отделе, он уезжал в Париж в качестве собственного корреспондента по Франции.
И вот они провожали его. Радовались за Юру, ну и завидовали, конечно. Не без того. Но все они были молоды, и Глеб, и Серёга, и Пашка, и каждый, наверное, верил, что не сегодня-завтра пробьёт и его час, и он тоже скажет своё слово, заявит о себе. Но кто-то же должен быть первым? Так пусть этим первым будет он, их старший товарищ, прекрасный журналист Юрий Парамонов, это честно и справедливо, и не о чем тут спорить.
Было шумно и весело за столом, и кто-то снова и снова запевал эту песенку о газетчиках-репортёрах: «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете…» Потом, уже за полночь, пропахшие табачным дымом, оглохшие от грохота небольшого, но не в меру старательного оркестра, выбравшись наконец на волю, они гурьбой, в обнимку ещё долго ходили по берегу Волги, горланили эту песню и снова говорили, говорили, перебивая друг друга, клялись в бескорыстной и верной мужской дружбе, и кто-то из них, то ли Глеб, то ли Пашка, всё втолковывал Юре:
– Старик, если что, ты зови нас в Париж, мы к тебе мигом!
В тот вечер, поддавшись общему настроению, она тоже любила их всех, этих весёлых и славных ребят, так искренне преданных её мужу и так трогательно внимательных к ней. Она понимала, как важны и дороги ему эти минуты расставания с друзьями, и потому, уставшая до смерти, вся в своих завтрашних заботах – подумать только, через три дня они будут в Париже! – не торопила его домой, не дёргала за рукав, как бывало в компаниях, когда приходилось допоздна засиживаться у кого-нибудь в гостях.
А потом был Париж, где у неё родился Алёшка, но это уже другой разговор, другие воспоминания, а от них, как ни старайся, как ни обманывай себя, рукой подать до той нелепой ссоры, с которой, как ей казалось, всё и началось: и эта Африка, и то, что случилось потом…
А случилось это зимой, в январе, когда в Поволжске трещали крещенские морозы. А в Африке, там, где находился Юрий Васильевич, шли проливные дожди. Об этом он и сообщил ей тогда в красивой, с африканским пейзажем открыточке. Открытка эта, переправленная ей Юриными друзьями-журналистами, побывавшими у него накануне и вернувшимися в Москву, не то чтобы обрадовала, а, наоборот, обескуражила, озадачила её.
В самом деле, полгода молчал и вот… пролился тропическим ливнем. Как будто писать больше не о чем. Хорошо ещё, об Алёшке вспомнил, не забыл, что сын у него растёт.
Прежние обиды нахлынули снова. Глупые, мелкие… И в тот страшный день, получив открытку, она вертела её в руках, глядела на ярко-зелёные, неестественно живописные пальмы, на шикарный, этажей в двадцать, отель, белеющий огромным теплоходом на фоне лазурного моря, и от досады, как ребёнок, которому вместо шоколадной конфеты подсунули красивую, но пустую обёртку, откапывала и откапывала в памяти старые обиды. И к телефону, вдруг зазвонившему в коридоре, она подошла с этой открыткой в руке. По звонку, резкому и частому, поняла: междугородний. Забыв про обиды, встрепенулась в невероятной надежде: а вдруг это он, оттуда!.. А может, и не оттуда, а уже из Москвы? Прилетел и звонит…
Звонили действительно из Москвы, из Юриной редакции. Кое-кого из сотрудников международного отдела она знала, даже по голосу узнавала, но этот голос, глухо и как-то уж очень неуверенно прозвучавший в трубке, показался ей незнакомым.
– Мы получили телеграмму, – сообщил он, – вы слышите, пришла телеграмма, оттуда, вчера вечером… Мы не стали вас сразу тревожить, поскольку… – И опять переспросил: – Вы слышите, слышите меня?
– Да слышу я, говорите, – не выдержала она, – что с Юрой?
– Понимаете, очень плохая связь, – начал оправдываться голос в трубке, – и телетайп молчит как назло. Словом, всё это не окончательно, но вы должны себя взять в руки…
Голос умолк, будто давал ей время для того, чтобы она взяла себя в руки. А у неё ноги подкосились. Опустилась в кресло, прошептала:







