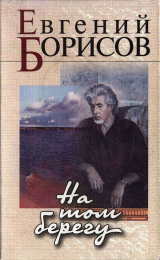
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Annotation
В одной из африканских стран при невыясненных обстоятельствах погибает журналист-международник Юрий Парамонов – герой повести Евгения Борисова «Юрьев день». Проходят годы… В волжском городе, где начиналась журналистская карьера Юрия Васильевича, живут его бывшие друзья, ныне преуспевающие и, казалось бы, вполне благополучные люди. Однако неожиданный телефонный звонок из «прошлого» поселяет в их душах беспокойство и тревогу…
О судьбах этих и других героев, о том, «Что было, что будет» с ними, вы узнаете со страниц новой книги писателя Евгения Борисова «На том берегу».
Евгений Борисов
Рассказы
ПЕРВАЯ ГРОЗА
ПЕЛАГЕИНЫ СНЫ
«ЖИЛА-БЫЛА СОБАКА…»
ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
…И КАЖДАЯ МИНУТА
ВИШНЁВЫЙ САД
САМЫЕ ТЁПЛЫЕ ЗВЁЗДЫ
НА ТОМ БЕРЕГУ
МЕСТЬ
РАННЯЯ ОТТЕПЕЛЬ
КРИК
Что было, что будет…
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Юрьев день

Евгений Борисов
НА ТОМ БЕРЕГУ
Рассказы. Полуправдивый роман. Повесть
Наине Хониной, жене и другу, посвящаю
Рассказы

ПЕРВАЯ ГРОЗА
Им всё удавалось в то лето. Всё ладилось, всё исполнялось. Словом, чертовски везло. И каждый день, казалось, был у них сплошным везением, и так легко верилось, что этому не будет конца.
Утром, едва проснувшись, он видел её лицо, совсем рядом, на подушке. Видел её глаза, уже открытые, полные радостного удивления. Сколько раз, засыпая, он загадывал себе опередить её пробуждение – проснуться поутру, застать её спящей и поглядеть, какая она во сне. Но, странное дело, когда б ни проснулся, всё было поздно: она уже глядела на него вот так – широко распахнутыми глазами.
– Здравствуй, соня! – говорила она.
– A-а, это ты? – притворно дивился он, будто и не предполагал увидеть её.
– Как видишь, опять я. И вчера, и сегодня, и завтра, всю жизнь. Что, испугался?
– Нет, я смелый, нас не запугаешь.
– Ах, так!..
Потом они долго лежали молча, глядя друг другу в глаза, и в молчаливом признании другого каждый улавливал собственные мысли. «Конечно, – думала она, – это и есть счастье!» – «Надо же, – мысленно вторил он ей, – как немного надо, чтобы быть счастливым. Нужно любить и быть любимым. А впрочем, это, наверное, очень много».
Это было их первое лето. И всё, что было у них, тоже было впервые. Шумные черноморские пляжи, случайные компании таких же, как и они, «дикарей», хождения вечерами по курортным ресторанам, где оглушающе, как десятибалльный шторм, грохочет музыка, и непременные танцы на турбазе – нет, это не для них! Это было и ещё не раз, наверное, будет, но потом когда-нибудь. Теперь же у них должно быть всё по-другому: они вдвоём и больше никого…
Ещё весной, вскоре после свадьбы, они решили: возьмут в июле отпуск, соберут рюкзак, один на двоих, отыщут маленькую точечку на карте – деревушку на берегу речки или озера – и махнут туда на все свои двадцать четыре.
Им сразу же повезло. Как будто сама судьба распорядилась так – взяла и привела их за руки к этой деревушке. Не к деревушке даже, а к райскому хуторку. И название-то, название какое – Малиновка! В тот день, остановившись у крыльца крайнего дома, сбросив рюкзак, почему-то нисколько не сомневаясь в том, что именно здесь, в этом доме, сразу приглянувшемся им обоим, они будут привечены, Андрей сказал Лене:
– Представляешь, Малиновка! И у нас малиновый месяц…
Наверное, столько радости было в их глазах, столько доброго согласия угадывалось в каждом их взгляде, что вышедшая на их стук хозяйка, женщина неопределённых лет, скорее просто усталая, нежели постаревшая, вдруг улыбнулась и, едва выслушав их просьбу, тут же согласно, даже с какой-то весёлой поспешностью закивала головой и позвала их в дом, извиняясь на ходу, что вот, мол, не успела ещё прибраться, возилась по хозяйству, да и отвыкла, признаться, от гостей, а самим всё как-то привычно стало, вроде и ни к чему, хорошо ли, плохо ли в доме. И тем ещё больше удивила их, потому что на свежий взгляд в доме у неё не обнаружилось какого-то особого беспорядка – и чистый пол, и ровно застланные от порога половики, и скатерть светлая на столе…
Не дожидаясь их объяснений – зачем и надолго ли пожаловали, – хозяйка заговорила сама и говорила так, будто не она собралась сделать им добрую услугу, принимая в свой дом, а они своим скорым выбором должны были порадовать её.
– И полно, что ж вы всё у порога, – заметив минутную растерянность гостей, захлопотала она. – Входите, входите, осматривайтесь. Вот, пожалте, так мы, стало быть, и живём. Конечно, не городские хоромы, но всё будто бы есть, так что не беспокойтесь, вам хорошо здесь будет.
Она шагнула к перегородке, отделявшей от комнаты угол, отвела рукой цветастый полог занавески. За перегородкой, за занавеской этой, стояла кровать, высоко взбитые, в узорчатых наволочках, белели на ней подушки.
– Вот… И отдохнуть есть где… Так что располагайтесь…
Уловив на их лицах смущение, она и сама вдруг полыхнула лицом, поспешно задёрнула занавеску, поспешила объяснить:
– А мы-то сами в другой половине живём, в летней, – она показала рукой на дверь, ведущую в сени. – Так что…
И опять почему-то всем стало неловко. И по этой одинаковой неловкости, по тому, что так безошибочно тонко хозяйка угадала причину их смущения и сама вдруг смутилась, Андрей догадался, что она не так и стара, как показалось сначала.
– Ну что ж, – сказала хозяйка, когда, оставив рюкзак и сумку в доме, они вышли следом за ней на крыльцо, – будем теперь знакомиться. – И она протянула руку сначала ей, потом ему, обоим назвавшись при этом: – Анна.
И снова почему-то засмущалась, как девчонка, и заторопилась спрятать под передник свои по-крестьянски наработавшиеся руки. Но теперь всем было проще друг с другом, всё будто встало на свои места, а главное, вот эти минуты, их знакомство – уже позади.
С высокого крыльца Лена и Андрей снова увидели то, что несколько минут назад, когда ещё только подходили к хутору, они успели заприметить. Отступая метров на сто от дворов, прямо за огородами, за дико разросшимися кустами черёмухи, посверкивало озеро. В дрожащем сизом мареве, в струящейся теплыни июльского дня, за зеленеющими облачками словно наплывающих по озеру островов виделись дальние берега, окаймлённые синим лесом.
– Да что вы, – приговаривала Анна, – где и жить-то, как не у нас. Жить бы да радоваться! А всё не живут, всех куда-то манит. От такой-то воли!
«В самом деле, – думал Андрей, любуясь этой красотой, – странно получается – из деревни людей в город тянет, а городских наоборот…»
Но, сокрушаясь, печалясь вместе с Анной, он чувствовал, что не приживается, не берёт его эта незнакомая печаль, она как бы проходит мимо: разумом он готов понять, осмыслить её, а сердцем… Отчего же в самом деле не подумать об этом, не пожалеть тех торопливых, неосмотрительных чудаков, кого неведомые силы увлекают с таких расчудесных мест! Но только не теперь, потом когда-нибудь…
А тут и Лена спрыгнула с крыльца и, зазывая Андрея взглядом, легконогая и весёлая, помчалась от дома, по луговине, к озеру. Бежала, оглядывалась, увлекая Андрея за собой, и он не удержался на крыльце, улыбнулся Анне – вот, мол, мы какие, не судите строго – и, лихо махнув через ступеньки, помчался за Леной вдогонку.
Так начиналось их лето. Проснувшись утром, они уже знали, что сегодня будет то же, что и вчера, – и солнце, и озеро, и поездки на лодке к островам, и блуждание по лесу меж дурманящих трав, и молоко парное, которое добрая Анна приносит в холодной кринке и оставляет им в горнице на столе…
Но им не были скучны эти повторения, в каждом дне они умели находить то новое, что было дорого им обоим. И уже тем был радостен им каждый день, что они прожили его вместе, рядом, словно в одно дыхание.
Они редко обманывались в том, что задумывали. Вечером он говорил ей: «Если завтра будет солнце, обязательно сплаваем к дальним островам». А утром было солнце, и они плыли к дальним островам. «Я Робинзон, – говорил он ей, дурачась и валяясь в песке, – а ты моя Пятница». – «Не хочу быть Пятницей, – капризничала она, – хочу быть Воскресеньем для тебя».
И он соглашался с ней. Ему тоже хотелось, чтобы каждый день у них был праздник.
Только однажды они поссорились. Глупо, из-за пустяка. И потом Лена жалела об этом вслух, при Андрее, ругала себя: «Дура я, дура! Ну как я могла! Ну откуда, откуда она, эта дурацкая ревность? Нет, я слишком люблю тебя, так нельзя, наверное».
Это случилось на пятый или шестой день. Было утро. Они прибежали к озеру, уверенные, что снова, как и вчера, будут одни на берегу. Они полюбили эти тихие утренние часы, когда солнце только-только выкатывалось из-за дальнего леса, а вода в озере ещё хранила столько свежести, что, казалось, окунись раз и на весь жаркий день тебе хватит бодрости.
А ещё им нравилось целоваться в воде… Впрочем, не только в воде, но в воде почему-то особенно. Они ничем не выдавали друг перед другом своих желаний, но уже знали наверняка, как желанно им обоим одно ожидание этих коротких, тревожно-сладких до головокружения минут, – и эта знобкая свежесть, и дальнее, ещё не жаркое солнце, и поцелуй их, светлый и радостный, как само пробуждение, как новый наступающий день.
В то утро, опередив их и, верно, не думая о том, что станет помехой, к озеру с двумя вёдрами стираного белья пришла их хозяйка Анна. Пришла, видно, задолго, и дело у неё шло к концу: две белоснежные горки уже выполосканного белья возвышались на мокрых мостках. Сама же она стояла по колено в воде, высоко подобрав юбку и открыв выше колен по-девичьи стройные, не тронутые загаром ноги. На ней была розовая выцветшая майка, тесно облегающая крепкое тело, белый платок едва удерживал тяжёлую, уложенную на затылке косу. Убережённые от солнца, белели красивые плечи, а руки, неровно загорелые, коричневели к кистям. Быстро оглянувшись, бросив взгляд из-под локтя, она увидела их и распрямилась, поспешно одёрнула юбку, отчего края её коснулись воды, шагнула к берегу с мокрой, жгутом закрученной простынёй в руках, шлёпнула её на мостки. Сказала приветливо:
– Утро доброе! Ай не спится молодым? Да и грешно в такую-то пору. А я вот затеяла… Теперь уж всё…
Минутой раньше, приметив её на берегу, Андрей подумать даже не смел, что это их хозяйка: девушка, может, чуть постарше Лены, полоскала бельё. В такой, вдруг неожиданно открывшейся в зрелой, по-крестьянски неяркой и словно оберегаемой от чужих глаз красоте, предстала она теперь перед своими постояльцами.
Неясная тревога, до поры дремавшая и теперь вдруг проснувшаяся, досадная, как рябь на гладкой озёрной воде, коснулась Елены. Она не знала, откуда эта тревога, не знала, чего нужно бояться, но чувствовала сердцем: покуда они здесь, в этом доме, с этой женщиной, тревога будет жить в ней, не давать покоя.
– Бог в помощь! – тем временем крикнул Андрей, прилаживаясь зачем-то под деревенский говорок. – Холодная, чай, водичка?
Держа Лену за руку, он с непонятным раздражением почувствовал, что она хочет высвободить свою ладонь. И, не желая противиться ей, он тут же отпустил её руку. И в следующий миг, вовсе не думая ни о чём, кроме того, о чём всякий мужчина на его месте догадался бы, подбежал к Анне, уже поднимающей на плечо коромысло с тяжёлыми вёдрами, подхватил его.
– Да полноте, оставьте, – попыталась остановить она его, – мы к этим тяжестям привычные. – При этом она поглядывала на Лену, как бы повиниться перед ней хотела, что вот, мол, видит бог, не желала она ничего такого, так уж вышло. – Да оставьте вы, ей-богу, я сама…
Но он настоял на своём. Неловко вскинув на плечи коромысло, он уже поднимался в гору.
И скоро вернулся к озеру. И опять они были с Леной вдвоём. И так же лениво, будто спросонья, вставало над водой солнце, и так же знобко, до самых косточек, пробирала озёрная вода… Но, едва окунувшись, даже не отплыв от берега, Лена вдруг вышла торопливо из воды, взяла полотенце и стала вытираться.
Сбитый с толку её поспешностью, сконфуженный, он тоже вылез на берег. И к дому возвращались молча, так же молча сидели за столом и почему-то не глядели друг на друга. И Лена не притронулась к кринке с парным молоком, которое дожидалось их…
Днём у прясел остановилась грузовая машина. Из кабины вылез шофёр, молодой мужчина со смуглым красивым лицом, в замасленной ковбойке, пыльных сапогах. Привычной хозяйской поступью взошёл он на крыльцо и в дверях столкнулся с Анной.
– Ой, надо же! – будто испугавшись, вскрикнула она. – Караулила, караулила, да и проглядела…
– Спишь всё небось, – сказал он с ленивой улыбкой, мельком глянув Анне в лицо. – Ну, здорово!
И шагнул через порог.
– Паш, а Паш, – слышалось потом из сеней, – а у нас гости. Городские двое, он и она. Я их в зимнюю пустила, пускай поживут, а? И мне всё ж не так тоскливо, а то всё одна да одна.
– Ну раз тоскливо, пускай живут, жалко, что ли. А мне наутро опять ехать.
Весь день было тихо в доме. Неслышно порхала по двору Анна – снимала с верёвок высохшее бельё, таскала воду из колодца и ловко хлестала из ведра по колёсам грязной Пашиной машины. Мыла её. А хозяин, похоже, спал.
Вышел под вечер. Сонный, медлительный, в белой майке, постоял на крыльце, увидел постояльцев, сидевших на лавочке, сошёл к ним. Анна выбежала следом – глаженую рубашку ему подала.
– Приоденься на-ка да покажись людям.
Тут же у крыльца он надел рубаху, заправил её вместе с майкой в брюки, откашлявшись в кулак, подошёл к постояльцам, поздоровался, крепко пожав руку Андрею и легонько – Лене.
Анна, улыбаясь, стояла на крыльце, наблюдала за ними.
Поговорили о том, о сём. Павел всё сокрушался, что нет нынче у него свободного времени, а то порыбачили бы с Андреем да устроили бы настоящую уху, какая им в городе и не снилась. Ругал беспокойную свою работу в Сельхозтехнике: гоняет, мол, по неделям вдоль и поперёк района, а то и дальше приходится. Конечно, при такой работе не на хуторе бы жить, а поближе к райцентру, так, наверное, и придётся со временем, к тому всё идёт, но вот и с хутора съезжать вроде жалко. А насчёт ухи он бы с великой радостью, могли бы с бредешком под бережком пошастать, да с удочкой посидеть бы неплохо, такую бы уху им сварил, а то небось Анна голодом своих гостей заморила, на одном твороге небось да молоке, а им, городским, чего-нибудь посущественней требуется.
Это «посущественней» Андрей понял как определённый намёк и с готовностью вызвался сбегать до магазина в соседнюю деревню. Но Павел рассмеялся, по-свойски хлопнул Андрея по плечу своей лапищей, как бы поощрив его за сообразительность, но тут же и удержал:
– Не, я не насчёт этого, я вообще про пищу говорю. В городе-то небось поскладней да поразнообразней кормят. Кафе, рестораны… А у нас что… Щи да картошка. Ну, молоко…
– Чтой-то ты за всех-то говоришь, – это Анна вступила в разговор с крыльца. – Ты б за себя… Надо ещё поглядеть, стоит ли кормить-то тебя, ежели в неделю раз только наезжаешь. Как на постоялый двор. Недолго, и сам от нашей пищи нос воротить станешь.
Она говорила это с шутливой строгостью, как бы для всех.
– Я и толкую, – отшучивался Павел, – корми крепче да слаще, может, почаще ездить буду. А насчёт этого, – он поглядел на Андрея и тюкнул себе пальцем под воротник, – насчёт этого я не любитель. Душа не принимает. К тому же и работа у меня – всегда на колесе.
– Да и я не очень, – сознался Андрей, – так, в праздник да за компанию.
– Разве что, – соглашался Павел, – а так, чтобы как некоторые, я нет, мне от этого дела всегда почему-то волком выть охота. Другие выпьют, весёлые делаются, а у меня, наоборот, – тоска…
Он что-то ещё хотел сказать, но Анна опередила его:
– Вот уж и волком… Шёл бы искупался, да покормлю, что ли, не то чего доброго и впрямь взвоешь.
Пустяшный и недолгий был у них разговор, но он вдруг обернулся для Лены и Андрея сигналом к желанному их примирению, к привычному согласию, которое невесть отчего нарушилось в этот день. Так просто, так покойно почувствовали они себя рядом с этими добрыми и конечно же любящими друг друга людьми, и захотелось удержаться в этом покое, в этой расковывающей душу простоте.
В тот вечер она и выругала себя, пообещав, что не повторится больше такое, что это скверно и оскорбительно для их любви – так вот, ни с чего ревновать.
«А у них, – думала она потом про Павла и Анну, – у них всё так мило, естественно… Ну и что, что он ни разу не поцеловал её, может, не хочет делать это при людях, но ведь и без того видно, что он любит. И она, конечно, тоже. Вон как смотрела с крыльца. Конечно, скучает без него…»
И думала о своей любви, сравнивала её с неизвестной, чужой, чему-то тайно и непонятно завидовала, но тут же говорила себе, что каждый, верно, любит по-своему, а значит, и любовь у всех разная. И спрашивала себя: «Ну, а какая она у нас? Так ли люблю я Андрея, как он меня?»
«Вот уже и ревность, – думал тем временем Андрей. – Первая семейная сцена. Смешно. С чего бы это? Разве я дал ей повод? Теперь и не взгляни ни на кого? А что же дальше-то будет? – Досада томила его, но было и радостно отчего-то – вот и его уже ревнуют, – и он с нежностью думал о жене и ещё больше любил её. – Как смешно всё это и как чудесно, и Ленка – какая она чудная, когда сердится, совсем ребёнок. А Павел, между прочим, ведь тоже глядел на неё, глядел, я же видел. И ей, конечно, было не всё равно, как он глядит… Ох, женщины, женщины!»
Наутро Павел уехал. Сквозь сон Андрей услышал, как гулко стукнула под окном дверца. Машина заурчала и покатила, погромыхивая порожним кузовом.
Днём Анна сказала:
– Павел кланялся вам. Вы ему приглянулись. Обещал, когда надо будет, до станции подбросить, чтобы не пешком. Восемь километров всё же, путь немалый.
На работу в бригаду Анна уходила спозаранку, не замкнув двери и не наказывая молодым стеречь двор. Пропадала до обеда, а то и до вечера, и, воротившись с озера, Андрей и Лена, бывало, подолгу хозяйничали сами. В огороде, куда после настойчивых уговоров Анны забирались они пощипать с кустов первых спелых ягод, тоже был полный порядок. Росло тут немного всего – лук да морковь, картошка и капуста, а по краям, вдоль забора, кусты смородиновые, но такая аккуратность и ухоженность виделись во всём, так радостно было, откинув у калитки проволочное кольцо, войти, а потом по узеньким земляным тропкам, меж чисто прополотых грядок, пробраться к кустам смородины и, присев на корточки, укрыться с головой в душистой, брызжущей росой, шероховатой смородиновой зелени. Рвать ягоды и целоваться…
– Андрюш, а, Андрюш, – спросила как-то Лена, когда они, увлёкшись ягодами, молча шастали по кустам, – а ты бы смог вот так?
– Как? – не понял Андрей.
– Ну вот так, как они, Павел и Анна. Она здесь, а он там… Ну что за жизнь у них такая!
– Не знаю, не думал, – ответил он. – Пожалуй, долго не смог бы.
– Я тоже, – она вздохнула, будто заранее не веря в возможность жить так, как ей хочется, – без разлук, без прощаний, отъездов, без ожиданий вынужденных. – Ну, день, два, при необходимости, это понять можно, а так – нет. Жить, так уж вместе, а иначе зачем всё это? – она махнула рукой, показав на дом, на усадьбу. – Вот эти грядки, вышитые занавесочки, чистые половики…
Ему захотелось возразить ей, сказать, что всяк, мол, живёт как умеет. Уходят же, к примеру, геологи в поиски, и не на день, не на два, на многие месяцы. А моряки? И жёны ждут их. И любят ещё крепче, чем некоторые другие, от которых мужья не уезжают никуда и не улетают. Не в этом, наверное, дело. Опять же космонавты! Если вдруг каждый с собой в космос жену потащит… Словом, дело не в том – уезжать или жить рядом. Любить и доверять друг другу – вот главное. Ну, а порядок в доме, это, как бы там ни было, всегда хорошо, всегда кстати…
Но он удержался. И не только потому, что вовремя заметил в этих невысказанных словах назидательный намёк – просто сам успел подумать о том же, о чём только что сказала Лена. «И верно, чего они так? Есть ли необходимость? Ездить домой в неделю раз, сменить рубашку… отоспаться вволю… Неужели нельзя как-то лучше устроиться, ну, скажем, работать там, где живёшь? А она? Ей-то каково: всё одной да одной? Молодая ещё, проторчит, ожидаючи мужа, в огороде…»
– Вот и детей у них нет, – тайно вздохнув, сказала Лена. – Почему бы?
Этот вопрос и вздох её невольный имели особый смысл: нет, не об Анне, не о её женских тайнах, не о чужих печалях и радостях думала в эту минуту Лена, а о себе самой. И об этом, конечно, тоже, о чём двумя днями раньше, среди ночи, ещё сама до конца не доверяя своей тайне, боясь ошибиться, она решилась всё же поведать ему. Да, у них будет ребёнок. Должен быть…
Она сказала об этом шёпотом, будто кто-то посторонний мог подслушать это признание. А потом, притихнув надолго, она лежала рядом с Андреем, не смея шелохнуться, вся в своей тайне, и он, не решаясь тронуть её, боялся лишним словом нарушить тишину необычных, родивших их тайну, ночных минут.
С той ночи они оба жили этой тайной, и всё, что бы ни делали, о чём ни говорили бы, отныне наполнялось особым, им одним понятным смыслом – всё было полно тревожного и светлого ожидания неведомого, необъяснимого и желанного. Они понимали, что всё это ещё далеко, но знали, верили, что это будет, будет…
И верно, оттого, что здесь, на берегу тихого лесного озера, под голубым и бездонным, как это озеро, небом, что именно здесь им открылась тайна, они ещё больше полюбили эти места. Как будто всё – и лес, и озеро, и росный по утрам луг, и светлые ночи с невидимкой-сверчком в углу их комнаты – всё это стало невольным свидетелем их счастья.
– А знаешь, – сказал он однажды, – давай через год-другой опять приедем сюда на лето. Все вместе, втроём…
Смешной ты, Андрей, – осторожно сказала она, – рано ещё загадывать. Да и далековато. Поживём – увидим.
Душные, истомные тянулись ночи. Где-то далеко, за озером, полыхали молнии, иногда рокотало тревожно, но даже оттуда с загустевшей тучами стороны, ветер не приносил свежести. Спать в доме было душно даже при открытых настежь окнах, и Андрей, то и дело поднимаясь с постели, подходил к распахнутому окну, ложился животом на подоконник, ловил жарким лицом хоть какой-нибудь ветерок, хватал его ртом. Всё порывался взять одеяло и пойти спать во двор.
Как-то поутру заехал Павел. Вывалил у сарая свежего, уже подсохшего сена, погремел сапогами в своей половине и, уже из кабины помахав рукой постояльцам, запылил машиной вдоль хуторской дороги.
Ночью, такой же душной, Андрей вдруг вспомнил про сеновал. Позвал Лену:
– Пойдём, а! Быть в деревне и не поспать на сене…
Не желая скрипеть в сенях половицами, они, похихикивая, тихонько посмеиваясь над собой, вылезли через окно, с подушками, одеялом побежали по двору к сеновалу, а потом в шуршащей и одурманивающе пахнущей темноте долго копошились, умащивались половчее возле сереющего в ночи оконца.
Было непривычно и смешно лежать на колком и зыбком ложе, всё что-то мешало, беспокоило, лезло в ноздри, в уши, щекотало спину, шуршало в изголовье: от духоты и дурманящих запахов сеновала тяжело засыпалось.
Однако заснули. Но неспокойный дурманный сон спугнул раздавшийся в ночи треск мотоцикла – кто-то промчался по дороге мимо их дома, брызнув светом фар по щелям сарая, и заглушил приутихший на краю деревни мотор.
И опять стало тихо. Но в разбуженной тишине Андрею всё слышалось разное: то словно чьи-то осторожные шаги, где-то близко, совсем рядом, то вроде стук в оконное стекло, украдчивый, но не пугливый, и снова шаги, и голоса – чей-то разговор, приглушённый до шёпота. Да, так и есть, говорил кто-то… Может, Павел ночевать приехал?..
Звуки то затихали, то рождались опять, но даже еле слышные, без слов, они почему-то пробуждали в Андрее смутную тревогу, какое-то неясное подозрение, и он, напрягая слух, всё ловил, ловил голоса и теперь уже точно знал, что один из них – женский, хозяйки, а вот второй…
Ему хотелось, чтобы это был Павел, тогда бы он мог спокойно, уткнувшись в подушку, уснуть наконец, не мучая себя догадками и подозрениями, которые взялись невесть откуда и теперь упрямо лезли в голову. Но нет: тот, второй голос был не знаком…
И вдруг – снова шаги, лёгкие, но торопливые, совсем рядом, под самой дверью, и тут же кто-то завозился суетливо в сарайной темноте. И стук упавших на пол грабель, и настойчивый, нетерпеливый, едва сдерживаемый шёпот, и в ответ отрывистое, умоляющее:
– Пусти, ну пусти же! Оставь, ну оставь ты меня, ради бога, ну, слышишь!
Затаившись в далёком углу сарая, словно мышь, зарывшись в сене, Андрей желал одного: чтоб не проснулась Лена, чтоб не услышала ничего. Но возня продолжалась, и Лена проснулась. Она не вскрикнула, не испугалась, только вдруг сжалась вся и задышала часто и жарко Андрею в лицо, и в этом тревожном, как озноб, дыхании Андрею угадывалось почти неслышное, произносимое одними губами: «Да что же это такое, как же это!.. Зачем, почему они… Нет, я не хочу, не могу слышать, не может быть… это кошмар какой-то…»
Андрею казалось: ещё миг, и она не выдержит, сорвётся и закричит от отчаяния, но что-то удерживало её; какое-то оцепенение, гнетущая, до тошноты вяжущая немота одолели и его самого. А там, внизу, у двери, всё не смолкали, боролись два голоса.
– Анна, ну, Анна, – теперь уже упрашивал незнакомый голос, – послушай, будь человеком… Ну, всё, всё, не буду… Но ты послушай, прошу! Пойми, не могу я так, без тебя не могу… Прошу, уезжай ты отсюда, поедем ко мне, в город. Жить будешь по-человечески, как нормальные люди живут. Ну что ты молчишь? О чём ты, Анна?
И снова шорохи, упрямая настойчивая возня, и снова борются в темноте голоса.
– Оставь, да оставь же, не мучь ты меня… На кой я тебе, ну на кой же? Зачем приехал-то? Ох, что ж это, ну что ты со мной, да что ж это мы?… Что будет-то?..
…Под утро, так и не сумев сомкнуть глаз, едва дождавшись, когда утихнет сполошный треск воровато убегающего из хутора мотоцикла, Андрей и Лена, замирая на каждом шагу, выбрались из сарая.
Спал хутор, спящим казался дом. И озеро, усталое, будто разомлевшее от духоты, разбросав по берегам клочья тумана, лениво подрёмывало внизу. Что-то неспокойное и неверное почудилось вдруг Андрею в этом дрёмном предутреннем покое – всё словно притворствовало, прикидывалось спящим, а на деле таило в себе столько недоброй силы, столько греха и обмана…
И они, он и Лена, они и сами в эту ночь оказались посвящёнными в чужой обман. И вот теперь, застигнутые врасплох, мучительно желали одного: скорее избавиться от непривычно гнетущего, какого-то липкого ощущения будто разделённой с кем-то вины…
Так же, как ночью, миновав крыльцо, они пробежали росным двором к дому и через окно пробрались в комнату. За всю ночь не обмолвившись ни словечком, они и теперь подавленно молчали, не смея взглянуть друг другу в глаза. Бессонница и усталость валили Лену с ног, и она машинально, присев на разобранную кровать, привалилась обессиленно головой к подушке и вдруг, вмиг отпрянув от неё, вскочила с кровати и поглядела на неё в каком-то несдержанном брезгливом испуге.
– Нет, я не могу здесь больше! Не могу! Давай уедем… Оставим на столе деньги и уедем. Немедленно, сейчас же!
Прижав к груди кулаки, она стояла посреди комнаты, готовая в любую минуту броситься бежать прочь.
– Да, да, – с рассеянной поспешностью согласился он, – конечно. Сейчас соберёмся и уйдём.
Ещё невидимое за лесом, вставало солнце, когда они, никем не встреченные, прошли торопливо краем хутора и вышли на просёлок, ведущий к станции. Было душно, по-банному парко, а близкое солнце опять сулило несносную жару. Но там, за озером, вновь наливаясь свинцовой синью, с предгрозовым рокотом теснились тучи.
Андрей на ходу стянул с себя ковбойку и шёл по пояс голый, закинув рюкзак на плечо. Шли молча, но думали об одном. Чужая жизнь, непонятная, неузнанная, с каждым шагом отдаляющаяся от них, приоткрылась им в эти беззаботные, ясные дни, приоткрылась как бы двумя краями, и неизвестно, где начало её, где конец. Где правда, а где обман? А они, Андрей и Лена, нежданно-негаданно оказались посередине…
– Ты о чём сейчас думаешь? – опередив Андрея на полшага, Лена заглянула ему в глаза.
– Спать охота, – притворно зевнув на ходу, ответил он. – А ты?
– А я – о ней, об Анне.
– А что о ней думать! Не стоит того…
– Тогда, в первый день, помнишь, когда мы пришли к ней… Знаешь, мне и тогда показалось… Она почти упрашивала нас, чтобы мы у неё остались. Я теперь знаю, почему она хотела этого. Она боялась. Понимаешь? Себя боялась, слабости своей… Одиночества. А мы ей были нужны как защита… от самой себя, ну, от того, что всё-таки случилось…
– Хороша защита, – ухмыльнулся Андрей презрительно, скрыв, однако, своё удивление по поводу этой неожиданной проницательности жены. – Не защита ей нужна, а громоотвод. Для мужа своего, Павла. Чтоб думал: раз чужие люди в доме, то уж ничего такого у неё быть не может, всё ладно будет, всё шито-крыто… Вот и вся хитрость.
– Зачем ты так? – Лена с укором и обидой взглянула на Андрея.
– Как? – неожиданно резко, почти крикнув, спросил Андрей.
– Несправедливо и… зло. Ты же ничего о них не знаешь. Ни о ней, ни о нём. Может, не она, а Павел во всём виноват. Может, тот, что был ночью, может, он любит её. Сильнее, лучше…
И опять что-то злое, резкое завертелось у Андрея на языке. Захотелось сказать что-нибудь обидное жене, вдруг так безоговорочно изменившей своё отношение к Анне, в которой ещё вчера, не признаваясь себе самой, готова была видеть причину возможных напастей и собственной ревности, которую ещё сегодня, казалось, презирала…
Уверенная в своей правоте, обиженная его резким словом и нежеланием разделить её догадку, она шла теперь впереди, босая, с кедами в руках, в лёгком цветастом сарафане. Что-то капризное, не замечаемое прежде и теперь вызывающее раздражение увиделось Андрею в ней – и в том, как она идёт, не оглядываясь, будто уверовавшая твёрдо, что он так и будет, как привязанный, всю жизнь следовать за ней по пятам; и в этой открытости сарафана, продуманно и, как ему казалось теперь, чрезмерно оголившей её загорелые плечи, грудь и спину; и в косичках этих, легкомысленно торчавших в стороны, как у девчонки-пятиклассницы…
Он шёл за ней следом и угрюмо молчал.
Гроза нагнала их на полпути, километрах в четырёх от станции. Они не заметили, как насторожился, нахохлился в молчаливом ожидании лес, как, ворвавшись в оцепенелое это молчание, промчался по верхам деревьев ветер, как, шумнув в осиннике, он вырвался на просёлок, увлекая в торопливый свой бег придорожные кусты, спугивая птиц. Ещё ни дождинки не упало на пыльную дорогу, но туча, в любую минуту готовая ударить дождём, была уже над головой. И всё потемнело кругом.







