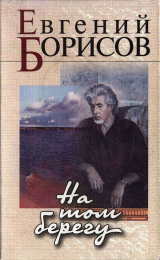
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
А как славно им пелось тогда, как чисто и слаженно звучали в тот вечер их голоса, а их любимая «Ах ты, ноченька», которую Митька начинал обычно, а Пашка потом подхватывал, а за ними и остальные, так удивительно, так душевно спелась, что, закончив её, они, поражённые, смущённые даже, какое-то время молча сидели и, почему-то не смея взглянуть друг на друга, пялились повлажневшими глазами на огонь. Будто ненароком признались друг дружке в чём-то очень личном, в сердечной какой-то тайне, открыли душу и застеснялись, притихли в сомнении: а надо ли?
Но и потом пели, и опять им казалось, да что казалось – так и было, конечно, – что никогда так не пелось им там, в городе, в тесных квартирах, и так легко верилось, что таких вечеров у них будет много; думалось, что ради удивительных этих минут, ради таких откровений, когда и ты перед друзьями, и они перед тобой – как на духу, как на исповеди, ради этого, может, и стоит жить, и за это, наверное, стоит пожертвовать многим, и дай бог здоровья Парамону, который так удачно, так кстати родился в этот счастливый майский день, а может быть, вечер, будто знал наперёд, что однажды они сойдутся все вместе у этого костра, и за лодку ему спасибо, потому как если бы не она, то и ему, Парамону, не быть капитаном, а им всем не хлебать бы ни этой распрекрасной ухи, не видеть ни этой волшебной ночи, ни этого острова…
– Парни, а у меня предложение, – это Пашка поднялся, с кружкой в руке подошёл поближе к костру, – прошу занести в протокол… Поскольку Юрка первым увидел этот остров, выходит, он его и открыл. Это во-первых… А во-вторых, открытие это он совершил в день своего рождения, как здесь и было отмечено, а посему, – он обвёл взглядом притихших в ожидании друзей, – короче, есть все основания… Принимай, капитан, этот остров как подарок на день рождения, принимай и властвуй. И пусть отныне он будет приютом для каждого из нас и вообще для всех добрых и честных людей. Предлагаю, – голос его стал торжественным и строгим, – предлагаю повторить за мной слова нашей клятвы… Пусть это не Воробьёвы горы и мы с вами тоже не те, но тем не менее… Я говорю, а вы повторяйте. Да не осквернятся эти воды и эти берега…
Четверо поднялись и встали у костра:
– Да не осквернятся…
– …не осквернятся ни обманом, ни подлостью, ни предательством…
– …ни обманом, ни подлостью, – вторили голоса.
– И пусть всё недоброе, суетное, мелкое, что вдруг накопится, не дай бог, в наших душах…
– …и пусть всё недоброе, суетное… – как эхо повторили они.
– Пусть горит оно синим пламенем в нашем костре, как речной мусор после весеннего паводка.
– …пусть горит!..
…Через год, уезжая во Францию, Парамон оставил свою лодку Пашке, возложив на него обязанности и права капитана.
Давно это было.
6
Утром в субботу, около девяти, когда Глеб при полной походной выкладке – в старенькой стёганке, в резиновых сапогах, с тех ещё, давних времён, в заношенных джинсах – топтался перед зеркалом в коридоре, собираясь уже подхватить свой «неподъёмный», как сказала Ирина, рюкзак, раздался телефонный звонок. Звонил Митька. Сообщил, что Серый задерживается, как всегда. Вот только что позвонил, мол, из редакции и предупредил: какое-то срочное дело, минут на тридцать, не больше… Нет, отбой не давал, всё остаётся в силе, как управится, сразу заедет за Глебом, а потом, по дороге, – за Митькой…
Но обещанные полчаса растянулись сначала на сорок минут, а потом и за час перевалили. Серый всё не ехал, а Митька названивал через каждые десять минут. Тоже рвал и метал.
Наконец, выглянув в очередной раз с балкона, Ирина сообщила:
– Сударь, карета подана! У вас, гляжу, шикарный выезд, почётного эскорта только не хватает.
Чёрная «Волга» стояла у подъезда. Серый, в костюме, при модном, в косую полосочку, галстуке, начальственно восседал впереди, рядом с шофёром. Шофёр, средних лет коренастый мужичок, увидев, как замешкался Глеб со своим рюкзаком, не спеша, с достоинством вылез из машины, открыл багажник и уложил рюкзак.
– Здорово! – Глеб сел в машину, уставился на приятеля. – Ты чего при параде-то? Как на приём собрался.
– Всё нормально, старик, – бодро отозвался Сергей, – всё в порядке. Небольшая конспирация не повредит. Такая наша доля! Как, Петрович?
Петрович, уже сидя за баранкой и ожидая дальнейших распоряжений, понятливо кивнул головой: мол, об чём речь, какие разговоры!
Кажется, Ирина кричала с балкона. Глеб, поморщившись, высунулся из машины, взглянул вверх.
– Носки, – она размахивала шерстяными носками, – ты носки забыл, Глеб. Лови, кидаю.
Глеб отмахнулся, но Серый сказал:
– Возьми, уважь жену. Такая забота…
Пришлось вылезать из машины, ловить носки, сначала один, потом другой. Почему-то она решила кидать их по очереди.
Но вот тронулись наконец.
В стёганке, в резиновых сапогах Глеб не очень уютно чувствовал себя в этой машине, да ещё этот элегантный костюм на Сером, непонятный его маскарад…
Заметив недоуменно-вопросительный взгляд приятеля, Сергей усмехнулся, сказал снисходительно:
– Не ломай голову, всё очень просто… Вот выедем за город, с глаз долой, тогда и расслабимся, расправим, так сказать, упрямые плечи. Конспирация, старик, и в нашем деле не помеха. На что не пойдёшь ради старой дружбы!
– Да, в серьёзные игры играете, – не то подивился, не то посочувствовал Глеб, – как Штирлиц, честное слово, операция под кодовым названием… Смотри, засвечу я тебя в своей рабоче-крестьянской стёганке. Может, и мне туда же, следом за рюкзаком, в багажник?
Сергей снисходительно усмехнулся:
– Ничего, скажу, что я тебя подсадил по дороге. Совершенно случайно, мол, вышел из кустов. Вот еду и собираю вас всех, безлошадных деятелей литературы и искусства. Спасибо Петровичу, – он всё приобщал водителя к разговору, – дарит нам свой выходной. – Оглянулся. – Как с Митькой договорились?
– На Ленинградской, у книжного, должен ждать.
Сергей первым заметил Кашкова:
– А вот и замминистра культуры собственной персоной. И гармонь под мышкой. Как рояль в кустах. Будто на посиделки в родную деревню собрался. Нет, не перевелись ещё народные таланты! Давай тормози, Петрович, возьмём этого гармониста.
Машина подрулила к тротуару, остановилась. Кашков, в зелёной нейлоновой курточке, с рюкзаком на плече и с гармошкой под мышкой, и в самом деле «не вписывался» в городской пейзаж. Было в нём что-то такое неистребимое, вечное, что никакими, даже самыми модными одёжками скрыть невозможно, что даже при беглом взгляде выдавало в нём человека негородского, будто проездом, а может, по какому другому случаю оказавшегося на городской улице.
Пристроив гармонь на сиденье, себе под локоть, Кашков расстегнул на курточке молнию, воскликнул радостно:
– Здорово, мужики!
В машине засмеялись, ожили. А Глеб, кивнув на гармонь, спросил:
– Жива старушка?
– Жива, – Дмитрий погладил гармонь рукой, очень трогательно погладил, – ещё и нас переживёт.
– Я говорил, живы народные таланты, не увяли ещё, – Сергей подмигнул Глебу. – В подполье ушли, но держатся. Заполнили дворцы дискотеками, роками, а сами в подполье… Дома пиликают, для души, кто на гармошке, кто на балалайке. Нет, не оскудела земля талантами!
Шутил, посмеивался Сергей, и Глеб смеялся тоже, а Митька улыбался снисходительно, помалкивал. Хорошо ему было, радостно: встретились наконец!
– Ну что, мужики, – Сергей на правах хозяина взял инициативу в свои руки, – все живы, гляжу, и здоровы! Писатели здесь, культура в порядке, кого не хватает?
– Как будто бы все, – сказал Глеб, – если не считать Пашки.
– А где его взять? Вообще-то, хоть кто-нибудь знает о нём, где он, что с ним? – спросил Сергей. – Куда-то слинял человек… Как в воду канул.
Глеб удивлённо взглянул на Сергея.
– Ты и в самом деле не знаешь? А мне казалось…
– Да нет, – почему-то замялся Сергей, – слышал о нём кое-что… Знаю, что ВГИК закончил, в кинематограф подался на старости лет.
– Я тоже не видел его лет пять или шесть, – признался Дмитрий, – с тех пор, как он уехал в Москву.
– Пашка есть Пашка, – задумчиво сказал Глеб. – Ищи ветра в поле.
– Короче, – Сергей взглянул на часы, – экипаж почти в полном сборе. Погнали и никого не ждём.
Минут через десять, миновав заводской район, оставив позади путепровод с грохочущим под ним железнодорожным товарным составом, машина выехала на загородное шоссе. Впереди, как избушка на курьих ножках, пост ГАИ показался. Дежурный гаишник, ещё издали приметив чёрную «Волгу», успев намётанным глазом определить её принадлежность, приосанился, лихо вскинул руку под козырёк. Петрович и ухом не повёл в его сторону – привычное дело!
– Вот так-то, – Глеб сделал рукой отмашку постовому, пригрозил: – Гляди у меня, не балуй, а то живо уволю! Распустились, понимаешь!
Кашков рассмеялся – понравилась шутка, – а Сергей стал, не развязывая узла, стаскивать галстук через голову.
– Теперь можно и рассупониваться потихонечку, – вздохнул облегчённо, будто не галстук – хомут с шеи скинул, – вышли из просматриваемой зоны.
Вырвавшись из города, из субботнего многолюдья троллейбусных и трамвайных остановок, где приходилось невольно притормаживать, машина, словно угадывая нетерпение пассажиров, весело покатила по широкой автостраде. За окном, справа и слева, замелькали крыши аккуратных дачных домиков, возле которых копошились садоводы и огородники, густые белые дымы поднимались тут и там над усадьбами – жгли прошлогодний мусор, подсохшую листву.
И тут Кашков спохватился:
– Мужики, а как же на кладбище?..
– Какое кладбище? – не понял Сергей. – Уже потянуло.
– К Парамону на могилку забыли заехать.
Дмитрий виновато глядел то на Глеба, то на Сергея, похоже, и сам не мог понять, хорошо ли, плохо ли он сделал, что вдруг вспомнил об этом.
– Ну, началось! – проворчал Сергей, и обращаясь к шофёру: – Притормози, Петрович, обсудим ситуацию.
Петрович отрулил к обочине, остановился.
– Давайте решать, мужики, – призвал Сергей приятелей и взглянул на часы, – времени и так уже много ухлопали, а если возвращаться, это ещё с полчаса как минимум. Километров восемь уже отмахали, так, Петрович?
– Около того, – Петрович сидел хмурый.
– Так что, – Сергей глядел на них, ожидая, – как поступим? С одной стороны, Парамон нас не осудит, в такой закрутке живём, а с другой…
– А с другой, – сказал Глеб, – раз уж собрались… Часом раньше, часом позже…
– Сколько лет не были, – попечалился Кашков, – надо бы…
Развернулись, поехали. И всю дорогу, до самого поворота, до окружной дороги, пребывали в задумчивом и неловком молчании. Забывчивость эта смутила всех, и тут уж не до разговоров. Сергей хмуро покуривал, обдавая сзади сидящих сигаретным дымком. Глеб и Митька тоже помалкивали.
А на кладбище торжествовала весна. Неукротимо и властно, будто не ведая, что творит, не замечая никаких знаков людской печали, она вызывающе зеленела ранней листвой и молодой травой, кипела в кустах сирени птичьими голосами. И всё, что вершилось теперь на земле, что цвело и продолжало жить на ней, было и впрямь то ли началом, то ли продолжением какого-то вечного таинства, свершающегося в природе, того неразрывного и невидимого родства всех живущих на земле и тех, кто на ней жил и будет жить когда-то.
Пытаясь всё утро отогнать от себя привычные суетные заботы, Сергей, оказавшись среди кладбищенского покоя и тишины, нарушаемой вкрадчивым шумом сосен и пересвистом птиц, старался настроить себя на умиротворённо-философский лад, но всё что-то мешало ему, что-то мелкое, будничное, обременительное снова и снова цеплялось, лезло в голову, тревожило душу. И такими нелепыми среди этого вечно повторяющегося торжества весны, такими жалкими и никчемными вдруг показались ему эти поднимающиеся над могилами творения рук человеческих. И это тоже почему-то его раздражало. Думалось о том, что вот и здесь, даже за последней чертой, эти люди, которых нет в живых, словно продолжают запоздалый какой-то спор, никому не нужный, что-то и кому-то ещё хотят доказать, а может, обскакать, переплюнуть в чём-то друг друга – и этой огромностью мраморных плит, и монументальностью памятников, и помпезностью нелепых сооружений из гранита и металла, и прочностью железных оград, охраняющих чей-то вечный покой. От кого, зачем?
Шли гуськом по неширокой, протоптанной меж могильных оград тропинке, мимо поржавевших венков с пожухлыми, сиротски блеклыми искусственными цветами, вертели головами направо-налево, приглядывались к могилкам.
– Всем закажу, – говорил Сергей, – никаких венков, никакого оркестра. Тихо, без шума положите, по цветку принесите, и всё… Не кладбище, а свалка какая-то. Лежать здесь под грудой ржавых венков…
– Не боись, – говорил ему Глеб, – похороним как надо. Если позовёшь нас, конечно, – шёл и похихикивал сдержанно. – Митька гармошку свою принесёт, сыграет твою любимую.
Он шёл впереди с огромным букетом тюльпанов – расщедрился, купил у старушек-торговок, стоящих у входа на кладбище, вроде как ото всех купил – и, кажется, был уверен, что идёт правильно. Такое впечатление создавалось. Сергей и Дмитрий доверчиво шли за ним следом.
– Так, где-то здесь, – Глеб приостановился, стал оглядываться, – вот у этой сосны, дай бог памяти, был поворот…
– Куда, – спросил Сергей, – в какую сторону?
– По-моему, налево, – не очень уверенно предположил Глеб.
– А может, направо?
Глеб рассердился:
– Слушай, я веду или ты? Иди тогда первый. А не уверен, не обгоняй.
– Да будет вам, – остановил перепалку Дмитрий, – мне вообще кажется, что мы не с того края зашли, надо с другого входа.
– Перекрестись, если кажется, – усмехнулся Сергей. – Ты, гляжу, даже на кладбище не как все, с чёрного хода норовишь. – И предложил: – А может, разобьём кладбище на квадраты? Как юные следопыты.
Минут пять ещё спорили, пререкались друг с другом, не зная, куда идти, потом ещё минут десять, постепенно теряя надежду, бродили по кладбищу, лазали между полузапущенными, полузаросшими травой и кустами сирени старыми могилами, сходились возле какой-нибудь из них и снова расходились, пока наконец Митька не предложил вернуться к воротам и зайти к кладбищенскому начальству, навести справки.
Повернули назад. И опять, пока шли друг за другом, всё приглядывались к памятникам и надгробиям. И вдруг Глеб, приотставший немного, крикнул:
– Мужики, да вот же она!
Оказывается, и ходили-то рядом.
Подошли, остановились перед оградой, влажно поблескивающей чёрной, свежей ещё краской. Сергей попробовал пальцем.
– Похоже, недавно.
– И цветы тоже свежие, – Кашков показал на могилу, где на влажном, аккуратно посыпанном песочке, у подножья гранитного камня, стояла стеклянная банка с тюльпанами, а рядом четыре гвоздики лежали. – Кто-то опередил нас.
– Лера, наверное, – предположил Глеб, – кто же ещё.
Стояли перед оградкой, глядели на потемневший барельеф, узнавали и не узнавали в нём забытые черты покойного друга. Было похоже, что время, не пощадившее их самих, пристарило, изменило и его лицо; забронзовела, потемнела медная чеканка, было заметно, что кто-то, желая вернуть потускневшему металлу утраченный вид, старательно отчищал его, и от этого на посветлевших, медью отливающих выпуклостях обнаружились чёрные, въевшиеся в металл ранки-оспинки, и теперь они проступали на его угрюмо-задумчивом лице, словно пристаривали его.
И так же хмуро, будто не узнавая своих друзей, а может, скрывая свою обиду, смотрел он на них, стоявших по ту сторону ограды. И неуютно им было отчего-то под этим странно встревожившим их взглядом.
Передав Кашкову цветы, Глеб открутил проволоку, отворил калитку, первым шагнул за ограду. За ним и Митька с Сергеем вошли. Положили цветы, постояли.
– Не сердись, старина, – покаянно сказал Сергей, – не думай, что мы забыли тебя, что мы тут, – он вдруг запнулся, почувствовал, как наполнились и затуманились тёплой влагой глаза, – что нам тут не жизнь, а малина… Поверь, нам тоже несладко, крутимся, вертимся, чёрт побери, суетимся чего-то. Не суди, в общем, строго.
Уходили, оглядываясь, всё отыскивая взглядом среди других могил, среди венков и обелисков тот серовато-розовый камень с медным барельефом. Потом, уже подходя к машине, Глеб сказал:
– Не знаю, как вы, – он поглядел на задумчиво притихших своих друзей, – а я так считаю… Я думаю, память – это не только когда приносят и кладут на могилу цветы, не только слова. Что-то ещё должно быть, наверное, вот здесь, – он положил руку на грудь, – здесь вот должно оставаться. И нечего нам, братцы, казнить себя. Мы живём, значит, мы помним. Каждый по-своему, кто как умеет, как совесть подсказывает. Разве не так?
Он глядел на приятелей, ожидая поддержки или согласия, полагая, что не только для себя, но и для них нашёл наконец какое-то очень важное объяснение тому, о чём думали, чем мучились теперь они.
– Всё это так, – усаживаясь в машину, задумчиво произнёс Кашков, – но ограду-то, если честно, мы могли бы покрасить. Тут и делов-то…
– Чего теперь об этом, – хмуро отозвался Глеб.
А Сергей Иванович, хлопнув дверцей, бросил шофёру:
– Трогай.
И замолчали надолго. Но и в молчании этом они продолжали блуждать по тем полузабытым дорожкам, ходили, бродили по зарослям своей памяти, пытаясь что-то отыскать там, в полузабытом, не таком уж и далёком далеке: то ли самих себя, то ли друг друга искали. Тех, прежних, какими были когда-то.
7
А какими мы были-то? Где нас теперь отыщешь, тех, прежних? И где мы, настоящие, где мы были самими собой, какими не жизнь, а судьба нам быть определила? Кто теперь скажет об этом?..
Уже в машине каждый вдруг вспомнил давнюю историю, случившуюся однажды, вот так же, по весне, на второй или на третий год после смерти Парамона. Помнится, тогда они вчетвером приехали на кладбище, пришли с цветами к его могиле и глазам своим не поверили: на месте знакомого, временного обелиска увидели вот этот памятник – гранитный камень с барельефом.
Стояли в недоумении, соображая, кто и когда мог поставить его? Ведь это же их идея была – соорудить Парамону памятник. Они же сами, ещё три года назад, решили взять на себя эти хлопоты и Лере тогда сказали, чтобы она и в голову не брала эту заботу. Через год, как прикидывали они, приосядет земля на могилке, и возьмутся за дело, а пока, время есть, можно было подумать о памятнике – каким ему быть. И долго, помнится, спорили, из чего, из какого материала лучше сделать его, из камня или из металла, и что следовало бы написать на нём. Может, какие-то любимые Юркины слова, может, собственное его высказывание, оптимистическое какое-нибудь, чтобы знали люди, что Парамон был весёлый, остроумный человек. Тогда они даже что-то вроде конкурса объявили между собой: сначала на проект этого памятника, а потом и на лучшую надгробную надпись.
Как-то весной, через полгода после похорон, побывав на кладбище и узрев, как неприютно выглядит простенькая, временно обустроенная, хотя и аккуратно прибранная могилка Парамона, они приехали на свой остров и там, возле костра, прямо на песке принялись, в который раз, рисовать свои проекты, каждый свой предлагал, а потом обсуждение устроили. И дело, помнится, до ругани дошло, каждый, разумеется, защищал и отстаивал свой проект и доказывал несостоятельность проекта другого, но, кажется, так ни к чему и не пришли.
И вот стояли, униженные и растерянные, перед этим нежданно-негаданно, будто из-под земли поднявшимся гранитным серовато-розовым камнем, топтались, не смея глаза поднять друг на друга, ревниво и придирчиво осматривали его, будто комиссия по приёмке надгробий, а потом, пытаясь как-то одолеть своё смущение, тут же, у могилы, затеяли этот дурацкий, совершенно нелепый спор по поводу медного, в чеканке исполненного барельефа, прикреплённого к граниту, – всё выясняли, похож он или не похож?
Кажется, Серёга первый начал постыдный тот диспут.
– Нет, старики, вы как хотите, – он скептически закачал головой, – но это не Парамон. То есть вообще ничего общего! Вы на глаза посмотрите. Колючие, злые какие-то. А эта усмешечка, полупрезрительная, полунадменная… Не тот взгляд, не тот характер, всё приблизительно, случайно.
– А ты ни разу не видел его таким? – не очень уверенно, помнится, начал Митька, потому что ему как раз показалось, что художнику удалось уловить в характере Парамона что-то похожее, что сразу же бросилось Митьке в глаза. Были минуты, когда кто-то или что-то вдруг выводило Парамона из себя, чья-нибудь глупость или несправедливость какая-то, и он вот так же прищуривал глаза, прятал в них сдержанную усмешечку. – А я видел, и мне, наоборот, кажется, что он угадал в его настроении…
– При чём здесь настроение? – не согласился Сергей. – И вообще… Ты его и знал-то без году неделя, а я, слава богу… Попахали вместе не один год. И дело не в том, какими мы бываем иногда и какими видим друг друга, тут можно знаешь как далеко уйти. Речь о типичном, характерном для человека, а не о том, что случайно, что субъективно. И я его тоже разным видел, и сердитым, и весёлым, но он всегда, как бы это сказать, мягче, что ли, был, интеллигентнее.
– По-твоему, интеллигент не может позволить себе взглянуть на кого-то вот так, с презрением, злыми глазами. – Митька настаивал на своём, – тем более, если этот кто-то достоин презрения. Интеллигент – это прежде всего неумение притворяться, способность оставаться самим собой.
– А я считаю, – вступил молчавший до этой минуты Глеб, – что это право художника, и мы не вправе, – он сбился, – вернее, Митька всё-таки больше прав… А почему бы не согласиться и не принять его таким, каким увидел его художник, чеканщик этот, и мы не имеем права не доверять художнику. Прежде чем отрицать, нужно постараться понять, и я, например, его так понимаю… Он усмехается над судьбой, презирает её и смеётся над смертью. И вовсе не злость в его глазах, а совсем другое, может, загадка какая-то, для нас всех, чтобы мы вот так стояли и думали…
Они и дальше, наверное, спорили бы, потому что Серёга, не желая оказаться неправым, заговорил совсем уже о другом – о назначении искусства вообще и о праве художника, в частности. Но тут хмуро и как-то нехорошо молчавший Пашка охладил их дискуссионный пыл.
– Побойтесь бога, мужики, – сказал он, – не на вернисаж пришли. Грех нам – вот так стоять и судить другого, когда судить-то надо самих себя. Обскакали нас, дураков, с памятником, ткнули носом, как мальчишек, и поделом. Вот об этом, если вы так хотите, он и думает, глядя на нас, пижонов и лицемеров несчастных. Болтаем чёрт знает о чём, и каждый при этом пыжится, хочет показаться друг перед другом и перед ним этаким заботливым умником, более достойным, чем другой, его памяти. Братцы, говорит он, да бросьте выпендриваться, вы же не за этим сюда пришли, я же насквозь вас вижу, так не обижайте ни себя, ни меня ненужным этим обманом, не распускайте сладкие слюни, не теряйте золотого времени, а лучше развяжите свои рюкзаки, достаньте нашу заветную и не тяните душу, врежьте за раба божьего, а я погляжу на вас да порадуюсь, что вы все живы и здоровы. Веселее, мужики! Жизнь так коротка, что омрачать её лишней болтовнёй, этими спорами, этим ненужным враньём стоит ли?.
Говоря это, он тут же, на глазах у подрастерявшихся приятелей совершал, не теряя времени, несложную в общем работу: развязал тесёмочки на рюкзаке, достал из него походную кружку, за ней бутылку «столичной» – была в те времена такая водка, а потом из пакетика полиэтиленового извлёк огурчик солёный, один на всех, сорвал блескучий колпачок с горлышка, плеснул в кружку «по чуть-чуть» и пустил её по кругу…
И некуда было деться, и отказаться было нельзя, просто грех было отказываться, потому что… Да что там говорить и лукавить друг перед другом, нечего изворачиваться: памятник-то стоит и поставлен не ими, так о чём спорить, кого винить! А помянуть Парамона, пожалуй, и в самом деле не грех. Там, на острове, когда доберутся и усядутся возле костра да разложат свою скатерть-самобранку – это само собой, но и здесь, перед могилкой покойного друга, чтобы он знал, видел: вот они, рядом, живут и помнят о нём – тут уж, как говорится, сам бог велел. Ну, сплоховали немножко, опростоволосились и перед Лерой, и вообще, но с кем не бывает!
Потом, когда вернулись в город после того мальчишника, кто-то из них, то ли Глеб, то ли Пашка, набрался смелости, позвонил Лере и спросил покаянно об этом памятнике: кто, мол, ставил и чья работа? Оказалось, журналисты московские, бывшие коллеги Юры по международному отделу: сами заказали, сами привезли и установили минувшей осенью. А барельеф, чеканку по меди, сделал известный московский художник, Юрин хороший знакомый.
И теперь, припомнив снова об этом, Дмитрий Михайлович задумчиво покачал головой: сплоховали, мол, сплоховали! Но ни досады прежней, ни давнего, когда-то пережитого стыда, от которого они тогда готовы были сквозь землю провалиться, только бы не глядеть друг другу в глаза, лишь бы не встретить Леру на улице, – ничего этого не почувствовал он теперь.
Вот только оградка на могилке Парамона, кем-то выкрашенная недавно, почему-то вспоминалась, не давала покоя.
8
А Глеб тем временем о Пашке подумал… Представил, как приедут они на остров, если, конечно, сумеют добраться туда, если отыщут в деревне лодку, если переплывут… Так вот, приедут они, и чего-то им будет не хватать. Ну, во-первых, не будет ухи, это как пить дать, потому что никто из них удочки и вообще никаких снастей не взял, да если бы и взяли, что толку, какие они рыбаки. С ложками, в основном.
И вот соорудят они костерок, достанут из своих кошёлок и рюкзаков что бог послал, вернее, что жёны заботливые им подложили, колбаски нарежут, огурчиков свеженьких, какую-то баночку, может, вскроют, лосося какого-нибудь в томате, усядутся, как бывало, у костерка и вспомнят… Вспомнят, как Пашкину ушицу хлебали. Вот кого им будет не хватать!
А уху Пашка и в самом деле варил отменную. И надо было видеть, как колдовал он, бывало, возле костерочка, у дымящегося, побулькивающего котелка, источающего по всему острову божественные до головокружения запахи, никого «на нюх» к нему не подпуская. И было нестерпимо трудно, просто невозможно было ждать желанной той минуты, когда, закончив своё священнодействие, эту в общем-то нехитрую операцию с лаврушечкой, с перчиком, с подсолнечным маслицем, с лучком и ещё с какими-то травками, он постучит наконец ложкой по котелку и объявит с церемонным поклоном: мол, воссядемте, братья!..
И тогда истомившиеся в ожидании братья, истерзав вконец и свою и Пашкину душу нетерпеливыми восклицаниями: «Паш, ну скоро! Паш, не томи, помираем!» – повытаскивают персональные миски и кружки из рюкзаков, вооружатся деревянными, ухватистыми ложками, рассядутся вкруг исходящего невероятным, просто волшебным духом, закопчённого на огне, ещё пышущего жаром котелка, и Пашка станет разливать, щедро зачерпывая со дна, никого не обижая, наваливая дымящейся гущи, белого рыбьего мяса, приговаривая при этом:
– А юшечку, братцы, потом, юшечка хороша, когда приостынет немного, когда душа примет всё, что ей требуется, но чего-то ей будет ещё не хватать. И тогда юшечка будет в самый что ни на есть раз, поскольку она всё лишнее оттягивает и своё действие оказывает…
Так вот, не будет нынче ни ухи, ни юшечки, ни вожделенных этих минут, ни бормотания этого сладостного, выражающего одновременно и высшую степень удовольствия, и, разумеется, похвалы создателю и творцу этого «шедевра», этого произведения искусства, пищи, достойной богов… Не будет этого ничего. И дело даже не в ухе, хотя и в ней тоже, а в том, что… Самого Пашки нет, вот в чём дело. Вроде как некомплект получается. Как в той известной сказочке у Михаила Евграфовича, у Салтыкова-Щедрина, – про мужика и двух генералов, которых он кормил: генералы есть, а мужик запропастился куда-то.
Пашку в эти годы Глеб чаще других вспоминал. Было в нём что-то такое, для Глеба не очень понятное, чему он не просто удивлялся, но, похоже, даже завидовал. Ладно бы, книгам его завидовал, или хорошим стихам, или газетным статьям, тут всё ясно, потому что так было всегда: кто-то больше, а кто-то меньше завидует другому, более талантливому или удачливому. Но тут другое совсем. Талант-то у Пашки был, и стихи в своё время писал он прекрасные, и две книжки его стихов, те, что вышли когда-то, были только началом, тоже талантливым, смелым началом, как многим тогда казалось. И Глеб так считал. Но не завидовал он, видит бог, не завидовал Глеб этим книгам, успеху его не завидовал. Потому, может быть, что и сам в ту пору что-то сделать успел, был отмечен и даже расхвален…
Ну а что же тогда? Поди разберись! Просто странным и непонятным казалось Глебу, как можно вот так: сидеть, скажем, в редакции, в кабинете, как нормальные люди сидят, стучать на машинке и вдруг сорваться из-за стола, выхватить из машинки почти отпечатанный лист, разорвать и бросить его в угол, в корзину, в одну минуту собраться и крикнуть с порога: «Старики, я уехал!»
И уезжал! Без командировочных удостоверений, без плаща, даже если за окнами хлестал дождь, без тёплых ботинок, даже если на улице мороз за двадцать… Через день-другой, когда в редакции объявлялся всеобщий розыск, когда друзья садились на телефоны и названивали по районам, пытаясь напасть на след пропавшего сотрудника, он сам вдруг звонил откуда-нибудь издалека, из правления какого-нибудь колхоза или из райкома комсомола.
– Старики, – кричал он радостным голосом, – я тут с такими мужиками встренулся, с рыбаками, вот такие ребята! Материал высылаю в субботний номер, а вы мне удостоверение командировочное, на всякий случай… И денег, червонец хотя бы. А всё остальное тип-топ… Пусть шеф не тревожится.
Потом появлялся, живой и здоровый, улыбка – девять на двенадцать, и весь день в редакции стоял хохот: Пашка ходил из кабинета в кабинет, рассказывал рыбацкие байки, которых от селигерских рыбаков набрался, читал свои новые стихи, отчитывался, словом, за командировку.
И как-то удивительно легко ему сходило всё это с рук, всё улаживалось, утрясалось, и заготовленный было приказ – с угрозой выговора за самовольные эти поездки – так и не вывешивался на доске приказов и объявлений, поскольку возвращался он в редакцию не с пустыми руками: то очерк проблемный, то фельетон привозил…
Да и к выговорам, когда они появлялись всё же, он относился без особого трепета, хотя и с удивлением, как к награде, которая через много лет наконец отыскала героя.
– Да бросьте вы, старики, – посмеиваясь, успокаивал он опечаленных друзей, – чего суетитесь! Всё тип-топ! Я вчера, между прочим, с такими мужиками познакомился, в ресторане сошлись, геологи, вот такие ребята, в экспедицию приглашают, на три месяца. Знаете куда? На Камчатку. Когда я ещё туда соберусь, а тут такая возможность. Здесь ещё насижусь, успею, а там…







