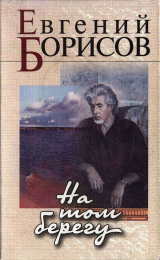
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Надя прислушалась. Из-за двери, из Надиной комнаты, тихим светлым родничком пробивался Любин голосок:
– «И пока за туманами видеть мог паренёк, на окошке на девичьем всё горел огонёк…»
Была уже полночь. Дождавшись, когда тётя Поля, отгремев на кухне посудой, ушла к себе в комнату, Надя накинула пальто на плечи и вышла в парк. В доме ещё стоял запах его одеколона, он не то чтобы раздражал, но как-то странно тревожил, мешал сосредоточиться. Состояние это, да ещё привязчивый запах одеколона, который оставил после себя Сергей, и заставил её выйти из дому.
Она ходила по парку, по тёмным аллеям, над которыми в негустом сумраке майской ночи, в зеленоватом свечении, будто омытые весенним дождём, плескались чистые звёзды, и повторяла неожиданным мотивом сложившуюся фразу: «Всё так и всё не так». Да, говорила она себе, всё так и было, и этот парк, и эти звёзды, и они шли в ту ночь вот по этой самой аллее, только тогда было лето, конец августа, и звёзды были совсем другие, тревожные и холодные, и в парке было темнее, а он стоял и ждал её, и от него вот так же, как сегодня, пахло «Красной Москвой»… «Всё так и всё не так…»
Днём, когда сидели за столом и тётя Поля, вовсю стараясь перед гостем, потчевала его то малиновым, то брусничным вареньем, Надя отметила про себя: что-то случилось с Сергеем. Припомнила их последнюю встречу, каким бравым молодцем сидел он с ней в привокзальном буфете… Нет, внешне, кажется, ничего не изменилось, как и тогда, он был разговорчив и весел, всё шутил с тётей Полей, нахваливал её варенье, просил на дорожку хотя бы полбаночки при холостяцкой, мол, жизни так славно чаю с вареньем попить, – и даже Любе попробовал подпевать, но Надя-то видела по глазам его совсем не весёлым: Сергей не в своей тарелке, что-то явно смущает его. Впрочем, не трудно было догадаться, что именно. Она понимала всё и не раз за этот вечер ловила на себе его нетерпеливо-вопросительный взгляд. «Так в чём же всё-таки дело?» – казалось, спрашивал он и ждал, когда же она объяснит ему это.
Была минута, когда ей взбрело в голову: взять и сказать ему… Да, мол, тот самый Алёша, который учился с вами, он и есть её, Любин отец… А почему бы и нет? Разве то, последнее, что сделал в своей жизни Алёша, разве это недостойно самой светлой памяти?
Нет, не сказала она об этом. Тётя Поля опередила, всё объяснила, всё поставила на свои места, и теперь он знал и как плутали они тогда, как прятались по кустам от немецких самолётов, и про Алёшу тоже, про то, как погиб он…
– А дочку эту, – дождалась, когда Люба выйдет из-за стола, уйдёт в другую комнату, – она себе аккурат в той малине и нашла. – Тётя Поля посмеивалась, отмахивалась от Нади, которая всё пыталась остановить её. – И нечего, нечего на меня брови-то хмурить! – Она вовсю старалась расположить гостя к Наде. – Пусть всё про нас знает, не чужой, чай, человек, сам поймёт, коли надо…
Сергей улыбался, подыгрывая захмелевшей тёте Поле, а та всё подкладывала и подкладывала ему на блюдце варенье.
Потом он стал собираться, сообщил, что завтра утром должен быть в Москве. И ещё сказал, что со дня на день будет решаться вопрос о его переводе в Волжск, с повышением по службе.
– Это что же за повышение такое? – полюбопытствовала тётя Поля. – Прежде считалось, ежели повышение, то уж непременно в Москву, а коль оттуда…
Сергей засмеялся, стал объяснять, что у них, у военных, вовсе не как у нормальных людей и что для дальнейшего продвижения по службе люди из Москвы готовы и ещё дальше уехать, а ему, считай, повезло: это ведь совсем рядом.
– Вот и ладно, и хорошо, – подхватила тётя Поля, – и к нам поближе. Другой раз, глядишь, и заглянешь… Чайку с вареньем попить. Варенье-то, вижу, любишь.
И смеялась, старая, и прятала в передник лицо, будто слёзы утирала…
8
Сентябрь пришёл. Аллеи в парке зажелтели от палых листьев, а над озёрами, свинцово-синими, в белых барашках, провисая от собственной тяжести, ходили такие же свинцово-холодные тучи. И солнце, хоть и яркое, но словно остуженное дыханием осени, свежими озёрными ветрами, не грело, не веселило душу.
В тот день тётю Полю в поселковую больницу свезли. Опечаленная разговором с врачом, Надя возвращалась домой. Болезнь, на которую так недвусмысленно намекнули ей, похоже, давно уже мучила тётю Полю. Но до болезней ли, до лечения ли ей было. Может, тем и жила, тем и держалась, что не сидела сложа руки, что все эти годы, и здесь, в Лугинино, и в Тетюшах, в эвакуации, – никто никогда не просил её, ни нарядов, ни распоряжений не давали и приказов на стенку не вывешивали – тащила все мыслимые и немыслимые тяжести, какие жизнь наваливала и наваливала ей на плечи. Будто проверить хотела: неужели и это сможешь, неужели и на этот раз устоишь, не согнёшься, не попросишь, чтобы пожалели? Не просила, не жаловалась – тянула.
– А я, как наша Машка, – бывало, говорила она, – ей нагрузи, она даже не оглянется, знай тянет свой воз. Вот такая она была. Ты ей только слова хорошие говори, она тебе и в гору и под гору. Вот и я тяну, пока тянется, а как встану…
Вот и снова осень пришла, ещё год, считай, пролетел, а Надя и не заметила. Подумала печально: не успеешь оглянуться – и бабий век… Успокоиться бы, а она туда же – в студентки опять подалась, в заочницы.
Как-то приехала в город, в полдня управилась с делами, время до поезда оставалось. Хотела сходить в кино – трофейный фильм как раз шёл «Девушка моей мечты», – но возле кассы толпилась уйма народу, и Надя повернула назад. Шла по набережной, не зная, не думая, куда и зачем идёт, миновала городской сад, вышла на центральную улицу с гремящими трамваями, а отсюда ноги будто сами понесли её – всё дальше и дальше, и она не удивилась даже, когда, повернув ещё раз-другой, увидела неподалёку знакомый двухэтажный дом – четвёртый от края – и лавочку у подъезда. Это сначала сбило с толку её: тогда, в тот приезд, – она хорошо это помнит – никакой лавочки здесь не было. Подошла к подъезду и всё поняла: лавочка-то новая, видно, недавно вкопали. «Всё так и всё не так, – подумала, – вот и лавочка опять появилась. По вечерам, наверное, старушки собираются, как и тогда, до войны, сидят, разговоры разговаривают, судят, рядят всех подряд: кто с кем, кто в чём, куда и зачем…»
И вдруг так ясно представилось, как будто это было уже однажды… как выходят они вдвоём из его подъезда – она в своей голубой кофточке с ажурной вставкой, в той самой, в которой тогда в клубе была, а он… Попробовала представить его в штатском – в светлых брюках и в такой же светлой рубашке – и не смогла: всё тот же курсант долговязый, в коротенькой, не по росту, гимнастёрочке, в кирзовых сапогах и без пилотки, стоит рядом и улыбается застенчиво, приглаживая ладонью свою стриженую голову. Вот они вышли из подъезда, и он, раскланявшись со старушками, не очень уверенно чувствуя себя под их любопытными взглядами, взял её под руку. Они идут, а за спиной старушки шепчутся: какая, мол, чудесная пара, и Варвара Васильевна, мать-то Алёшина, сама не своя от счастья ходит. Есть от чего: сразу две радости в дом заявились – сынок живой с войны вернулся и невестку хорошую в дом привёл. Ну, разве это не счастье! А они, взявшись за руки, с трудом сдерживая смех, бегут по улице, боятся опоздать на кинокартину «Девушка моей мечты»…
С минуту посидела на этой лавочке, а как будто жизнь прожила, будто в чьё-то чужое счастье заглянула, которое могло бы и к ней завернуть, да вот обошло стороной. Но, может, и на том спасибо, что всё-таки вспоминается. И так стало светло, так грустно и радостно до слёз от этих коротких минут, что подумалось вдруг: «Жить бы здесь рядом, ходить по этой улице, сидеть на этой лавочке, вот как теперь… И то уже счастье».
Эта мысль, ещё никак не сложившаяся, даже не мысль, а ощущение, желание додумать, досказать себе что-то важное, не оно ли позвало её дальше – с улицы Володарского к Студенческому переулку – тем самым маршрутом, каким когда-то чуть ли не каждый день ходила. Робея, как девчонка-школьница, вошла в знакомый вестибюль педагогического института, без труда отыскала дверь с табличкой «Приёмная комиссия» и заглянула в аудиторию. Всё оказалось проще, чем думала: в списках довоенных студентов по-прежнему значилась её фамилия, и она сохраняла свои права как студентка второго курса, а появившийся в аудитории знакомый преподаватель Александр Николаевич Лавровский, седоусый старичок, наводивший когда-то на Надю страх на зачётах по старославянскому, приглядевшись повнимательнее, узнал её и обласкал как блудную дочь, словно отпуская ей все грехи. И очень сожалел, когда узнал, что Надя решила перейти на заочное, но, выяснив все обстоятельства, растроганно и долго пожимал ей руку и приговаривал, как тётя Поля: «Ну, дай-то вам бог!»
Ах, тётя Поля, тётя Поля! Сколько раз ты просила у своего господа-бога, чтобы он был милостив и добр, чтобы дал силы и счастья, чтобы помог в беде, поддержал в горе! Не для себя, для других просила. А для себя… Вот попросить бы у него, чтобы за всё хорошее он хоть однажды отплатил тебе: послал бы здоровья.
С такими невесёлыми мыслями возвращалась Надя в тот день из больницы от тёти Поли. У самых ворот, на влажном после ночного дождя песке, заметила следы от автомобильных колёс: две рубчатые колеи уходили от ворот в глубь парка и поворачивали к её дому. А у крыльца стояла машина – та же самая, серого цвета, трофейная. Надя сразу узнала её. Подумала: «В такой день, как некстати…»
А Сергей уже шёл навстречу, уже махал ей рукой.
– Я всё уже знаю, – сказал он, – я был в учительской, и мне рассказали… Я тут привёз кое-что, свезём ей…
– Спасибо, – ответила она. – Зря вы всё это…
– Что зря? – удивился он.
И поглядел на неё с обидой.
А она и сама не поняла, почему так сказала. Видно, бывают минуты, когда кажется, что никто другой, кроме тебя самого, не поймёт, не сможет понять, что же с тобой происходит, а все сочувственные слова, чьё-то участие и внимание не утешают, не греют, наоборот, будто бы отнимают у тебя что-то. И вот сказала как сказалось, а объяснить не смогла.
– Да вот это всё, – чувствовала, как несправедливо обидно говорит ему, но и остановиться не могла, – и ваши приезды, и всё остальное. – Опустила голову, закрыла лицо руками, сказала тихо, упавшим голосом: – Простите меня, простите!
И в слёзы… На этот раз она даже и не пыталась сдерживать их. На крыльцо поднялась, спотыкаясь о ступеньки, и ключ под половичком еле отыскала, не видя замочной скважины, с трудом отперла дверь. Он задержался возле машины, о чём-то поговорил с шофёром, потом вошёл следом за ней в дом.
– Пожалуйста, не сердитесь на меня, – вытирая слёзы, попросила она, – я, наверное, совсем психом стала, – усталая и виноватая присела на диван. – С детьми забот не оберёшься, а теперь вот с тётей Полей беда…
– Может, мне поговорить с врачом? – с готовностью предложил он. – Может, лекарства нужны какие? Я дал бы команду…
Она молчала подавленно, не в силах ни говорить, ни подняться с дивана. Потом встала, хотела пойти на кухню, чтобы поставить чайник, но Сергей удержал её за руку. Снова усадил на диван, пододвинул стул и сел рядом.
– Так вот, – взглянув на часы, начал он решительно, – в моём распоряжении два часа… Люба ещё в школе? – Не понимая, не догадываясь, к чему он клонит, Надя кивнула головой. – Тем лучше. Пока соберёмся, она придёт. А все формальности… я беру на себя.
– Какие формальности? Куда соберёмся?
Надя никак не могла понять, что затевает он.
– Собираешься ты, – он взял её руку, сказал спокойно, как о решённом давно и окончательно, – а едем мы вместе: я, ты и Люба. Едем ко мне, домой. И никаких разговоров.
Глядела на него и не могла понять: шутит он или говорит серьёзно. А он уже встал и, полный решимости, уверенный, что разговор на этом закончен, заходил по комнате, словно прикидывал, с чего бы начать эти скорые сборы. Нет, Сергей не шутил, и теперь она понимала это. Другого не могла понять: как же он может? Ни поговорив, ни спросив у неё – хочет она или нет, – вдруг всё решить за всех. И – два часа на сборы… А тётя Поля? Только сейчас говорили о ней, будто всё понимал, сочувствовал даже, помощь свою предлагал, а теперь что же?
Она не знала, что ему ответить. И подняться не было сил.
– Сергей, ну зачем это всё, – сказала через силу, – в такое время…
Будто других слов и не было.
– А если другого времени нет, – он спохватился, видно, не то хотел сказать, стал объяснять торопливо: – Если у меня его нет, понимаешь. Я не хотел теперь говорить, думал, всё объясню, когда приедем… Через неделю я уезжаю, меня не будет два года, и я хочу… через два года хочу вернуться домой, в свою семью, в свою квартиру, хочу, чтобы ты ждала меня, понимаешь! Квартира есть, ты переедешь ко мне и будешь ждать меня… Ну, чего же тут не понять!
Она впервые увидела его таким – решительным, упрямым, заранее готовым не принимать ни отказов, ни возражений – и испугалась. Чего именно – сама не знала, но вдруг почувствовала: что-то в эту минуту уходит от неё. Или это она сама от себя уходит?.. Надо бы удержаться, устоять на этом крутом берегу, в этом сыпучем песке, который всё тянет её за собой.
– Я не совсем поняла вас, Серёжа, – тихо проговорила, – но это неважно, важно, чтоб вы меня поняли… Поймите, могу ли я теперь, могу ли вот так сразу? Ведь вы не в кино и не в гости меня зовёте, я так понимаю, да и не зовёте, скорее, командуете. Вроде как выходи с вещами строиться. Я не могу так, Серёжа, и вы не сердитесь. – Она словно упрашивала его, боялась обидеть. – А вы поезжайте и ни о чём не думайте, всё у вас будет хорошо. – Уловила его протестующий жест, сказала, будто в студёную воду шагнула: – Ну, а в конце-то концов подумайте сами… Разве в том дело, где вас ждут. Важно, чтоб всё-таки ждали.
Он больше не уговаривал её. Какое-то время молча сидел за столом, обиженный и озадаченный её словами, не зная, как принимать их: как обещание, что будет ждать, или же как отказ, который, жалея его, она не решилась сделать теперь.
А через неделю посылка пришла. Большой, крепко сколоченный фанерный ящик. Тот же шофёр привёз, солдатик знакомый, с которым Сергей уже дважды приезжал, затащил посылку на кухню, поставил на стол. Заметив недоуменный Надин взгляд, сказал коротко:
– От товарища майора. Приказано доставить и лично вручить.
И, бросив руку к пилотке, шагнул к двери.
В это время Люба прибежала из школы. Увидела посылку:
– А я знаю, откуда это, вот и знаю, – хитро поглядывала на Надю, – потому что мальчишки наши из окна машину видели, сказали, к нам приезжала. И ещё сказали…
Она замолчала. Сидела на кухне, на табуретке, болтала ногами, и что-то недоброе, дерзкое таилось в её глазах.
– Что же они сказали? – чуя неладное, спросила Надя.
– Что к твоей мамке… это к тебе, значит, опять жених приезжал. Тот, военный…
Надя почувствовала, что краснеет, и отвернула поспешно лицо, завозилась у стола.
– Лучше бы тряпку взяла да подтёрла, – кивнула на дверь, к порогу, где солдат-водитель натопал сапогами, – и не болтала бы лишнего…
– А это не я, между прочим, – Люба встала обиженная, направилась к двери, взяла тряпку у порога, – это всё Вовка. – И вдруг спросила с вызовом: – Что, не правда? Ведь правда? Ты же сама, сама говорила, что лучше нашего папки никого, что он… А сама…
– Замолчи! – не помня себя, Надя шагнула к ней, вырвала из рук мокрую тряпку, готовая замахнуться, но тут же опомнилась: что она делает, зачем это?! Стояла перед Любой растерянная, словно прощенья просила. – Ты не смеешь, ты не должна так говорить, потому что… Ты ничего не знаешь. И никакой он мне не жених. – Сама взялась подтирать тряпкой пол: только бы не видеть этих испуганных глаз. – Ведь ты сама, – продолжая возить тряпкой по полу, говорила она, – ты же так хорошо тогда с ним… А эта посылка, – она только сейчас нашла для себя оправдание, – он же не мне, а тёте Поле, тебе её прислал…
Вечером, тихая и виноватая, Люба подошла, склонила голову ей на плечо.
– Ма, не сердись, – сказала заискивающе, – это же Вовка всё, а я… я ведь как ты, как тебе лучше. – И вдруг предложила: – Может, откроем посылку, посмотрим хотя бы, что там?
– Глупая, – Надя притянула её к себе, обняла, прижалась щекой к её голове, и так хорошо, так спокойно стало – от этой близости, от живого тепла, от запаха светлых волос, такого знакомого, родного запаха, то ли малины спелой, то ли свежего сена, а может, и того и другого. Вспомнила тёти Полино – про малину – и улыбнулась: и верно, будто в малине нашла…
Отыскали отвёртку, клещи и кое-как отодрали прибитую гвоздями крышку. Открыли ящик и ахнули: чего там только не было! И колбаса копчёная, и сахар, и банки консервные с диковинными крабами, и печенье, и даже шоколад… Принялись разбирать посылку.
– Это тёте Поле, это тоже ей, – вдохновенно хозяйничала Люба. – А это нам с тобой, а это можно в школу, девчонок угощу. Ну, дядя Серёжа!..
«Ах, Люба, Люба, – с неясной тревогой подумала Надя, – что ж дальше-то с нами будет?»
9
– Ма, расскажи мне о нём?.. Что помнишь, то и расскажи, а? – О ком?
– Ну, о нём… который отцом моим был… Сколько раз прошу, а ты всё одно: смелый, герой… Ну, а какой?
Люба и прежде озадачивала её вот такими вопросами, и Надя, уже готовая ко всему, говорила привычное, что прежде всего приходило в голову. «Да, – говорила она, – он был настоящим героем… – И как откровение, зная, что именно эта подробность особенно интересна Любе, добавляла: – Хотя с виду, на первый взгляд, вовсе и не подумаешь, что он такой. Правда, высокий был, вот как дядя Серёжа, только у дяди Серёжи плечи – во! А у него… Худющий был, но тоже сильный, как спортсмен. И очень застенчивый. Что-нибудь спросит, скажет мне слово и засмущается, как красна девица…»
Вот и всё. А что ещё она могла рассказать? Но Любе-то этого было мало. И она приставала снова:
– Ну, а как вы с ним познакомились? Кто из вас кого раньше увидел, ты его или он тебя?
– Да я уж и не помню, – выкручивалась Надя, – столько лет прошло. Помню, что мы в кино с ним познакомились… Нет, вру, – спохватывалась она, – в кино-то мы действительно были, даже сидели рядом, но я не с ним, а с подругой пришла, и его не заметила, потому что темно было…
– А познакомились-то как?
– Познакомились? – Надя молчала озадаченно, начинала придумывать на ходу. – Это потом уж, после кино. На другой, кажется, день… в нашем парке. Он первый и подошёл. – С этой минуты она начинала обманывать Любу и до того увлекалась порой, что и самой уже казалось, будто так всё и было тогда. – Подошёл и говорит: «А вам понравилась вчерашняя картина?» Это он про фильм вчерашний. А я ему: «А вам?..»
– А какое кино-то смотрели? – Любе и это надо было знать.
– Старая картина, довоенная. «Сердца четырёх». Так мы и познакомились.
Больше года о Сергее не было ни слуху, ни духу. Где он, что с ним – Надя не знала. То смутное ожидание, в котором, не признаваясь себе, она пребывала всё это время, постепенно приутихло, и она, успокоенная, говорила себе: ну и ладно, сколько ж можно…
И вдруг – это письмо. Она и не думала, что оно так обрадует её. Не сумев скрыть от глазастой Любы нечаянную свою радость, она решила не делать тайны из этого письма. Тут же распечатала конверт, собираясь, если не всё, то хоть что-то в этом письме прочитать вслух – для неё, Любы. Была уверена, что там найдутся такие слова… Но уже с первых, бегло прочитанных строчек поняла: письмо предназначалось ей одной.
«Надежда моя! – писал он. – Хочу, чтобы ты поняла и поверила… Нет, это не мальчишество, не дань далёкому мимолётному чувству, это совсем другое. Это серьёзно и навсегда. У меня было достаточно времени – больше, чем мне хотелось бы! – чтобы проверить его и понять самого себя. Мне нужно многое сказать тебе, но это при встрече, а пока… Прошу об одном: дождись меня. Теперь уж недолго.
Твой Сергей».
Дочитав письмо до конца, она вложила его в конверт. Сказала Любе:
– Это от дяди Серёжи.
– Я догадалась, – холодно ответила та. – Будешь писать – привет ему пламенный.
И убежала в школу.
А она, как девчонка, стыдясь своего нетерпения, снова достала письмо из конверта. «Как странно, – думала она, – ведь я ещё ни разу не получала ни от кого таких писем, за всю жизнь мне впервые признаются в любви…» Читала и перечитывала это коротенькое письмо и не могла понять, откуда Сергей прислал его. На конверте был только номер полевой почты, и она долго крутила, разглядывала красивый конверт, пока наконец не разобрала надпись на штемпеле: поняла, что письмо пришло из Германии. Вот где он, оказывается.
Через неделю после этого письма снова посылка пришла. На этот раз не раздумывали – открывать или нет… Открыли и весь вечер потом крутились перед зеркалом, примеряя заграничные платья. Охали, дивились, глядя друг на друга, на новые платья, которые – ну, надо же угадать! – им обеим впору пришлись. А Люба в красном платьице с белым воротничком прыгала от радости перед зеркалом и хлопала в ладоши:
– Вот здорово, ну и дядя Серёжа! Мам, а в школу на ёлку так можно?
– Может, не стоит, – осторожно, не желая испортить праздник, сказала Надя.
– Нет, стоит, – заупрямилась Люба, – моё платье, когда хочу, тогда и ношу.
– Твоё, я не спорю, но понимаешь… Ты одна придёшь на ёлку в таком нарядном платье, и все будут завидовать тебе. Хорошо ли это?
– Ну и пусть завидуют, а мне-то что.
– А если бы дядя Серёжа прислал его не тебе, а кому-то другому, ну, скажем, твоей подруге, и она надела бы его. Что бы ты подумала о ней?
– Но ведь он мне прислал…
– Господи, Люба, – Надя не на шутку начинала сердиться, – ну, откуда у тебя это?
– Что – это? – Надя видела в зеркале её обиженное лицо.
– Почему ты такая?.. Или и в самом деле не можешь понять?
– Какая есть. Такой уж вы и нашли меня… в той малине.
10
…Уже сидя в машине, закрыв лицо руками, Надя шептала сама себе: «Что же я делаю, куда еду, зачем? Что с нами будет-то?» И всё боялась оглянуться, боялась посмотреть в окно…
Себе-то сказала, а вот ему… Да он бы и слушать её не стал! С таким, какой появился он тогда – счастливым, сияющим, готовым и в самом деле, как он сказал ей, нести её до самого Волжска на руках, – ну, можно ли было говорить с ним о чём-то, стал бы разве он слушать её, принял бы всерьёз её сомнения!
А в Волжске – сказка, да и только! – их ждала большая трёхкомнатная квартира, в которой и мебель была уже расставлена, правда, наспех ещё, и ковры, ещё не разостланные, свёрнутые в рулоны, лежали в коридоре, и красивый радиоприёмник – Сергей Васильевич как вошёл, сразу включил его – весь светился огнями, помигивал зеленоватым кошачьи глазком, то затухая, то разгораясь, и уж совсем как в сказке – пианино. Красивое, коричневого цвета, с замысловатыми бронзовыми подсвечниками, а рядом стульчик круглый, вращающийся на ножке… Люба как села на этот стульчик, так и провертелась до вечера, бренча по клавишам.
Весь день, а потом и другой, и третий Надя будто во сне ходила по этим комнатам, робко прикасаясь к ещё чужим вещам, которые теперь должны были стать её вещами, открывала ящики шкафов и комода, который Сергей Васильевич называл сервантом, передвигала кресла и стулья, и снова, смущаясь и охая от восторга, разворачивала один за другим ковры и любовалась ими, то и дело ловя мимоходом радостно-самодовольную улыбку мужа, который ходил по пятам. И что-то очень знакомое, помнится, чем-то смутившее её однажды, угадывалось ей и в этой улыбке, и в том, как расхаживает он по своей просторной квартире – в мягких домашних тапочках, в спортивном костюме, а как будто при полном параде. Вспомнила: их первая встреча, привокзальный буфет, и он, как победитель, за столом… Он и теперь ходил победителем.
Но только это и смутило её. Да и то подумала тут же – сама хороша: приехала в рай, приняла всё как есть, будто с неба ей это недвижимое счастье свалилось, а за что?
В тот первый вечер, уставшая от хождения по квартире, от удивлений на каждом шагу, от этих нежданных, словно обрушившихся на её голову перемен, она устало опустилась в кресло, спросила:
– Ну зачем мне это всё? Ты пойми, мне ничего от тебя не нужно: ни ковров этих, ни серванта… Мне трудно будет жить среди этих вещей… с этими вот узлами, – она кивнула головой к порогу, где так и стояли ещё неразобранные чемоданы, а на них два узла. – Как беженцы или погорельцы. Ну, в самом деле, за что?
– Да ни за что, – с горькой усмешкой, обижено ответил он. – Ну, хочешь, выкинем это всё, если тебе мешает. – Обвёл рукой комнату с мебелью, с картинами, развешанными по стенам. – Хоть завтра, хоть сейчас. Начнём с голых стен. Если, конечно, к самой квартире у тебя нет претензий. Если только в этом дело…
Полусонная, потирая кулаками глаза, Люба выглянула из своей комнаты:
– А вы всё сидите? И я с вами, а то мне страшно одной. И диван этот дурацкий какой-то, мягкий очень…
Сергей Васильевич рассмеялся:
– Вот уж воистину, мягко стелем, да жёстко спать.
Поднялся с кресла, с папиросой в зубах пошёл на кухню. Даже по спине, ссутулившейся вдруг, поняла, что обидела его.
В глубине чёрного деревянного футляра, в высоких, от пола до потолка, часах, стоявших в углу гостиной, глухо зарокотало, а потом пробило двенадцать раз.
Они улеглись на одном диване, Люба и Надя, лежали и слушали, как бьют за стеной большие часы. «Раз, два, три», – отсчитывала Люба. «Так в чём же дело? – спрашивала Надя себя. – В чём?..»
И не знала, что ответить.
11
А жизнь устраивалась – лучше некуда. Сергею Васильевичу звание подполковника присвоили, это в тридцать-то лет, а Люба уже в восьмой перешла. И в музыкальной школе при явных способностях, о которых в один голос говорили учителя, дела у неё шли хорошо. «У вашей дочки, – сказали однажды в школе Надежде Ивановне, – прекрасное будущее. Только ленива она, заставляйте её работать…»
«У Любы будущее, – радуясь и печалясь одновременно, говорила она себе, – а у меня?.. Три курса пединститута и незаконченный четвёртый… А дальше что?»
Той же осенью, переехав в Волжск, она, несмотря на уговоры Сергея Васильевича не связывать себя со школой, с этой нервотрёпкой, с вечными тетрадками, настояла-таки на своём: устроилась на работу – повела первый класс. Нагрузка после той, что была в детском доме, – и сравнивать нечего, но ей и того хватало. Другая радость с некоторых пор грела: её дом, её семья…
Она любила возвращаться из школы домой, в свою уютную, всегда прибранную квартиру, привыкала и к красивым трофейным, из Германии привезённым вещам, которые вместе с ней приживались на новом месте, в этих комнатах, становились необходимой частью её новой жизни, и к бою часов, всегда такому неожиданному, раскатистому, и даже среди ночи, когда за стеной в большой комнате удар за ударом часы начинали выстукивать время, она подсознательно, пробуждаясь вместе с часами, отсчитывала его – будто в ней самой работало какое-то устройство или механизм какой-то, который отмерял её жизнь в этом доме.
И все заботы по хозяйству стали ей в радость, хотя и было-то их не так уж много: сварить да накормить, сперва Любу, потом его… Его – это Сергея Васильевича. Это Люба с некоторых пор почему-то стала называть его так. «А он уже обедал?» – спросит, бывало, и кивнёт на дверь. «А он не приходил?» Всё он да он.
– Господи, Люба, – не удержалась Надя однажды, – будто у человека имени нет. – Ей и в самом деле обидно стало. – Никто же не просит тебя называть его отцом, хотя…
– Ну что, что «хотя»? – подхватила Люба. – Что же ты замолчала?
– Другой отец перед родной дочкой не постарается так, как он…
– Ага! – с радостным ехидством ловила та. – Вот видишь, сама же говоришь – он…
– Прошу тебя, тише! И не цепляйся к словам, он для нас всё готов сделать, а ты…
– А что я? Я и сама знаю, что Сергей Васильевич, – Люба с особым старанием произнесла его имя и отчество, – очень добрый и очень любит тебя. Вот, видела? – показала новенькие часики на руке. – Хотел к Восьмому марта, а я выпросила…
– И не стыдно? – Надя осуждающе покачала головой.
А она, как ни в чём не бывало, кричала ему из кухни:
– Дядя Серёжа, мама ужинать зовёт.
Иногда он уезжал в командировки, но теперь не так далеко да и не надолго, на день-два, чаще в Москву. Возвращался как после многолетней разлуки, всегда с подарками, смущая Надю своей безудержной ласковостью, откровенным, по-юношески пылким порывом. «А знаешь, Надюша, – в такие минуты признавался он, – вот еду домой и радуюсь… Нет, хорошо, чёрт возьми, когда тебя дома ждут. Ждала ведь?..»
И глядел на неё долгим вопросительным взглядом, желая, чтобы и она сказала ему: ну, конечно, ждала.
Вот говорят: стерпится-слюбится… Нет, не испытывала Надя своего терпения, живя с ним эти годы, и не через терпение, конечно же, пришла она к этому спокойному, ровному чувству, похожему на привычку быть благодарной человеку, который любил её. Вот и одеколон этот «Красная Москва», теперь и он нисколько не раздражал, потому что это был его любимый одеколон, его запах, такой же привычный, как и другой – от папирос «Казбек», которые он курил. В те дни, когда муж бывал в отъезде, она скоро начинала скучать без него, а вечерами, лёжа в постели, думала о Сергее с тревогой: где он сейчас, не случилось ли с ним чего?
Она и тут не сразу призналась себе, хотя куда от себя денешься: да, она ревновала его. Ревновала странно – неизвестно к кому. Наверное, ко всем сразу, с кем мог он быть в ту минуту, в тот час, когда не был с ней.
Знал ли он об этом? Пожалуй, нет, потому что однажды, на вечере в Доме офицеров – там-то она и заметила, с каким интересом женщины посматривают на него, – на этом вечере, танцуя с ней, он шепнул ей на ухо:
– Ты бы хоть поревновала меня… для порядка.
– К кому? – спросила как-то уж очень спокойно и огляделась по сторонам, будто до этой минуты и не замечала никого вокруг.
– К кому-нибудь, – сказал он, – вон их сколько.
– Пусть они и ревнуют, – ответила и вдруг почувствовала, как тоскливо и беспомощно заныло сердце. Как перед бедой, от которой, случись она, ей уже не спастись.
Он засмеялся тогда и сказал:
– И правильно. Ты всё равно у меня лучше всех.
Но с какой неохотой собиралась и шла она в другой раз в этот Дом офицеров. Шла из-за него, потому что знала, как любит он эти шумные вечера, весёлые компании офицеров, среди которых он и сам оживал, был весел и остроумен и нравился своим друзьям.
Бывало, собираясь на вечер, говорил:
– Надюш, исполни моё желание…
Она уже знала, о чём он попросит её, и доставала из шкафа длинное тёмно-вишнёвое пан-бархатное платье, то самое, что он прислал ей однажды под Новый год. Это платье она почти не носила, не только потому, что ходить в нём особенно было некуда – в Дом офицеров по праздникам да в местный театр два-три раза в год, – она не любила его. И Любе, она знала, это платье тоже не нравилось, и та, смеясь, называла Надю «пышной дамой». А уж какая пышная, кожа да кости. Хотя в последний год пополнела немного, и лицо, всегда такое усталое, с маминой заботой в глазах, будто помолодело, разгладились старившие её морщинки у глаз, и Люба, как-то застав её возле зеркала, сказала удивлённо, будто впервые это увидела:







