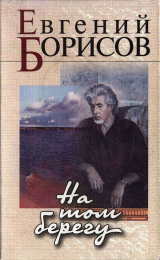
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
Было около семи, когда мосфильмовский автобус, петляя по лесным просёлкам, выбрался наконец на широкую и светлую поляну и остановился в реденьком березнячке. Первое, что увидела Нина Владимировна из окна, – с десяток танков и других военных машин, ровным порядком выстроившихся на противоположном краю широкой поляны, возле леса. На поляне и в березнячке, там, где остановился автобус, были разбиты армейские палатки; тут и там ходили люди в гимнастёрках, их было много, и в этот ранний час они вели себя не по-армейски вольно: одни беззаботно разгуливали по лесочку и, кажется, даже собирали грибы, а другие, развалившись на травке, подрёмывали под утренним, ещё нежарким солнышком.
В открывшуюся дверь автобуса вдруг резко пахнуло удушливой гарью – так пахнет недавним пожаром. Выйдя из машины и оглядевшись, Нина Владимировна приметила в стороне, почти у самого берега Волги, пять или шесть обуглившихся дочерна труб, зловеще и странно торчащих над пепелищами, и вид этого ненатурального пожарища не вязался в сознании Нины Владимировны с чудесным августовским утром, с чистым небом и зелёной травой на приречной луговине, обезображенной бутафорскими развалинами.
Человек десять уже суетились возле пепелища, тянули длинные, чёрными змеями ползущие по траве кабели, расставляли огромные вспыхивающие на солнце зеркала, о чём-то кричали громко и суматошно друг другу. Видимо, это и была съёмочная площадка, на которой Нине Владимировне очень скоро предстояло сниматься.
Подбежала Зиночка, заторопила:
– Быстро в костюмерную палатку. Потом к гримёрам. И, ради бога, никуда из автобуса. Вас позовут.
Через десять минут, путаясь в длинной, до самой земли, тёмной юбке, в огромных сапогах и в изрядно потрёпанной, прожжённой на рукавах телогрейке, накинув на плечи старенький застиранный платок, Нина Владимировна перешла из одной палатки в другую, и женщина-гримёр, пожилая, то ли невыспавшаяся, то ли усталая, усадила её перед зеркалом и, вздохнув с явным сочувствием, словно жалея Нину Владимировну, с обречённым каким-то видом принялась гримировать её; обращаясь к зеркалу, она глядела пристально и подолгу на своё собственное отражение, будто примеряла его к лицу актрисы, а потом снова бралась за грим и наводила густые морщины на лбу и под глазами у неё.
Нина Владимировна сидела, прикрыв веки, долго не решалась взглянуть на себя, но потом всё-таки взглянула и тихо, испуганно ойкнула: незнакомая женщина со страшным, будто обуглившимся лицом взирала на неё из зеркала испуганными, странно знакомыми глазами. После этого Нина Владимировна уже не решалась глядеть на себя. Сидела и страдала молча.
Дело уже подходило к концу, когда женщина-гримёр, всплеснув руками, воскликнула:
– Батюшки светы, а маникюр-то! Забыла убрать маникюр. И вы молчите. – Она с укором взглянула на Нину Владимировну, кивнула на её ярко накрашенные ногти: – С такими ноготочками какая же из вас погорелица?
Маникюр было жалко; Нина Владимировна, отставив ладонь, последний раз полюбовалась на свои пальцы и, вздохнув обречённо, протянула гримёрше:
– Искусство требует… Стригите.
– Вот и ладно, – почему-то обрадовалась гримёрша, – небось не последние.
И тут же взялась за ножницы.
В палатку в это время влетела Зиночка. Бросив быстрый взгляд в зеркало, она в ужасе замахала руками:
– Марь Пална, что вы с ней сделали! В гроб и то краше кладут, а нам ещё в эпизоде сниматься надо. Уберите всё это, оставьте лёгкий тон и седые волосы, а остальное посмотрим на месте.
– Господи, – сказала благодушно Мария Павловна, – велика беда. Это меня уже краше не сделать, а её…
На «омоложение» ушло ещё минут десять. За это время что-то произошло там, на съёмочной площадке: всё громче становились доносящиеся оттуда голоса, слышались обрывки команд, усиленных мегафоном, какое-то торопливое движение угадывалось рядом, за брезентовой палаточной стеной… И вдруг один за другим взревели десятки могучих моторов; дрожь прошлась по палатке, как будто сильный порывистый ветер, разогнавшись от реки, налетел на неё. Гулко и часто задрожала земля под ногами.
– Ну, началась война! – объявила Мария Павловна. – Больше месяца воюем, а конца не видать.
Придерживая рукой подол, Нина Владимировна вышла из палатки и, помня наказ Зиночки – не отлучаться никуда, – подошла к автобусу. Судя по всему, ждать ей оставалось недолго, и эти последние перед съёмкой минуты были очень нужны Нине Владимировне – хотелось отгородиться от этого грохота, от шума голосов, от незнакомых глаз, хоть ненадолго, на несколько минут остаться одной, забыть обо всём суетном и мелком, что назойливо и некстати лезло в голову именно теперь, и постараться вернуть то мимолётно посетившее её ощущение, которое пережила она вчера… Вчера ей показалось, что она смогла понять, почувствовать ту женщину, сумела ухватиться за кончик той самой невидимой ниточки, которая пусть зыбко, пусть ненадолго, но всё же как будто соединила их, а вот теперь, затуманенное бессонной ночью, сомнениями и тягостным, нетерпеливым ожиданием, оно, это ощущение, угасло в ней и забылось, и надо было снова разжечь притухший огонёк.
Поднявшись в салон пустого автобуса, Нина Владимировна прошла и села на одно из задних кресел. Коротенький текст давно и прочно прижился в ней, но вечный этот страх – а вдруг забуду! – вновь и вновь заставлял её нашёптывать, по-школярски заучивать слова. «Вот здесь, – шептала она, – здесь и стоял наш дом, а рядом под окнами был сад вишнёвый, и в том саду бегали мои мальчишки. Их было трое у меня. А за дворами стоял амбар, и нас согнали туда, всю деревню, и старых и малых, и запалили со всех краёв. И мы горели заживо в том амбаре. Сгорели все, только я да Нюрка Новикова, моя соседка, остались. Нюрка-то вчера померла, а я вот живу. Мне нельзя помирать, мне жить надо, чтобы людям, всему свету рассказывать, как с нами было…»
Она всё видела перед собой: и этот дом, и сад вишнёвый, а в саду – весёлых белоголовых ребятишек, и один из них был как две капли похож на её Димку… Из головы не шёл тот сад; с ним назойливо и неотступно почему-то вязался другой – чеховский, спектакль, в котором она играла когда-то, и это было вовсе некстати, это мешало Нине Владимировне, и, не желая того, она невольно пыталась отыскать хоть какое-то объяснение этой странно возникшей связи и не могла: слишком далеки они были друг от друга, два этих сада, слишком разные были эпохи и люди, разумеется, тоже разные. Только и было общего – этот сад. И в ту и в другую пору росли в том саду вишнёвые деревья, они зацветали по весне одинаковым цветом, а в конце лета на них поспевали вишни, и не было тем деревьям никакого дела, когда и в какую эпоху цветут они и что за люди ходят под их ветвями и срывают с них спелые ягоды.
И ещё… Кого-то радовали они, в кого-то вселяли надежду, потому что во все времена люди сажали и выращивали сады, и считалось, наверное, что чем дружнее растёт сад, тем надёжнее и прочнее должна быть жизнь на этой земле. А сад, выходит, был как надежда. Разные времена, разные люди и надежды, конечно, разные, но радость от всего этого – от бело-розового цветения, которого всегда ждёшь, – она всегда и для всех желанна.
«Вот и я, – вдруг подумалось Нине Владимировне, – ведь и я тоже живу этим ожиданием. Жду и надеюсь. Жду новой роли, а потом выхаживю её, как садовник любимое деревце, и живу надеждой, что не увянет, расцветёт оно и порадует кого-то своим цветом, плодами своими. И так всю жизнь, наверное: и сладко, и мучительно, как материнство…»
Кто-то искал её в это время. Неужели пора! Нина Владимировна поднялась и вышла из автобуса. К ней подбежала женщина, одна из тех, что помогала ей одеваться в костюмерной палатке.
– Извините, – сказала она, – нам сапожки ваши понадобились. На время. Переобуйтесь, пожалуйста.
Нина Владимировна тут же, присев на ступеньку у двери автобуса, сняла сапоги, даже обрадовалась – так хорошо было хоть на время вылезти из этих тяжеленных и жарких сапог и походить босиком по траве. Она и босоножки свои обувать не стала, решила: пусть отдохнут ноги… Женщина, подхватив сапоги, ещё раз извинившись, убежала. Но не прошло и двух минут, как воротилась снова и, ещё больше смущаясь, извиняясь перед Ниной Владимировной, попросила платок. Нина Владимировна стянула с плеч платок, отдала его женщине, а сама подумала при этом, что время её, как видно, ещё не настало.
А на площадке тем временем уже вовсю шла работа. Оттуда то и дело к палаткам прибегали чумазые, в потемневших от пота гимнастёрках солдаты, они торопливо заглядывали то в одну, то в другую палатку, просили воды, а потом, отыскав в тенёчке стоявшее ведёрко, кидались к нему, хватали обеими руками и, запрокидывая головы, жадно и торопливо пили прямо из ведра. Ведро ходило из рук в руки, вода лилась через край, солдаты по очереди припадали к железному краю, охали и крякали от удовольствия и, вытирая на бегу пилотками разгорячённые лица, спешили назад, к площадке. Как будто в бой торопились.
А солнце уже поднялось над лесом, стоявший за кустами автобус оказался теперь на самом солнцепёке, сидеть в нём было душно и жарко. Нина Владимировна, хотя ей и было сказано не отлучаться никуда, не выдержала – решила подойти поближе к съёмочной площадке. Столько слышала и читала о кино, о том, как снимаются картины, но вот самой ни сниматься, ни даже видеть, как это делается, ей не приходилось, к тому же и сидеть на месте, жариться под солнцем в этой стёганке было уже невмоготу. И она пошла по тропинке.
Несколько женщин – рабочих из киногруппы, реквизиторши и одевальщицы, стояли неподалёку и наблюдали за происходящим на площадке. Нина Владимировна подошла к ним, остановилась. Отсюда до площадки, где толпились солдаты, было метров тридцать, не больше, и Нина Владимировна отчётливо услышала команду:
– Массовка, внимание! Мотор!
Толпа в солдатских гимнастёрках пришла в движение; теснясь, прижимаясь друг к другу плечами, солдаты стали двигаться, как бы замыкая невидимый круг, и было видно со стороны, как посерьёзнели, насупились их ещё совсем мальчишеские лица, словно всем им была дана команда хмурить и сурово сдвигать брови. И они с великим старанием теперь выполняли её.
С тихим, едва уловимым стрекотом заработала камера. Съёмка началась. Но что снимали, что происходило там, за живой, всё теснее сдвигающейся стеной, этого Нина Владимировна, как ни старалась, как ни приподнималась на носки, разглядеть не могла.
А две соседки – в одной из них Нина Владимировна узнала свою гримёршу – меж тем толковали о чём-то.
– Вот я и думаю, – словно удивляясь чему-то, говорила одна, – откуда у людей что берётся? Талант это или что другое? Вон как она, почище всякой артистки выводит! Это ж надо! Где хоть отыскали такую?
– А здесь вот и отыскали, – откликнулась другая, – вон в той деревне. – Она кивнула головой в сторону леса, за которым, наверное, и была деревня. – Говорят, наш главный-то сам чуть свет прикатил сегодня, по домам ходил, с колхозницами разговаривал, вот и отыскал. А у неё, у этой-то, судьба, говорят, очень схожа с той… ну которую в кино изображают.
– Бывает же на свете! – опять подивилась первая. – А мы потом в кино придём, будем глядеть и гадать, что это за актриса такая…
– Вот я и говорю… Сколько таких артисток народных после войны по нашим городам да деревням осталось, хоть каждую в кино снимай, всю жизнь ихнюю, и ничего придумывать не надо. Разве придумаешь такое! Нет, не в таланте тут дело, не только в нём. Не переживши, не переплакавши, даже с большим талантом так не сыграешь небось.
– И то верно, – согласилась первая.
Нина Владимировна невольно прислушивалась к их разговору, но поначалу никак не могла взять в толк, о ком это говорят они, какую такую женщину, которая «почище всякой артистки», они имеют в виду. Но в это время то ли ветром с площадки донесло, то ли тише стало… услышала Нина Владимировна чей-то плач… Нет, не плач, скорее, причитание. Причитала женщина, но её самой не было видно за плотно сомкнувшимися спинами солдат – оттуда и прорывался этот голос, странно поманивший к себе Нину Владимировну. Такая знакомая боль, такое близкое отчаяние вдруг услышались ей в том причитании!..
«Что же это такое? – в непонятной тревоге спросила себя Нина Владимировна. – Почему мне знаком этот голос, где я могла слышать его? Я же определённо всё это слышала, но где, когда?..»
И, словно забывшись – где она и зачем? – Нина Владимировна пошла на этот голос. Она подошла совсем близко, наверное ближе, чем следовало, потому что кто-то от аппарата, беззвучно шевеля губами, предостерегающе махал ей рукой, требуя остановиться, но она ничего не видела и не слышала, кроме голоса, взлетающего над головами солдат. Она остановилась за их спинами и в образовавшемся просвете, между стрижеными солдатскими затылками, меж лихо сдвинутыми набекрень пилотками, увидела женщину, пожилую колхозницу… Тёмный выгоревший платок сполз с её головы на худые плечи, редкие седые волосы собрались на затылке в жалкий, похожий на махонькое птичье гнёздышко узелок, и вся она, маленькая, с тонкими, угловато изломанными, будто оголившиеся по осени ветви, руками, представилась Нине Владимировне низкорослым иссохшимся деревцем, увядшей вишней в опустевшем, сожжённом саду.
– Вон там, – рука женщины взметнулась над головой, – там он и стоял, наш дом. И сад у нас был. Такой расчудесный был сад, чистый вишенник. По весне, бывало, глянешь, сердце так и мрёт, и так светло, так радостно было в нашем саду, точно в храме…
Она замирала на миг, будто и впрямь в эту минуту к ней как далёкое видение возвратилась её прошлая жизнь и она вновь видела перед собой тот сад в белом цвету; она глядела туда, в невозвратную даль, а солдаты, что, окружив её, стояли рядом, вертели головами, невольно отыскивали взглядами и не могли отыскать ни того дома, ни сада, и натуральная, живая скорбь отражалась теперь на их посерьёзневших лицах.
– Думали, всю жизнь так и будет, как в том саду, – печалилась женщина, – и жили бы, чего ж не жить… А он и грянул, проклятый, и всю жизнь нашу, как тот сад, под корень… И детишек моих, всех до единого, и всю деревню… И вот я обращаюсь к вам, христом-богом прошу, изничтожьте его, ирода, отомстите за поругание, за слезу мою горькую, за кровинушек моих…
Она снова запричитала, и голос её, словно крик раненой птицы, метался над головами солдат, над обгорелыми бутафорскими трубами, над широкой этой поляной, залитой ярким августовским солнцем. И всё уже ясно стало Нине Владимировне, к тому же и платок этот, и сапоги огромные, что были на той женщине, она узнала; всё поняла она теперь и что-то конечно же пережила, почувствовала при этом – и обиду, и горькое сожаление… Ну что же это, в самом деле! Ведь не девчонка она, чтобы вот так… Она же не напрашивалась на эти съёмки, её пригласили, привезли сюда, а что вышло!.. Измученная, невыспавшаяся притащилась к гостинице спозаранку, уехала от сына, которого ещё и повидать-то не успела, два часа торчала в пропахшем бензином автобусе да ещё вырядилась не по своей, по их же милости пугалом огородным, без маникюра осталась… Мучилась, волновалась, готовилась…
Слёзы обиды, подступив щемящим комом к горлу, душили её, она с трудом удерживала их. Но это длилось с минуту, не больше. Близкая обида, сломленная навалившейся вдруг усталостью, стала усмиряться, отступать, и уже не было слёз – какое-то странное, незнакомое чувство, похожее на удивление, оживало в ней. Словно приговорённая к одной, общей с той женщиной муке, Нина Владимировна продолжала стоять неподвижно и, не отрывая глаз, глядеть на неё; она и верила и не верила в то, что на самом деле могло случиться такое… Вот она, Нина Владимировна, стоит здесь, всё видит и слышит со стороны, а у неё такое чувство, будто её невидимыми слезами плачет та незнакомая женщина, будто её невысказанные слова вырываются из другого, исстрадавшегося и осиротевшего сердца.
Нет, теперь она не жалела о том, что так вышло, она вообще ни о чём не жалела. И правы те женщины: разве смогла бы она вот так – не пережив, не перестрадав – и страдать, и заклинать, и просить отмщения!
И словно легче стало. Будто тяжёлая ноша свалилась с плеч. Она честно несла её, пока нужно было, и теперь никто не упрекнёт её в том, что у неё не хватило сил и терпения, что она испугалась этой ноши, взяла и сбросила её посреди дороги. И ей самой некого винить, потому что всё вышло так, как надо.
А съёмка тем временем продолжалась, и руки женщины по-прежнему взлетали и метались над пилотками солдат, и так же тревожно, с отчаянием и болью, вырывался голос из её груди.
Уходить нужно было. Идти в палатку, переодеться, снять поскорее этот страшный грим и при первой же возможности уехать в город, домой, к сыну. Но что-то держало её здесь, не отпускало…
Потом случилось вот что… Откуда-то из-за кустов, прорвавшись между солдатскими сапогами, на площадку выскочила собака. Чёрная, как головешка, она метнулась к той женщине, подбежала к ней, радостно виляя хвостом. В это время чей-то голос крикнул азартно:
– Снимай с собакой! Собака нужна!
Нина Владимировна повернулась на этот крик и увидела человека в ковбойке и в чёрных очках. Он стоял неподалёку от оператора, который, прильнув к глазку камеры, видимо, ловил этот кадр с собакой. Нина Владимировна узнала режиссёра Горелова.
Оператор уже снимал кадр с собакой: чёрные, торчащие над пепелищем печные трубы, женщина в чёрном и чёрная собака – всё, что осталось от сожжённой фашистами деревни, – когда кто-то из солдат, не оценив случайного эффекта, поднял с земли то ли камень, то ли головешку и запустил в собаку. Та тявкнула и, обиженно поджав хвост, отбежала в сторону.
Дело было испорчено. Разгневанный режиссёр потребовал убрать из массовки виновника, но его не могли найти, он затерялся в толпе солдат. Съёмки остановились. И только женщина всё не могла остановиться. Она по-прежнему причитала, всё грозила, потрясая маленькими кулачками, своим давним и пожизненным обидчикам, всё просила отмщения и звала домой своих сыновей, и было жутко слышать этот словно из далёких и страшных дней летящий крик.
– Всё, мамаша, – оператор подошёл к ней, тронул за плечо, – отснимались. Кончилось кино. Всем спасибо!
Но она как и не слышала его: всё причитала, причитала…
Босая, простоволосая, заплетаясь на каждом шагу в длинной крестьянской юбке, Нина Владимировна возвращалась к автобусу. Она шла по тропинке и плакала, и слёзы, туманя глаза, текли по её густо загримированному лицу.
Голос той женщины ещё долго догонял её.
САМЫЕ ТЁПЛЫЕ ЗВЁЗДЫ
Моей матери Антонине Георгиевне
Где-то далеко-далеко, в потревоженном войной детстве, осталось заплутавшее в мордовских лесах и сугробах маленькое село под названием Луховка. Осталась ночь с трескучими на морозе звёздами и месяц, большой, круторогий, как новогодняя игрушка на нашей довоенной ёлке. Как будто и не в небе вовсе, а дома под потолком.
В такую ночь нас, онемевших от стужи, подвезли на санях к избушке-сугробу. В широкополом и длинном тулупе, огромный, точно медведь на задних лапах, наш возница поднялся с саней и, едва ступив в сторону, увяз в снегу. Чертыхаясь, он стал пробираться к заметённому порогу. Но не добрался, стал тянуться кнутовищем к тёмному окну.
– Егоровна, – кнутовище глухо стукнуло о ставни, – отворяйся, принимай вакуированных!
Наверное, такой и запомнилась бы мне эта далёкая, студёная зима, не будь другой ночи. Последней ночи сорок первого года…
С вечера над селом разгулялась вьюга. Она ворошила солому на крышах, со свистом врывалась в трубы, ломилась в двери изб. В нашей избе долго никто не мог заснуть. И не потому, что за окном волком выла метель, и даже не потому, что в новогоднюю ночь люди вообще привыкли не спать: мы словно ждали чего-то…
И наша хозяйка, Егоровна, тоже ждала. Ждала молчаливо, с суеверной осторожностью, словно боялась спугнуть нетерпением своё ожидание.
Ещё накануне, спозаранку, она растопила печь и суетливо стала прибираться в горнице. Плеснув горячей воды на стол, она долго, усердно скоблила его ножом, пока он не стал белым, будто новый, только что сколоченный из тесовых досок.
В это время ко мне на полати, где из-за отсутствия тёплых одёжек мне приходилось коротать скучные и бесконечно долгие зимние дни, добрался удивительно вкусный запах, как будто не из бабкиной кухни пришёл он ко мне, а из недавних мирных дней, из далёкого нашего дома, с которым мы расстались невесть до каких пор – может, на месяцы, может, на годы. Он поднимался прямо из печки, щекотал ноздри, заставлял то и дело сглатывать слюни: пахло наваристыми щами из квашеной капусты.
Даже теперь я помню этот запах, и при одном воспоминании у меня начинает щекотать во рту. Я знаю, ни одни щи, которые когда-нибудь я ел и которые мне придётся пробовать пусть даже в самом лучшем ресторане с русской кухней, не пахли и не будут пахнуть так, как те, что стояли тогда в печи у Егоровны.
Хоть и в своём доме, под своей крышей, а жилось в те дни Егоровне не лучше нашего. И в её дом тоже пришла война. Она не выгнала её, как нас, из дому, а взяла у неё сначала мужа, погибшего ещё в начале войны, а потом и сына, последнего мужика в доме. С тех пор, что ни утро, хозяйка наша обувает валенки, накидывает полушубок и, увязая в сугробах, спешит на другой конец села в сельсовет, долго сидит там, поджидая почтальона. А писем от сына всё нет и нет, и выходит, что всё у неё, как у нас: мы пишем отцу письма, но они, неотправленные, остаются лежать в сумке у матери, потому что мы не знаем, куда их посылать. А она ждёт вестей от сына и тоже не знает, где он и почему молчит. Жив ли? Из пяти лепёшек, которые она печёт по воскресеньям, четыре, серые и душистые – таких мне в городе есть не приходилось, – достаются нам, её постояльцам. А самая большая – мне, единственному мужику в доме.
Помню, в тот день, ворочаясь на жёстких полатях, я глотал слюни и терпеливо ждал: а вдруг свершится чудо? Вдруг из кухни выйдет Егоровна с дымящимся чугунком на ухвате, поставит чугунок на деревянный круг посреди стола и скомандует: «А ну давайте-ка пошевеливайтесь, покуда не остыло!» И мы усядемся за столом – я, мои мать и сестра, две девчонки, мои ровесницы, со своей матерью, – и Егоровна разольёт нам по глиняным мискам свои великолепные щи. А может, в одну общую миску нальёт, и тогда только поспевай, только пошевеливайся! Тут такое начнётся! Конечно, девчонки будут жадничать, будут норовить мясца да гущи поддеть, станут обжигаться второпях губами, а мне будет смешно на них глядеть, и я, пожалуй, не выдержу и рассмеюсь, и тогда моя мать тайком вдарит меня ногой под столом: хлебай, мол, от смеха сыт не будешь.
Так, в томительном ожидании придуманного, я и провёл весь день. К вечеру нетронутые щи поостыли, запах приутих, и я, не слезая с полатей, съел кусок хлеба, негусто намазанный праздничным горько-сладким повидлом, которое мать привезла накануне из города Саранска, обменяв на него свою довоенную кофточку. Дело шло к ночи. Чудо так и не свершилось.
В избе засобирались спать. Я слышал, как моя мать, вздохнув, сказала квартирантке Маркеловне: «Ну что ж, подружка, с наступающим!» – «И верно, – спохватившись, отозвалась та, – с Новым годом, стало быть! Разве думали, что так доведётся встретить…»
Они ещё о чём-то поговорили, повспоминали о чём-то из мирной жизни, повздыхали, сидя за голым столом, перед тусклой керосиновой лампой. В это время из чулана и вышла Егоровна – то ли спала она там, то ли сумерничала, сидя у печки. Я тут же свесился с края полатей – может, не поздно, может, сейчас и случится это – и не узнал нашу Егоровну. Что-то неуловимо новое вдруг преобразило её, как будто, прежде чем выйти из чулана в горницу, она стряхнула со своих обвислых плеч лет пятнадцать прожитой старости и вот распрямилась, приосанилась и словно просветлела лицом. Из-под привычного серого платка, без которого я ни разу не видел нашу хозяйку, на этот раз выглядывал другой, неношеной белизны, самый краешек его над бровями.
– А я ведь гостя жду, – вдруг объявила она. – Хотела давеча сказать, да побоялась, как бы ошибка не вышла. Теперь думаю, дай скажу, чтоб ночью не сполошились. Сон мне ноне привиделся такой, что сын, Иван-то мой, на побывку домой заявится.
Сказав это, она вышла в сени, громыхнула засовом, вернулась в избу. Подошла к окну, склонилась к белому стеклу и, охнув пугливо, сказала:
– Вот напасть-то, всё метёт и метёт. Найдёт ли он к дому дороженьку?
Сокрушённо покачав головой, она вдруг насторожилась. Стояла с минуту, прислушиваясь. А что там можно было услышать! Вон как в трубе стонет, даже страшно становится. Но вот она подошла к стене и как завороженная стала водить рукой по гладким бокам брёвен, по картинкам-сучкам, по глубоким трещинам, изморщинившим стены старой избы. Но вот рука остановилась, как будто пристыла к бревну.
– Да вот же оно, – сказала она радостно, – вот это бревно, в него он стучать будет. Я уж знаю… Бывало, и всё так: загуляется на чужих-то деревнях, явится поутру – и стук, стук, стук, – она постучала сухоньким своим кулачком по стене, – аккурат в это бревно… А я уж бегу… А вы спите, спите, – она обратилась к моей матери и другой квартирантке, которые, переглядываясь, всё ещё сидели за столом, – что мы вам… Мне-то всё одно не спать, ждать буду. А вы укладывайтесь.
Она ещё потопталась возле окна, поохала, попричитала, сердясь и досадуя на метель, потом ушла к себе за полог и ещё долго разговаривала там сама с собой.
А за окном в завьюженных полях выла, плакала жалостным голосом декабрьская метель. Метель уходящего сорок первого года. В нашей избе под шумливой соломенной крышей в эту ночь долго никто не мог заснуть: все ждали, прислушиваясь к вьюге, как будто не Иван, хозяйкин сын, должен был наведаться домой, а наши отцы где-то в снегу, в метели ищут и никак не могут найти дороги к дому.
В чулане на лавке тихо и чутко дремала старуха. Иногда она вдруг вскакивала и проворно, как девчонка, впотьмах спешила к двери. Тогда наш дом замирал и превращался в слух. А она торопливо гремела засовами, впускала в дом вьюгу и, подгоняемая лютым холодом, спешила обратно в чулан, к себе на лавку.
Я заснул, сморенный ожиданием, и мне приснился сон: большой серебряный месяц над нашей избой и солдат Иван, очень похожий на моего отца. Он ходил под окнами с винтовкой в руке, как ходят часовые, ходил по сугробам взад-вперёд, словно караулил мой сон…
А утром Егоровна сообщила:
– А ведь приходил мой Ваня, чует сердце, приходил. Только стучал он как-то не так, не как бывало. Видать, забыл, как надо… А я сквозь сон-то слышу, будто кто-то ходит, и что бы встать да поглядеть, а я осилить себя не могу; вот и проспала, кулёма старая. Утром на станции обратный поезд был, небось он и увёз его.
Ей говорили, что всё это могло показаться, что никто вроде не стучался ночью в дом, что это вьюга шумела, а она в ответ рассеянно кивала головой и уходила куда-то. А я видел в окно, как, увязая по колени в сугробах, кружила старая возле избы – не иначе следы Ивана искала.
Днём она успокоилась, затопила печь, в избе снова стало тепло. И опять, как вчера, из печи потянуло душистыми щами. Тихо, почти неслышно наша хозяйка ходила по избе, как будто виноватилась перед нами за невольный обман, за несбывшиеся ночные ожидания… А печка дышала теплом, и запах щей снова не давал мне покоя.
И вдруг… Наверное, так и бывает в хороших сказках: появляется добрая волшебница и начинает творить чудеса. Разрумянившаяся от печного жара, наша хозяйка появилась перед нами с чугунком в руках; она поставила его на край стола, потом принесла из кухни миску, одну-единственную, не большую и не маленькую, на одного хорошего едока, и вдруг позвала меня:
– Ну, мужик, слезай с полатев. Нонче ты в избе хозяин, так что ты и распоряжайся. Варено-то тут не густо, на одного, а ты уж гляди, как знаешь…
Ну вот и чудо! Теперь бы не грохнуться второпях с полатей, попасть бы в печную приступку ногой, схватить бы ложку, самую большую, да усесться бы половчей, чтобы никто не мешал хлебать с правой руки…
Но почему в избе такая тишина, как будто, кроме меня, здесь и нет никого, и почему никто не стремится к столу, не занимает места по лавкам? Едва дотянувшись до печки ногой, я вдруг почувствовал что-то неладное – скорее телом почувствовал, не разумом… Ноги мои вдруг повисли между полатями и полом, а руки, цепляясь за край, из последних сил не пускали вниз. И я бы грохнулся, наверное, на пол под злорадный хохоток завистниц-девчонок, если бы их мать, Маркеловна, не оказалась рядом и не подхватила меня под руки.
Но легче от этого мне не стало. И опять эти ноги… Они сами зашагали к столу… В какой-то миг, когда до стола оставались шаг или два, когда всего-то и нужно было – сесть и взять в руки ложку, вдруг что-то подсказало мне: а ведь не для меня эти щи варены, а для другого, кто ради этих щей мог бы и впрямь, наверное, примчаться сквозь любую метель к материнскому порогу, а значит, и права сидеть одному за этим столом у меня ничуть не больше, чем у остальных.
И всё-таки меня угораздило усесться за стол. Я сел и, опустив глаза – только бы не видеть никого, пусть думают, что я их тоже не вижу, – пододвинул к себе миску и в этот момент почувствовал – своей макушкой, склонённой над миской головой, – что все, кто есть в избе, смотрят на меня, смотрят и ждут. Как много этих невидимых глаз: две пары глядя с печки – это девчонки, мои ровесницы, за моей спиной – глаза их матери, а от окна, вот здесь, рядом, – глаза моей сестры, и моя мать стоит и смотрит на меня с порога…
Но что ж это такое? В руке у меня ложка, большая, деревянная… Это Егоровна уже успела подсунуть её мне прямо под руку.
– Ну вот и распоряжайся, – приговаривает она, – отведай моих щец. – Шершавой и лёгкой своей ладошкой она гладит меня по голове. – Так что ж не ешь-то? Хлебай, хлебай, щи хороши, пока горячие. Или не ладно что? Может, ложка велика? Это его ложка-то, Ивана моего, он ей завсегда щи хлебал.
Я слабо сжимаю ложку, опускаю её в миску, в густое и жирное варево, и вижу перед собой множество звёзд, тёплых и золотистых. Они плещутся под моей ложкой, они дышат вкусным жаром прямо в лицо, и от этих звёзд, от этой теплоты мне вдруг становится просто и весело, так хорошо и уютно становится, как будто сижу я дома, на далёкой нашей улице Новикова, сижу, сгорая от нетерпения, за столом и жду, когда остальные сядут. И я зову их весело, с шутливой угрозой:







