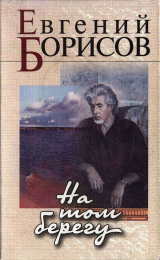
Текст книги "На том берегу"
Автор книги: Евгений Борисов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
А он и не спросил. Может, забыл о нём? А может, не захотел вспоминать? И Надя подумала, успокаиваясь: и к лучшему. И ей, и Алёше, так будет спокойней…
4
И новая весна наступила. И всё на земле пошло опять своим чередом. Однажды утром вышла Надя на крыльцо и увидела: два грача расхаживают по заснеженным дорожкам перед самым домом, да так важно, так уверенно ходят, как прорабы какие-нибудь по строительной площадке.
Потом, недели не прошло, и началось!.. На старых липах с утра до вечера кипела работа, и было радостно смотреть на эти мирные, несуетливые, по-хозяйски сосредоточенные грачиные хлопоты, на то, как основательно и домовито обживают они свои обновлённые гнёзда.
– Ишь, как стараются! – глядя на грачей, сказала тётя Поля. – Без всяких перекуров. Нам бы их в строительную бригаду вместо этих дармоедов. Целую зиму, пока грохотали молотками на чердаке, кормила их за милую душу, лучшие куски от ребят отрывала – ради дела, ради крыши новой не жалко, – а крыша-то опять протекает.
Хоть и мирные пошли заботы, но сколько их! А тут ещё шабашники эти – права была тётя Поля! – по осени собрали в посёлке артель: два старика дремучих да три инвалида взялись как путные за ремонт, условия поставили божеские: вы нас кормите, мол, из детдомовского котла, а к концу месяца – ну, сколько не жалко… Опять же, сирот малых грех, мол, обижать… Словом, сошлись на некоей сумме, которую вроде и грабежом не назовёшь, но и благотворительностью особой от неё не пахло. И всё бы ладно, если бы дело сделалось, да оно вроде и пошло поначалу, неделю стучали топоры, лесхоз материалы строительные отпустил, только работай. Но вот в один прекрасный день явился бригадир, хмельной, нагловатый, в гимнастёрке изрядно поношенной, с виду мужик вполне здоровый, хоть и с нашивками за ранения, зашёл в кабинет к Наде и выложил требование:
– Мы понимаем, конечно: сироты есть сироты, как-никак мы за них тоже кровь проливали… Но без аванса, начальница, тоже нельзя. Для гвардейской работы, для генерального, так сказать, наступления надо бы это…
С того аванса всё и началось: что ни день, то предлог. Сегодня за победу, завтра за взятие Берлина, а послезавтра за освобождение посёлка Лугинино от фашистских захватчиков, потому как четвёртая годовщина подошла… И так всю зиму. Надя, уже готовая впасть в отчаяние, чуть было не капитулировала перед «гвардейцами» – собралась порвать этот официально, на бумаге засвидетельствованный трудовой договор, за тем и пришла в поселковый Совет. Подошла к крыльцу и увидела: знакомый дядька-плясун, безрукий и безногий, с которым в Волжске на вокзале встретилась, с этого крылечка на двух ногах спускается, да так ловко, так споро, что Надя, хотя и признала тут же его, глазам своим не поверила, и если б не пустой левый рукав, засунутый в карман того же зелёного, изрядно потёртого бушлата, пожалуй, и усомнилась бы.
– Здорово, невеста, – тоже узнав её, заулыбался он. – Уж не на свадьбу ли звать прибежала? Так я готов, как обещал. Вприсядку пока не смогу, а два-три коленца коронных, – он даже притопнул своим протезом, прихлопнул лихо рукой по колену, – это мы хоть сейчас.
– До свадьбы ль тут, – грустно усмехнулась Надя, – пришла вот на развод подавать…
– Вот те на! – дядька было и впрямь озадачился.
Но Надя объяснила:
– Посадила дармоедов на шею, думала, путные мужики окажутся, а они!.. – махнула рукой. – Вот и решила подать на развод. Буду в лесхозе просить, может, оттуда пришлют строителей.
– Постой, постой, – вдруг снова ожил танцор, – а коль без шуток-то, скажи хоть, кто ты есть и за-ради чего тебе строители понадобились? Чего строить-то вздумала?
– Детский дом надо в порядок приводить. Кое-что мы и сами сделали, но много ли… А главное, крыша течёт. Я директором в детском доме. Давайте знакомиться. Надей меня зовут, Строева Надежда Ивановна.
Протянула дядьке руку и вдруг увидела, как неожиданно побледнело, передёрнулось в мгновенной нервной гримасе небритое его лицо, как удивлённо взглянул он на неё, и она подумала, что это, конечно, от контузии – не надо было отплясывать перед ней на крыльце, – но тут же заметила, что всё у него как будто и прошло, и он, виновато улыбнувшись, уже без прежней лихости, без шутовства произнёс:
– Вон оно что… А я, подумать только, хожу работу ищу. Колесов я, Николай Лукич, будем знакомы, – пожимая руку, он глядел в глаза, словно хотел узнать, сказала ли что-нибудь ей его фамилия. – Очень простая у нас фамилия – Колесов. – Усмехнулся виновато. – Я ж главного тебе тогда не сказал, задурил голову с плясками… Я ж плотник. И столяр, и плотник, на все руки, можно сказать. – Покосился на свой пустой рукав. – Теперь уж не на все, а на одну. Просился в лесхоз, чтобы поближе… – вдруг запнулся, бросил на Надю быстрый взгляд, – а тут сама судьба… Примешь в бригаду, зараз пойду. И с мужиками твоими сам столкуюсь. Хоть сейчас ударим по рукам.
И ударили: зашли, объяснились в сельсовете, а через день он появился в детском доме с деревянным плотницким ящиком через плечо, за поясом топор. Четверо мужиков, уже знакомых, из прежней бригады, вместе с ним явились. Виноватые, но решительные. Вот только молодого бригадира с ними не было. Видно, отставку ему дали.
Через неделю – дело к майским праздникам шло – с ремонтом крыши закончили, за другую работу принялись. Весело и дружно стучали в лугининском парке топоры. И пахло свежим, струганым деревом, новым жильём.
А тут ещё радость. Всеобщая. Деревца, посаженные осенью вдоль центральной аллеи, одно за другим стали проклёвываться на хрупких веточках первым листом. С этой аллеи, как думалось Наде, и должна была начаться в детском доме другая, по-настоящему мирная жизнь. Здесь, полагала она, должно было пустить корни и прорасти нечто более важное, чем эти берёзки, рябинки и тополёчки, которые с таким старанием высаживали они, все от мала до велика, – должна была вернуться жизнь в искалеченные войной сердца, в зачерствевшие от горя и лишений сиротские души, в эти усталые, не по-детски скорбные глаза.
Нет, не радовала, не увлекала ребят поначалу эта Надина затея – сажать деревья. Вот картошку с капустой сажали прошлой весной, морковь и свёклу сеяли, там хоть восторгов тоже не было, но зато ясно, ради чего стараются – чтобы больше не пришлось, как бывало, в голодухе сидеть. А уж поголодали, победовали, горемычные, странствуя по белу свету, по суматошным вокзалам, по поездам, везущим невесть куда, толкаясь по чужим неприютным подъездам; он, голод, и гнал по земле, манил призрачной, словно из давних мирных снов возвращающейся надеждой, что есть, должно быть где-то такое место на земле, где ни войны, ни голода, ни холода, где можно согреться и поспать, а главное – поесть досыта…
Весной, когда картошка и капуста с собственного огорода кончились, когда в детском доме начались не самые весёлые дни, тётя Поля, утешая себя и других, приговаривала:
– И ладно, и нечего! Червячка заморили, теперь уж как-нибудь… Медведи вон всю зиму не евши спят – и ничего, а мы три бочки капусты квашеной ухайдокали, а картошки сколько, а свёклы!.. Пусть знают теперь: что сам посеешь, то и съешь.
Нехитрая эта мудрость, похоже, и сбила с толку детдомовских ребят: посадишь картошку – будешь с картошкой, ну, а берёзку хилую или тополёк? От них-то много ли проку! Вон их сколько кругом, деревьев, и в лесу, и в парке, а в животе-то всё равно пусто…
Надя помнит, как Юрка Мосунов, тощий, как хвощ по весне, мальчишка, лениво, с неохотой копая ямку для берёзки, сказал:
– Посадить бы такое дерево, – он даже глаза прикрыл мечтательно, – чтобы выросли на нём белые-белые булки, такие, как до войны… А ещё пироги с мясом и с этой, с черникой. Мамка с черникой мне на день рожденья всегда пекла…
– Вот будет у тебя день рожденья, – сказала Надя, – наберём черники и попросим тётю Полю, чтобы испекла нам такой пирог.
Сказала и невольно, не удержавшись, проглотила слюну, потому что и сама мамины пироги с черникой вспомнила.
– А берёзка, она и без пирогов очень красиво растёт, – уводила она разговор от пирогов. – Ты только представь, какой будет наша аллея года через три-четыре. Ты вырастешь, уедешь из Лугинина, а берёзка твоя останется…
Нет, думалось, не тронула, не вдохновила она его – уж очень зримо виделись Юрке, да и ей самой те пироги с черникой, и таким беспомощным, неживым казалось брошенное на землю рядом с недокопанной ямкой деревце – голое, похожее на хворостинку.
Юрка тем временем поднял с земли берёзку, примерил её в вырытой ямке, которая оказалась недостаточно глубокой, и снова взялся за лопату. Стал дальше копать. Наблюдая за ним со стороны, Надя, однако, заметила, как ожил, увлёкся парень, как бережно опускал он в ямку корешки, как осторожно, стараясь не задеть ствол лопатой, он стал присыпать ямку землёй, а потом, закопав деревце, утоптав землю вокруг него, отошёл в сторону – стоял и глядел на свою работу. И столько удивления, столько радости было в его глазах!.. А потом – и вовсе удивительно! – сбегал и притащил ещё одно, на этот раз не берёзку, а тополёк, такой же хиленький, и принялся копать новую ямку. Махал лопатой и оглядывался: на Надю посматривал и, кажется, что-то хотел ей сказать. Она поняла это, решила подойти, похвалить его.
– А знаете, – опередил он её, – знаете, почему я их посадил? – Он будто и сам дивился тому, что придумал. – Потому что… вот этот тополь, это в честь папы, а берёзка будет маминой. Пусть они живут здесь, рядом со мной…
И тут же, отбросив в сторону лопату, пустился бегом по аллее, бежал, на ходу вытирая слёзы, так неожиданно прорвавшиеся сквозь эту короткую радость, мимолётно осветившую его душу.
Вслед за Юркиными пошли и другие «папины» и «мамины» деревья: не сговариваясь, ребята сажали родительскую аллею… Какая стройная и ровная вырастала она: по одну сторону стояли берёзки и рябинки, а по другую, напротив – клёны и тополя. И как старательно, по каким-то особым, им одним известным признакам сходства ребята выбирали, отыскивали в ворохе почти одинаковых саженцев те единственные, свои, «папины» и «мамины». Несли и сажали их.
И Люба в тот день тоже посадила маленький тополёк у себя под окном.
Как ждали они весны, как волновались и как хотели, чтобы прижилась их аллея. И вот пришла пора: первые листочки стали проклёвываться на деревцах. Они появлялись не сразу: сегодня – на одном, завтра – на другом дереве, и ожидание – когда же наконец зазеленеет моё, зазеленеет ли? – ожидание это ещё долго держало детский дом в напряжении и тревоге. Но каждый день дарил ребятам долгожданную радость, словно награждал их за терпение.
5
– Ну что, начальница, – стуча протезом, Лукич переступил порог кабинета. – Для личного разговора принимаешь? – Заметив обеспокоенный Надин взгляд, поспешил внести ясность: – Не пугайся, не за расчётом пришёл. Не заробил ещё.
Смущённая тем, что бригадир вдруг так, с порога, угадал её беспокойство, вышла из-за стола, виновато всплеснула руками. Призналась:
– Вы как в воду глядели… Сижу вот и соображаю, чем буду с вами рассчитываться. Наличных у меня кот наплакал, ваш славный предшественничек подчистил всё… – Она усадила его на диван, сама села рядом. – Хотя, признаться, с ним мне в некотором смысле даже легче было. – Теперь он удивлённо взглянул на неё. – Ну, как бы вам объяснить?.. С ним мне, если и стыдно было, то не за себя, а за него, понимаете? А это, поверьте, совсем другое дело. Зато ему проще было сказать: мол, денег нет, и всё тут. А с вами…
Он усмехнулся, покачал головой:
– А мне, выходит, сказать труднее?
– Вы не сердитесь, но так и есть. За такую работу, как у него, ему бы совестнее просить, чем мне отказывать, а с вами… Меньше недели работаете, а столько успели! Вот и мучаюсь: где брать, у кого просить?
А он будто и не слушал её, вернее, слушал, кивал головой, посмеивался, а думал, похоже, о другом – о том, ради чего, наверное, и пришёл к ней. И говорил он с ней пока не о том, о чём ему нужно было, просто поддерживал разговор:
– Таких, какой до меня гремел тут своими медалями, я, знаешь ли, тоже повидал и цену им знаю. Ежели, как он, то я тоже должен бы давно махать пустым рукавом, того – сего требовать… А с кого требовать-то? С них, что ли? – он кивнул за окно, откуда доносились ребячьи голоса. – Или с тебя? Я поглядел вот на твою братву и понял: не они, а мы перед ними всю жизнь, как перед совестью своей, какие бы мы безрукие и безногие ни были, при медалях и без них… Да что там! – он рассердился на себя, будто некстати или неладно сказал что-то, махнул рукой. – Я ведь о другом говорить пришёл…
Помолчал. И вдруг спросил:
– Стало быть, фамилия моя тебе так ничего и не сказала? – он внимательно поглядел на неё. – В тот раз, там на крылечке, когда знакомились второй раз, я всё стоял и ждал, не вспомнишь ли… Ну, вспомни, Колесов я…
Он глядел на неё с надеждой, ждал. Но нет, ничего не сказала ей эта фамилия. Она пожала плечами, улыбнулась виновато.
– А ты не спеши, – почему-то настаивал он, – подумай и на меня вот погляди хорошенько, на уши мои, на обличье, – даже ладонь свою единственную растопырил и подставил к уху, сам смутился от этой ребячьей выходки. – Ну что, припомнила?
В эту минуту она и увидела перед собой другое лицо, увидела до того ясно, будто он, Санька-беглец, с такими же оттопыренными ушами, будто это он, так неожиданно постаревший, сидел теперь перед ней.
– Саня, – воскликнула она. – Так вы… Неужели?
Будто не веря своим глазам, закрыла лицо руками и снова отвела их, взглянула на сидящего рядом с ней человека:
– Боже мой, как похожи!..
Лукич развёл руками, сказал, усмехнувшись:
– Я весь в сына пошёл. А вы… выходит, не по фамилии меня узнали, а по ушам. – И пошутил невесело: – Хорошо хоть их-то война не отстригла, а то поди доказывай, чей ты отец.
– Но как же вы до нас-то добрались, – недоумевала Надя, – как узнали, что он был здесь?
– Он, Санька, и рассказал. Нет, не мне, не матери, ей он не написал ни строчки, а вот дружку своему, однокласснику, доверился… Есть у него в Торжке, это в нашем городе, дружок закадычный, Димка Кобылин. Вместе они и на фронт бежать собирались, но тот, видать, струхнул в последний момент, а мой вот не отступился…
Потом сидели и думали об одном: какими путями и где искать Саньку? Надя рассказала Лукичу, что уже ходила по некоторым адресам, к бывшим партизанам обращалась, но никто, с кем разговаривала она, так и не мог сказать, куда подевался детдомовский беглец. Кое-кто подтверждал: да, что-то такое было в отряде, и парнишку того, пропавшего, будто бы отыскали потом, вернее, он сам вскоре объявился в лагере, видно, ждал когда самолёт улетит, просился в отряд, но командир распорядился при первой же возможности отправить его на Большую землю, не решился оставить в отряде. Кажется, его и отправили потом, но куда – толком никто не знает… Может, в суворовское…
– Вот крышу тебе дострою, – под конец разговора сказал Лукич, – и домой. Там его буду ждать. Да и свою крышу ладить надо. – Опять напомнил: – Про уговор-то наш не забудь. Приеду, спляшу на свадьбе.
6
День Победы отпраздновали. В посёлке, возле обелиска погибшим воинам, торжественный митинг прошёл, ребята детдомовские в почётном карауле стояли, а тётя Поля плакала и приговаривала:
– Господи, укажи ты и мне его могилку. Привезла бы, схоронила с домом рядышком. Как хорошо на родной-то земле, каждый бы день к нему приходила. – И Наде сквозь слёзы: – Ещё бы и мамку твою, и солдатика нашего вот под этой звездой, место, чай, всем бы нашлось.
А вечером сидели за праздничным столом, вспоминали, как дядю Мишу на фронт провожали, как тётя Поля срамила его за то, что небритым воевать едет. Про похоронку вспомнила… Как упиралась Машка, как не хотела на почту её везти, будто и впрямь почуяла, что ждёт их там…
А потом гость, бригадир Николай Лукич, пожаловал. Неуверенно, потоптавшись у порога, скинул свой бушлат, в комнату вошёл, позванивая орденами и медалями, которые по случаю светлого праздника приколол к гимнастёрке. За столом заохали, заахали, ещё больше смутив этим гостя, а Люба принялась награды пересчитывать. Их было восемь: два ордена и шесть медалей.
– Мам, – вдруг спросила она, – а у папы нашего тоже были?
На минуту за столом возникла неловкая пауза. Взглянув недоуменно на Надю, Лукич заметил, как растерялась она, но не сказал, не спросил ни о чём. Вдруг спохватившись, поднялся из-за стола, скрипя протезом захромал в коридор, к вешалке, где висел его бушлат. К столу вернулся с бутылкой водки в руке.
– Вот, – поставил бутылку на стол, поглядел на тётю Полю, как бы спрашивая у неё разрешения, – может, ради такого дня… Ближе вас у меня нынче нет никого, вы мне теперь будто родственники, так что не откажите за компанию…
– Верно говоришь, – поддержала, оживившись, тётя Поля, – война всех породнила, а нас тем более. Хочешь – верь, хочешь – нет, а я такое сейчас сообщу, – она заговорщицей взглянула на Лукича, потом на Надю, – что все мы тут в самых настоящих родственниках и окажемся. Или забыла, – спросила у Нади, – как она ему свою котлету отдала… подкармливала для фронта? – Кивнула на Любу, сидевшую с ними за столом. И снова к Лукичу: – Это она Саньку твоего, значит. Или забыла Саню-то? – спросила у Любы.
– Помню, – ответила Люба, – у него во-о-т такие уши были. – Она показала на Лукича, на его уши, и все за столом засмеялись.
А тётя Поля сказала:
– Вот и выходит, что у нас ноне семейный праздник, как тут не выпить. Ты принёс, – она передала Лукичу бутылку, – ты и командуй. За столом-то, видишь, ты один у нас мужик.
Выпили за победу, за тех, кто воевал, за погибших, кого нет за столом, помянули добрым словом и Веру Васильевну, и дядю Мишу с дядей Фёдором, потом за Лукича отдельно выпили…
– И за папку, – вдруг предложила Люба, – за папку тоже.
Надя смутилась, но рюмку подняла, а тётя Поля тут же нашлась:
– Правильно, и за него грех не выпить, – поднялась из-за стола с полной рюмкой, – за Алёшу нашего. Видит бог, быть бы ему с нами вот за этим столом…
Надя сидела с рюмкой в дрожащей руке, едва удерживая подступившие к глазам слёзы, и не могла понять, зачем, ну зачем тётя Поля говорит об этом, что она хочет этим сказать.
Нет, не думала она тогда, да и сердце не подсказывало, что наутро другого гостя встречать придётся.
Он появился в тот час, когда в школе кончался последний урок и учителя с журналами, портфелями один за другим входили в учительскую. Надя тоже зашла туда и ждала, когда соберутся все: хотела сделать какое-то объявление… И машину эту, непривычно тихий гул мотора за раскрытым окном, она услышала, как и остальные, догадалась, что машина не здешняя, не лесхозовская и не из района, и пока любопытные высовывались из окна, с неясным беспокойством подумала: кто бы это?
Потом её позвали:
– Надежда Ивановна, – она оглянулась, увидела в дверях учительской шестиклассника Юру Мосунова, дежурного по первому этажу, лицо его выражало то ли испуг, то ли восторг в высшей степени, а скорее, и то и другое, – вас тут… к вам приехали.
– Кто приехал? – как можно спокойнее спросила она, хотя волнение уже душило её горло.
– Военный какой-то, – Юра почему-то перешёл на шёпот, и это ещё больше смутило и озадачило её. Почувствовала, как слабеют, становятся непослушными её ноги, как полыхнуло жаром в лицо. Спросила нелепо, не своим, деревянным голосом:
– Какой военный?
– Ну какой, – захлопал Юра глазами, – самый настоящий, с орденами, с погонами…
В учительской молчали, и Надя, не помня себя, шагнула из этого молчания следом за Юркой в коридор и сразу увидела его. Нет, ни лица, ни звания, ни орденов – ничего не успела разглядеть. Одно поняла и сказала себе сразу: нет, не Алёша… И узнала Езерского.
Он подошёл к ней, высокий, плечистый, заслонив собой весь коридор, и мальчишки толпой обступили, глазели во все глаза на его ордена и медали. И опять она подумала о нём: как с военного парада…
– Ну, здравствуй, – он взял её за руку, улыбаясь, оглядел теснившую их со всех сторон толпу любопытных мальчишек и девчонок, – здравствуйте, Надежда?..
– Ивановна, – подсказала она ему.
Смущённая и растерянная, она стояла перед ним в коридоре, не зная, как поступить, куда вести нежданного гостя, как и где его принимать.
Наконец решилась: позвала его в свой кабинет, и пока шли в окружении ребят по коридору, он рассказывал ей:
– Вчера у нас была встреча, воспитанники военной школы… Вы знаете, сколько наших осталось? Двенадцать человек. Это на всю-то школу! А какие были ребята! Вы наших ребят-то помните? Больше половины в том первом бою полегло. Так вот… собрались. А у дружка фронтового, у майора Егорова, машина нашлась, вот я и решил…
Они вошли в кабинет, и шум ребячьих голосов остался там, за дверью.
– Вот так мы и живём, – рассеянно сказала она, подходя к столу. – За этим столом когда-то мама сидела, а теперь я. Это её кабинет, и диван, и кресло, всё, как было. Всё так и всё не так…
– Вы правы, Наденька, – согласился он, – война изменила и всё и всех. Вот и мы с вами совсем другие. Порой мне кажется, что я, моя довоенная жизнь, всё, что там было у меня, и хорошее и плохое, это не моё, словно бы не я, а другой, чем-то на меня похожий человек, жил, как в той детской сказочке – помните: в некотором царстве, в некотором государстве… Я закурю, если позволите?
Она согласно кивнула головой, и он закурил. Ходил по кабинету, и сапоги его поскрипывали при каждом шаге, а может, это не сапоги, а половицы старые скрипели? Когда он останавливался рядом, она чувствовала, как от него пахнет одеколоном – ещё там, в коридоре, Надя уловила этот запах, и тогда уже он что-то напомнил ей, а вот теперь вспомнила: тогда, летом сорок первого, в тёмном зале поселкового клуба они смотрели фильм «Сердца четырёх», сидели в последнем ряду, и Надя вот так же, как теперь, уловила запах одеколона «Красная Москва»… «Нет, не всё изменилось, – подумала она, – вот и одеколон у него всё тот же».
– А знаете, – он сел в кресло перед Надиным столом, пачку «Казбека» положил на стол, как тогда в буфете на вокзале, – после того боя, на разъезде, со мной что-то странное произошло. Вот как в кино бывает, механик гонит ленту, и в зале кричат ему «сапожник», и у меня что-то похожее было. Вдруг промелькнуло всё, вся моя жизнь, как на том быстром экране, и не осталось почти ничего. Так, три, пять кадров всего… таких, какие мне захотелось бы остановить или повторить опять, а остальные…
– Всего пять кадров? – удивилась Надя. – Из всей-то жизни!
– Вам кажется мало? Может быть. Всё дело в том, какими глазами смотреть, чем мерить. До той минуты, до разъезда, я вообще ничего не мерил, жил как жилось. Зато и день порой казался, – он усмехнулся, – таким долгим, как вся жизнь. И вот, представьте, в одно прекрасное утро… Да, ещё утром всё, кажется, было хорошо и прекрасно, и даже общая тревога, когда мы ехали на тот разъезд, даже мысль, что опасность вот она, совсем близко, и это меня не пугало. Ехал и думал: наконец-то дождались! Сейчас-то мы им покажем! А тут машина, как назло, забарахлила. Майор наш, начальник школы, выходит из себя, мы тоже чуть ли не с кулаками на шофёра: давай гони, такой-разэтакий, винтовками машем, точь-в-точь, как ваши мальчишки сопливые в парке. А шофёр, пожилой дядька, сверхсрочник, гимнастёрочка на нём старенькая – не со времён ли гражданской ещё? – ковыряется в моторе, на нас через плечо оглядывается и говорит: куда, мол, спешите, ребятки, куда торопитесь, туда-то мы все успеем, а за эту вот минуту… И так спокойно вещает нам: эту, мол, минутку я вам специально решил приберечь, потому как таких минут у вас, может быть, раз, два – и обчёлся.
Резко поднялся и опять заходил по кабинету, потом остановился у окна, сказал задумчиво, кивнув за окно головой:
– Там всё и было. – Помолчал, глядя на дорогу, которая уходила из парка к посёлку. – Так вот и понял я тогда, что жизнь-то не днями, не годами мерить надо, а каждым мигом. Там, на краю, я понял это.
Оглянулся на Надю, будто спросить хотел: поняла ли, о чём он? И она согласно кивнула головой: ещё бы ей не понять, ведь и с ней такое же было, и это чувство подаренной от жизни минуты, подаренной для того, чтобы дальше жить, ей тоже знакомо, и она могла бы, наверное, рассказать ему об этом, но не сейчас, потом когда-нибудь… Если представится такая возможность…
И всё-таки что-то смущало её в рассказе Сергея, с чем-то, ещё не сознавая того, она не хотела, не могла согласиться, и если соглашаться теперь в одном, думала она, то нельзя, наверное, так просто принять другое – вот эту готовность его вдруг взять и забыть всё, что было там, за той, как он сказал, чертой, или за краем. Что же выходит? Жил человек, совершая поступки, хорошие или дурные, жил не один, а среди людей, которые знали его и помнили таким, каким он был тогда, и вот человек этот заявляет однажды: я это не я, не путайте, мол, меня нынешнего с тем, кем был я когда-то. Но ведь был же, был, и куда от себя денешься! И не настолько же изменила нас война…
Нет, не станет она заводить с ним этот разговор, к чему? Пусть живёт как живётся. Может, ему так удобнее, проще. И ещё подумала: а ради чего он начал, куда всё-таки клонит?
Но он и сам, видно, понял, что затянул исповедь. Подумал при этом, что поездка его, на которую он решился вчера так неожиданно и скоро, немало удивив тем своих друзей-офицеров, сидевших вместе за шумным столом в ресторане, и эта встреча с Надей, от которой он смутно ждал чего-то… Нет, не такой представлялась она ему. В той картине, какую успел нарисовать себе, не было ни этого скучного директорского кабинета, ни сдержанности, почти холодной, ни этого, с трудом скрываемого недоумения, вызванного пусть неожиданным, но всё же обещанным однажды его приездом…
Вчера, когда просил у майора Егорова машину, он что-то напридумывал себе и им, сидящим за столом, помнится, даже намекнул, что от поездки этой чуть ли не будущее его зависит, счастье, можно сказать. Ради будущего, ради счастья фронтового друга майор Егоров готов был сделать всё и без лишних уговоров дал Езерскому свою служебную машину.
Потом, уже в машине, по дороге в Лугинино, Сергей спросил себя: а нужна ли ему эта встреча? Чего он ждёт от неё? И решил, что нужна. В чём-то ему и в самом деле хотелось разобраться, проверить себя самого, а может, что-то другое проверить – то неожиданное, однажды, давным-давно, промелькнувшее в нём живым огоньком, светлое – нет, даже не чувство, скорее, предчувствие чего-то необыкновенного, радостного, к чему тянулась его душа…
В сорок втором, когда получил свой первый орден, вдруг спросил себя тщеславно: кому бы он хотел показаться теперь, вот так – с новенькой Красной Звездой на гимнастёрке? Ну, матери, отцу – это само собой… А ещё? Ведь был ещё кто-то… И припомнил, и удивился даже: ведь не забыл, оказывается!.. И весь день жил в смутном и радостном смятении, не понимая, что происходит с ним.
Тогда же и другое вспомнил: ту болтовню в спальной, когда расхвастался, заврался перед ребятами, а потом эта драка с курсантом Кудрявцевым… Противно, тошно.
С тем и жил все эти годы и будто тащил через всю войну этот непонятный груз. Как будто он был ему очень нужен…
Потом та встреча на вокзале, возле билетной кассы, разговор в буфете, где он опять не удержался: вёл себя этаким гусаром-женихом. И разговор за столиком, торопливый, пустой какой-то – всё так нескладно, не по делу, ни о чём… Пообещал приехать или написать и вот явился не запылился. Уверен был, что она ждёт, что будет рада, но что-то не видно этой радости.
А тут опять – в который раз – открылась дверь. Светлая девчоночья головка показалась.
– Мам, ты скоро?
И уставилась на гостя настороженными глазами.
Он оглянулся – час от часу не легче! – перевёл взгляд с белокурой девчонки на Надю. Сказал в полном недоумении:
– Такая большая…
Сбитый с толку этим «сюрпризом», он не сразу пришёл в себя, что-то ещё говорил невпопад, а Наде даже весело стало, она словно сказала себе, будто рукой в сердцах махнула: «А, будь что будет!»
– Вот познакомьтесь, – обратилась она к Сергею, – это моя Люба. А это, – кивнула она на Сергея, – это дядя Серёжа, папин товарищ… Они вместе в военной школе учились. А вообще, когда входишь в кабинет, надо спрашивать разрешения и здороваться по крайней мере.
– Здрасьте, – почти с вызовом сказала Люба.
А он совсем растерялся. Даже на «здрасьте» не ответил, глядел на Надю недоуменно и тупо соображал: какой ещё папа, какой товарищ?.. И с ещё большим недоумением, потерянно смотрел на неё.
– Пожалуйста, не сейчас, – Надя опередила его вопрос. Тут же предложила: – Может, поглядите, как мы живём. Чаю попьёте на дорожку. У тёти Поли и варенье найдётся.
Он усмехнулся как-то печально:
– Ну, если ещё и варенье!.. А я как раз ехал и думал, угостят меня здесь вареньем или нет? Считайте, что уже угостили.
7
Вечером, прибирая со стола, тётя Поля долго и сосредоточенно молчала и посуду на кухне мыла молчком. А потом, дождавшись, когда Люба наконец уляжется спать, подошла к Наде.
– Ты прости меня, старую, – начала она, – но, видит бог, неспроста это…
– Что именно? – спросила Надя, хотя прекрасно поняла, к чему она клонит.
– А ты будто не поймёшь? Или я совсем уж дура слепая. За столько вёрст на казённой машине… Взять и прикатить! Может, и впрямь скажешь, для того, чтобы чаю со мной, старухой, попить?
– Ты про варенье забыла, – Надя попробовала свести всё в шутку.
– Вот, вот, далось ему моё варенье! Ты лучше послушай, что я тебе скажу… Фантазиями разными голову себе не морочь, не сбивай ни его, ни себя с толку. Вот как заявится снова, так будь хоть поласковей, не отпугивай ты напрочь человека, а то ведь…
Надя поднялась, подошла и прикрыла поплотнее дверь, за которой, лёжа в постели, о чём-то напевала Люба.
– Ты о моих фантазиях заговорила, а сама… Поверь, у него и в мыслях ничего такого не было, и приехал не для того, о чём ты думаешь. Ведь он войну здесь начинал, он же рассказывал об этом…
– О чём рассказывал, – тётя Поля замахала рукой, – об этом я и сама небось слышала. Ты о другом подумай, чего он не сказал.
Надя рассмеялась, подошла к тёте Поле, присев рядом, обняла её за плечи.
– И всё-то ты знаешь, всё-то видишь. Даже чего нет и быть не может.
– Нет, так будет, – настаивала тётя Поля на своем. – И мой тебе совет: не обманывай судьбу, она сама всё скажет, ты только слушай её. – Встала, смахнула в ладонь последние крошки со стола, присела опять на диван, шепнула, как шептала когда-то: – А может, это… на картах раскинем твою судьбу? – Но тут же махнула рукой. – Ох, что-то не верю я им больше. – И замолчала. Сидела, задумавшись, похоже, бродила в своих воспоминаниях по каким-то, ей одной ведомым дорожкам и опять вышла к тому, с чего начала: – А Любовь-то наша, ты видела, ох, девка! Так и ходит, так и ходит кругом возле него! Нужен, нужен ей папка. – Кивнула на дверь. – Ишь, распелась! Чего хоть поёт-то?







