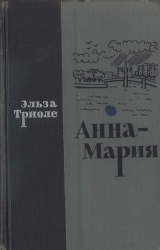
Текст книги "Анна-Мария"
Автор книги: Эльза Триоле
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
В тот вечер у нас обедали Рауль Леже и Жако. Была и Мария, в вечернем платье, во всеоружии красоты. Сразу же после обеда она ушла – ее ждали: она собиралась показать американским друзьям ночной Париж. Они проделают обычный «маршрут великих князей» [14]14
То есть, обзор всех увеселительных мест. (Прим. автора.).
[Закрыть], начав, как полагается с «Фоли-Бержер». Женни, несколько рассеянная, забывала есть и улыбалась в пространство. Ее бесконечно длинный день все еще продолжался. После обеда толпой нагрянули гости. Неизвестно кем приведенный молодой человек – я видела его впервые – тут же сел за рояль. Настоящая находка для танцоров: все делалось само собой, не приходилось ничего заводить, ничего крутить. Не знаю, то ли от этой приглушенной музыки, то ли от чего другого, но все притихли: молча танцевали пары, молча стояла группа гостей у открытого окна, глядя на розовое парижское небо, вдыхая свежесть ночного ветерка… Другие гости тихо беседовали, уютно усевшись в глубокие кресла. Раймонда и новая горничная внесли шампанское.
– Что это? Что сегодня отмечается? – Известный писатель встревожился, ведь он не прислал цветов.
– Ничего, мосье, – сурово и неодобрительно ответила Раймонда, и я так и не поняла, чем она была недовольна: вопросом писателя или тем, что подали шампанское, хотя праздновать было решительно нечего.
На смену вечеру пришла ночь. Женни много пила, танцевала. Ее партнером был Рауль Леже, он танцевал лучше всех. В перерыве между танцами она, прислонившись к темным занавесям, что-то говорила Раулю. Я залюбовалась ею: такой в ней был блеск, величие, сила, что даже страшно стало. Как сравниться с ней, хотя бы в малом? Она перехватила мой взгляд, улыбнулась, сверкнув ослепительно белыми зубами, и подозвала меня. Не знаю, для чего ей понадобилось, чтобы я присутствовала при их разговоре. Она села с Раулем на козетку, а меня усадила рядом, в низенькое кресло.
– Видишь ли, Анна-Мария, – обратилась она ко мне, – этот человек, этот молодой человек утверждает, что любит меня. Вот я и подумала, раз никто никого не любит, почему же для меня делается исключение, почему на мою долю выпало счастье быть любимой? – Она выждала с минуту, но Рауль молчал и, не двигаясь, смотрел на нее своим потусторонним взглядом. Женни продолжала: – Он говорит мне: «Я люблю вас, мадам». Если бы его любовь была настоящей, он забыл бы прибавить «мадам», если бы его любовь была настоящей, он бы не разъезжал, не расставался бы со мной. Я не могла ему верить и не верила… Но сейчас, пока мы с ним разговаривали, он трижды зажигал уже горящую сигарету, и я ему поверила.
Не знаю, что на меня нашло, почему я вдруг сказала:
– Если только это заставило тебя поверить, то ты заблуждаешься, Женни. Кому же не известна рассеянность Рауля, ведь все на пари считают, сколько раз он зажжет горящую сигарету.
По лицу Женни разлилась такая бледность, что я испугалась. Я не поняла, что для нее это не игра, а то бы я не пошутила так некстати. Все мои попытки объясниться ни к чему не привели. Женни сидела, подперев голову рукой, и не слушала меня. И тогда Рауль спокойно сказал:
– Женни, неужели вы не понимаете, что вы для меня? Вы живая легенда, таким, как вы, воздвигают памятники. Но вы нетерпеливы… И в этом ваша ошибка.
Я встала, я просто не могла оставаться с ними. Женни удержала меня за руку.
– Послушайте, Рауль, – сказала она, – мне сегодня как никогда хочется пойти жить к сторожу. Завтра утром приходите и оставайтесь… Но если вы не придете, то, клянусь, – мы больше никогда не увидимся. Я пойму, что это значит…
Из гостиной внезапно донеслись крики, смех. Женни встала, взяла Рауля под руку…
В гостиную набилась тьма народу. Жако объяснил мне, что это Люсьен привел с собой актеров, снимавшихся в его фильме, а также журналистов. После банкета по случаю окончания съемки они заехали на Монмартр и теперь являли собой не слишком приятное зрелище. Люсьен танцевал, прижимая к себе довольно растрепанную женщину, в углу комнаты кто-то горланил, двое мужчин танцевали друг с другом, и женщины пытались их разъединить…
– Раймонда, унесите, пожалуйста, шампанское… – распорядилась Женни.
Раймонда выполнила приказание с явным удовольствием. Она даже выхватила бокал из рук какой-то женщины, на что та, впрочем, не обиделась.
– В этом доме я что хочу, то и делаю! – орал Люсьен, – видимо, он твердил это всем, кого приглашал к Женни. Он еще держался на ногах, хотя был мертвецки пьян. Увидев Женни, он пытался было склониться к ее руке, но споткнулся и снова повторил: – Что хочу, то и делаю…
– Вот как? – проворковала Женни. Взяв его одной рукой за плечо, она двумя пальцами другой руки стала подталкивать его в спину к выходу. Послышался шум распахнутой двери, затем падение тела. Минуту спустя Женни снова появилась в комнате и, подтянув юбку, как уличный мальчишка – штаны, с довольным видом потерла руки – классический жест, означающий «готово», – и удалилась из гостиной, словно со сцены, под смех и бурю аплодисментов.
Я бежала за ней по длинному коридору до самой спальни. Женни открыла дверь и уже собиралась зажечь свет, как вдруг я почувствовала на своем плече ее руку: «Тсс!» Женни кивнула в сторону ванной. Из-под двери пробивалась полоска света. «Слушай, – шепнула Женни, – там кто-то есть!» И верно, там разговаривали!
– Женни Боргез – шлюха, с кем была, с тем и спала, – бормотал кто-то, еле ворочая языком. – Небось успела всеми дурными болезнями переболеть, а лезет с возвышенными разговорами… Любовь… Смерть! Черта с два она себя убьет… Не блюй на пол, на то умывальник есть…
Мы на цыпочках вышли в коридор. И стояли там, пока из гостиных не убралась вся банда, что, впрочем, произошло быстро и без заминки: как ни пьяны были все эти люди, они поняли, что пора уходить. За отступлением наблюдал Жако, и я тут же послала его посмотреть, что творится в ванной. Женни переночует у меня. Перед уходом Женни подозвала Рауля и совершенно просто, словно за это время ничего не произошло, сказала:
– Итак, до завтра, Рауль… В девять утра. Пожалуй, не стоит и уходить… Если, конечно, вы собираетесь вернуться.
Когда я проснулась, было уже совсем светло. Женни не оказалось рядом со мной в постели. Я чувствовала себя полумертвой от усталости после этой слишком долгой, слишком мучительной ночи… Наконец, накинув на плечи пеньюар, не причесанная, не умытая, я отправилась на поиски Женни. Еще в коридоре до меня донесся звук выстрела, я бросилась бежать, даже не осознав как следует, что это такое.
В дверях я столкнулась с Раулем, он выскочил из Женниной спальни, словно кто-то с силой вытолкнул его оттуда.
– Умоляю вас, – заикаясь, пробормотал он, – умоляю вас, не вмешивайте меня в эту историю…
Отстранив его, я вошла в комнату, а он бросился к выходу.
Женни лежала на полу навзничь, раскинув руки и ноги… Длинная-длинная, неестественно огромная… Казалось, она распростерлась по всей комнате. Я упала возле нее на колени: у левой груди – маленькая дырочка, величиной с горошину. Она не дышала, сердце ее не билось… Все кончено… Я поднялась…. На столе – лист бумаги, почерк Женни: «Никто никого не любит. Больше не могу… Женни Боргез».
Я вышла в коридор и побрела к двери. Навстречу мне попалась Раймонда. Она спросила:
– Мадемуазель Анна-Мария, как там Женни, проснулась? Здесь два испанца, те, что тогда приносили цветы. Они пришли поблагодарить нашу Женни от имени Испанской Республики и передать ей подарок. Анна-Мария, вы меня слышите?
Я прижалась лбом к стене. Раймонда вихрем пронеслась мимо меня, и издали, из спальни Женни донесся ее крик:
– Убийцы! Убийцы! Убийцы! Все – убийцы! Все!
Непрерывный крик, словно автомобильный гудок, у которого замкнулись провода:
– Убийцы!
Прижавшись лбом к стене, я плакала. За моей спиной послышался голос Альвареса: «Мадам, что случилось, мадам?..»
Часть вторая
Я прекрасно понимаю: все, что произошло потом, не имело к смерти Женни никакого отношения… Тем не менее для меня именно выстрел Женни и дал старт всем бедам. Случалось ли вам ночью, в комнате с закрытыми ставнями вдруг в паническом страхе спросить себя: «Уж не ослепла ли я?..» Скорей, скорей зажечь свет!.. Но в кромешной тьме этой ночи зажигать было нечего, и я даже не задавала себе вопроса, ослепла ли я или весь мир погрузился во мрак.
Сентябрь 1939 года. Никаких известий о семье. Я совершенно растерялась – как быть, что делать?.. Пожалуй, детям лучше не приезжать во Францию до конца войны, а с другой стороны, поездка на Острова стоит так дорого, что нечего и мечтать о возвращении туда, пока не станет ясно, как все обернется. Я отказалась от квартиры, которую наконец подыскала: будущее представлялось мне слишком неопределенным, деньги были на исходе. Обзаводиться сейчас хозяйством было бы бессмысленно. Впрочем, все на свете потеряло смысл, осталось одно безумие, бред.
Я спросила у Марии, не может ли она приютить меня на некоторое время, хотя бы на несколько дней. Но она дала мне понять, что ее это стеснит, ведь она живет не одна. Женни, безусловно, не знала, что Мария живет не одна, странно, неужели Мария никогда с ней об этом не говорила… Жако предложил мне поселиться у него, он мог бы переехать к матери, но я с ужасом вспомнила о стеклянном фонаре над пропастью, о женщине, бросившейся в эту пропасть, и, поблагодарив, отказалась. Через несколько дней Жако призвали в армию.
Без него стало еще грустнее.
Я поселилась в гостинице. Мне пришлось уже взять взаймы у тетушки Жозефины тысячу франков, когда однажды утром пришла Мария с известием, что вскрыли завещание Женни и что она оставила мне целое состояние, a кроме того все свои драгоценности и пожизненную ренту (на случай, если я позволю себя обмануть или ограбить, – так было оговорено в завещании). Я завтракала, сидя в постели, а Мария, в Женнином котиковом манто и зеленом костюме, который так шел к Женни, смотрела, как я рыдаю над чашкой кофе с молоком. Розовощекая, упитанная, живая, во всем Женнином с головы до ног, она заговорила теперь о своей помолвке. Можно подумать, что Мария только и ждала смерти Женни, чтобы выйти замуж, что эта смерть развязала ей руки. Мария выйдет замуж, я буду жить в роскоши, и все это ценою вечной разлуки с Женни…
– Поздравляю вас, – сказала я, – кто ваш жених?
– Его фамилия З. Он журналист.
Имя это было для меня пустым звуком.
– Мы обвенчаемся только после окончания войны. Жених мой призван в армию, он получил назначение в Отдел пропаганды гостиницы Континенталь… Если вам нужен секретарь, Анна-Мария, у меня, как вам известно, большой опыт в этом деле.
– На что мне секретарь? – искренне удивилась я.
– У вас теперь много денег, их надо уметь распределить…
– Ну уж как-нибудь распределятся сами собой…
Мария не настаивала и посвятила меня в свои планы на будущее: «Пока у меня нет детей, буду работать. Хоть война эта и не страшная, но все же лучше дождаться конца и тогда строить семью, заводить детей». Уже в дверях она воскликнула: «Да, чуть не забыла сообщить вам забавную новость: знаете, на похороны Женни Рауль Леже пришел с женой. Он не посмел признаться Женни, что женат… Впрочем, никому из нас тоже. А она недурна – настоящая императрица и не без обаяния… но явная дура!» Я не была на похоронах Женни, и мне не пришлось тогда посмеяться над этой сногсшибательной новостью. Поэтому я посмеялась теперь…
Все друзья были призваны в армию. Остальные эвакуировались, одни уехали в провинцию, другие в свои имения и загородные дома. У меня нет никаких вестей с Островов. Воспоминания о Лилетте и Жорже слились с воспоминаниями о Женни: я в разлуке со всеми тремя. И разлука эта меня убивает.
Наступил май 1940, а я по-прежнему жила в той же гостинице. Июнь 1940 – я все там же. На моих глазах Париж опустел, потом его затянуло неумолимой плесенью, под которой городу пришлось гнить целых четыре года.
Время остановилось, не было больше ни дней, ни месяцев… Я ни с кем не встречалась и совсем одичала. Жако был в плену. Актер из Комеди Франсез – в плену. Рауль Леже – в плену. Остальные – в свободной зоне. Я виделась иногда с тетушкой Жозефиной, вернувшейся в Париж. Ходила одна в театр, в кино. Фильм «Жанна д’Арк» с Женни в заглавной роли был запрещен еще до выхода на экран. Я твердила себе, что я в тюрьме, ведь я не могла выехать из Франции, а семья моя не могла приехать ко мне. Вот уже два года, как я ничего не знаю о детях.
В конце 1941 года я покинула Париж. Эти два парижских года были самыми тяжелыми в моей жизни. Я призвала на помощь присущее мне благоразумие, которое помогало мне мириться с неизбежностью, помогало нести свой крест и улыбаться, как улыбается акробат во время исполнения опасного номера: все то же пресловутое чувство собственного достоинства, так раздражавшее Женни. Из чувства собственного достоинства я вставала каждый день в восемь часов, тщательно умывалась, хотя гостиницу не отапливали, выходила на улицу, что-то ела… Я старалась относиться к присутствию немцев, как к чему-то естественному: раз мы проиграли войну, – значит, они находятся здесь по праву. Подписывая перемирие, маршал Петен знал, что делает, и не нам его судить. Политика, война – дело не женское.
Зачем бежать из Парижа? Все равно детей теперь я не увижу, Женни не верну… вот почему мне даже в голову не приходило, что нужно куда-то уезжать. Но в ноябре 1941 года, возле Морского министерства я встретила мадам Дуайен, с которой когда-то познакомилась у Женни, на одном из ее многолюдных вечеров. Мы поздоровались и так и застыли друг против друга. Мадам Дуайен – статная белокурая женщина, в каракулевом манто и нелепой шляпке… И вдруг мы обе расплакались. Миг жестокой прозорливости, почти ясновидения. Она взяла меня под руку, и мы, пройдя немного по улице Ройяль, зашли в кондитерскую.
Мы почти не знали друг друга. Не знали? Так ли уж это важно в наши дни? Когда в дом вторгаются чужие, отношения между членами семьи как-то странно упрощаются. У каждой семьи свои тайны; люди, которые вместе росли, понимают друг друга с полуслова… «Поезжайте ко мне в именье, – шептала мадам Дуайен, – вы будете там одна. Я не могу оставить Париж, у меня муж, дети… но вам там будет хорошо. Смотрите, какой дождь, скоро наступят холода, а топить здесь нечем! Мадам Белланже, во имя нашей дружбы с Женни, примите мое предложение… Один мой знакомый, врач, как раз едет на машине в ту сторону. Не отказывайте мне, ведь на моем месте вы поступили бы точно так же». Я обрадовалась ее настойчивости. Мы обнялись под сенью свастики, водруженной на крыше гостиницы Крийон.
Хотя мотор подозрительно постукивал, выбрасывая густые клубы дыма, который отравлял воздух и разъедал мне глаза, машина неслась с бешеной скоростью. Передо мной маячила спина доктора в потертой кожаной куртке, его баскский берет и черные, прямые, слишком длинные волосы. Я была буквально втиснута в груду тюков и ящиков: весь этот багаж увозил с собой доктор. Мы останавливались только затем, чтобы заправиться бензином, да еще когда жандармы требовали документы. Я съела всухомятку сандвич, а доктор, по-моему, и вовсе ничего не ел. Время от времени он поворачивал ко мне нечисто, видимо наспех, выбритое лицо и спрашивал: «Ну как?» Под вечер он осведомился, в состоянии ли я продолжать путь: лучше помучаться и добраться сегодня же, сказал он, чем ночевать в теперешних гостиницах, где даже воды нет.
Было, вероятно, уже часов десять, когда доктор, не поворачивая головы, бросил: «Приехали». И машина тут же затормозила. Ночь стояла темная, едва проступали неясные силуэты деревьев и черная громада дома. Доктор открыл ворота, рука моя коснулась холодного мокрого железа… Пока мы пересекали то, что днем, наверное, было садом, мой спутник наконец счел нужным объяснить мне: «Мадам Дуайен просила отвезти вас сначала сюда, к аббату Клеману; она написала ему, чтобы предупредили слуг в замке…» Он постучал в дверь.
Как светло и уютно было в этой пустоватой комнате, обставленной старинной полированной мебелью. Аббат – болтун и непоседа, объяснял, что нас ждали не раньше завтрашнего утра, – но мы правильно поступили, что проделали весь путь за один день: очень, очень плохо сейчас на дорогах, прямо сказать – небезопасно. И он так многозначительно подмигнул, что даже стекла его очков сверкнули. «Садитесь, садитесь, мадам, вы, верно, устали с дороги! Мартина, куда ж вы запропастились, горе вы мое? Соберите быстро легкий ужин. Приехал майор с приятельницей мадам Дуайен!» Доктор, он же майор, с широкой улыбкой наблюдал за суетившимся аббатом; никогда бы не подумала, что он способен так улыбаться…

Появилась Мартина – бледная, степенная женщина, одетая во все черное, под стать своему хозяину, с манерами прислуги из хорошего дома. Она бесшумно скользила по натертому, как в довоенные времена, паркету, отпирала и запирала навощенные дверцы буфета, мигом накрыла стол белоснежной скатертью, расставила приборы, тарелки с золотым ободком и тяжелые граненые бокалы. Майор развалился в кресле, перегородив маленькую комнату своими длинными ногами. Мартина обходила их, как непреодолимую преграду, а маленький аббат сновал по комнате и, воздевая руки к небу, легко перешагивал через это препятствие, не переставая тараторить. Смысл его слов почти не доходил до меня, я дремала, изо всех сил стараясь усидеть на стуле.
– Кушать подано! – торжественно объявила Мартина.
«Легкий ужин» состоял из гусиного паштета и прочих деликатесов. Но на десерт аббат, который пространно рассказывал о присланных в их район малолетних преступниках, его подопечных, вдруг огорошил нас вестью, что сегодня утром немцы (боши, как назвал их аббат) реквизировали замок мадам Дуайен. «Не знаю, зачем он им понадобился!» И он снова воздел руки к небу. Майор в растерянности машинально крошил кусок хлеба.
– Значит, придется уезжать? – спросила я.
– Вы мужественно приняли эту неприятную весть, мадам! Так оно и должно быть, я не смел надеяться на подобное самообладание со стороны женщины, да еще парижанки! – У аббата, видимо, отлегло от сердца. – В соседнем доме, – продолжал он, – сдаются комнаты. Я послал Мартину узнать, не приютят ли вас там на сегодняшнюю ночь. Вы хорошенько отдохнете, а завтра решите, что вам предпринять.
– Дождь пошел, – сказала Мартина, входя в комнату. – Хозяйки согласны сдать комнату… Господин майор может, как всегда, переночевать здесь, если только он не предпочтет тоже провести ночь у этих дам…
Мартина заинтересовала меня: направление ума у нее, служанки аббата, более подходит для горничной из светского дома.
Я пожала руку аббату и хмурому майору, который, казалось, нетерпеливо ждал моего ухода; провожая меня до калитки, аббат проклинал и немцев и дождь в выражениях, вряд ли заимствованных из Священного писания.
Сквозь мрак и дождь не было видно ни зги. Я споткнулась о ступеньку крыльца. Провожавшая меня Мартина несла мой чемодан, она открыла дверь: плохо освещенная прихожая, запах газа и капусты, зеркало, оленьи рога, подставка для зонтов, вешалка – все таяло в зловонной мгле… Деревянная лестница, устланная дорожкой, местами вытертой до дыр; дорожку поддерживали всего два-три металлических прута, точно ее нарочно положили, чтобы гость свернул себе шею! Мартина поднималась впереди меня, показывая дорогу. На первой площадке стояла женщина до того дряхлая, что это было заметно даже в полутьме; я разглядела на голове у нее парик, надетый в спешке несколько набекрень; видимо, Мартина пришла просить для меня приюта, когда старуха уже легла. Она была закутана в какой-то широкий черный балахон. Идя вслед за ней по лестнице, я сочла нужным извиниться, что ее подняли в такой поздний час. На следующей площадке она остановилась.
– Вы намерены снять комнату? – спросила старуха, взявшись за ручку двери.
– Конечно, мадам…
– Судя по тому, как вы извиняетесь… аббат Клеман вполне способен прислать постояльца, который и не подумает платить… Бывали уже такие случаи… Но раз вы собираетесь платить… Мы сдаем помещение за деньги! – Она открыла дверь.
Большая, заставленная мебелью комната, вот и все, что я успела разглядеть. Едва Мартина и старуха вышли, я быстро разделась и, не осмотревшись как следует, не умывшись, юркнула в большую, пропахшую плесенью кровать и тут же заснула.
Комнату я разглядела только утром. Лежа в тепле под одеялами, я обвела ее взглядом… Чем только она не была набита! Мне показалось, будто я попала в густую пыльную заросль; такие бывают по обочинам дорог. Если бы мне пришло в голову продолжать сравнение, я назвала бы ковер с его спутанной бахромой и загнутыми углами пыльной дорогой меж зарослей стульев, кресел, нескольких молитвенных скамеечек, этажерок и круглых столиков… От широкой кровати несло плесенью, большой шкаф без зеркала, стулья с высокими спинками – все было выдержано в готическом стиле улицы Сент-Антуан с неизбежной пылью, прочно залегшей в деревянной резьбе. На потолке – пятна сырости, на стенах – картинки религиозного содержания, распятия, фотографии; повсюду – безделушки с надписью: «На память о…», подушечки для булавок, вазочки, статуэтки – все это окончательно вытесняло из комнаты последние остатки воздуха и пространства.
Я поднялась с постели, накинула теплый халат: в комнате было холодно, сыро; к счастью, несмотря на годы, прожитые под тропиками, я не стала зябкой. Или, вернее, я очень зябкая, но привыкла мириться с неизбежным. Рядом с комнатой оказалась ванная, в буквальном смысле слова изъеденная сыростью. Облупленные стены, все в желтых потеках, такие же потеки в самой ванне. Горячей воды, конечно, и в помине нет. На полу, покрытом линолеумом, – круги от ведер и кувшинов с горячей водой. Оба окна комнаты, – кровать стояла в простенке между ними, – и окно ванной выходили в сад, весь в потоках дождя.
Конечно, будь все так, как предполагала мадам Дуайен, я устроилась бы значительно лучше. Но когда Мартина постучалась ко мне и от имени майора, который собирался уезжать, спросила, каково будет мое решение, я ответила, что остаюсь.
Мы договорились со старухами. Кроме той, с которой я уже познакомилась накануне, имелась еще одна, ее сестра, вдова, помоложе, но ничуть не лучше. Она приняла меня в гостиной на первом этаже; гостиная вся состояла из чехлов и холода. Я посулила им денег, и старухи обещали убрать несколько молитвенных скамеечек и кое-какие безделушки – о, конечно, о вкусах не спорят, просто в комнате негде повернуться. Младшая сестра сперва заупрямилась – это была когда-то ее супружеская спальня, – но, видно, сестры находились в стесненных обстоятельствах. Мне милостиво разрешили поставить в ванной электрические плитки – достать их можно в городе – и даже согласились продать печку и уголь. Все как будто устраивалось… Оставалось лишь ознакомиться с городом и его окрестностями, присмотреться к условиям жизни, несколько иным, чем в Париже. Я надела непромокаемый плащ, резиновые боты и отправилась на разведку.
Вот и крыльцо и гравий, скрипевший вчера под ногами. Вилла довольно большая, с оштукатуренными, грязно-бежевыми стенами и остроконечной крышей. Сад с прекрасными, оцепеневшими от холода деревьями, дорога… Ряд вилл, какие бывают повсюду, ничем не примечательные, точь-в-точь как та, в которой я поселилась. Вдалеке показался трамвай… это его шум я ночью приняла за вой ветра в трубе… Кругом ни души, дождь… Сестры объяснили мне, что, свернув направо, я попаду в город, налево – в замок мадам Дуайен… если мне хочется посмотреть на него, – разумеется, только издали: теперь туда ходить нельзя – у ворот стоят часовые…
Пассажиры трамвая держались с завидной непринужденностью. Я же чувствовала себя неловко, я еще не знала, до какой остановки брать билет и сколько платить… Все искоса поглядывали на меня, – видно, здесь знали в лицо каждого, кто ездит по этой линии. Сердце у меня сжалось при мысли, что скоро и я стану постоянным пассажиром, буду рассеянно говорить «до конца» или что-нибудь в этом роде… сжалось при мысли, что этому безумию не будет конца.
Четверть часа трамвай шел все прямо, мимо вилл, затем – поворот, и садов как не бывало, одни только неказистые дома и лавки… Потом пошли дома получше, сквер… И, наконец, совсем приятные места; я вышла из трамвая, чтобы немного пройтись, хотя моросил мелкий дождь.
Городок курортного типа. В центре, вокруг гостиниц – магазины: меха, белье, кожаные, ювелирные изделия… Сразу же за ними начались красивые виллы, нисколько не похожие на ту, в которой остановилась я, правда, довольно старомодные: сплошь увитые плющом стены, в садах сложенные из ноздреватых камней гроты, фонтан в середине, зеленые боскеты, белые статуи… На улицах нарядные женщины, фланеры в кремовых перчатках, разномастные упряжки, высокие кабриолеты на двух желтых колесах, ландо… На одном из широких проездов, между двумя рядами вилл, мне повстречалась беговая качалка на резиновых шинах, запряженная великолепным рысаком, какого можно увидеть только на бегах. Конечно, до войны франты и щеголихи в это время года сюда не приезжали, но теперь все смешалось: законы природы и привычки людей; я ничуть не удивлюсь, если встречу в деревне женщину, семенящую по навозной жиже на высоких тоненьких каблучках, или увижу где-нибудь в лесной чаще мужчину с портфелем под мышкой, словно он пришел сюда вершить государственные дела… В момент перемирия люди, как в замке Спящей красавицы, оцепенели в той самой позе, в какой их застало поражение.
Я купила электрические плитки, несколько тарелок, салфетки, ножи и вилки… Домой я вернулась нагруженная, как верблюд. Я уже знала, где надо выходить из трамвая. Впрочем, от города до моей виллы рукой подать, можно и пешком дойти.
Аббат Клеман и Мартина взяли меня под свое покровительство: аббат добр ко всем, а Мартина почувствовала ко мне особенное расположение. Я не заботилась о продуктах: мне доставляли на дом яйца, молоко, мясо и даже хлеб – его пекла сама Мартина. Кормили меня на убой. Аббат снабжал меня книгами из своей фамильной библиотеки. Мартина с тем же рвением стирала пыль с золотых обрезов, с каким чистила кастрюли и натирала полы. Загадочная Мартина, женщина без возраста, без единой морщинки на бледном лице, плоскогрудая, вечно в одном и том же черном прямом платье, придававшем ей сходство с кюре… Она больше помалкивала, но жест, каким она гостеприимно распахивала передо мной дверь, был куда красноречивее слов.
Если вы поедете трамваем налево, в сторону замка мадам Дуайен, то в одном километре от моей виллы вы увидите большое старинное здание. На первый взгляд тюрьма. А на самом деле больница. Находилась она в ведении монахинь, мать-настоятельницу я нередко встречала у аббата Клемана. Эта дородная жизнерадостная женщина постоянно смеялась, – вероятно, она считала, что громкий смех успокаивает больных, но меня он пугал. Аббат и Мартина принимали ее вполне учтиво, но холодно, что не мешало ей приходить к ним чуть ли не через день. За больницей шли поля, леса, а дальше тянулась ограда владений мадам Дуайен, которым, казалось, нет конца. В глубине главной аллеи вырисовывался широкий фасад великолепного белоснежного замка. Две постовые будки, двое немецких часовых. Здесь помещалось гестапо, и никакой замок с привидениями не мог бы внушить крестьянам соседних деревень того ужаса, какой внушало им не только само это здание, но даже его окрестности. Шикарные машины с немецкими офицерами непрерывно сновали по дороге: стоило Мартине завидеть такую машину или услышать шум мотора, как она тут же начинала креститься и губы ее шевелились в беззвучной молитве… Одни машины направлялись в замок, другие возвращались оттуда. Миновав поместье мадам Дуайен, вы попадали на перекресток, а потом, взяв влево, через несколько минут доходили до ипподрома.
Печка прекрасно обогревала комнату. Кухню я устроила себе в ванной. Запас картофеля, как и полагается, хранился в самой ванне. Иногда выпадали чудесные солнечные дни; я много гуляла, занималась своим несложным хозяйством, читала, старалась хоть как-то убить время… Мартина прислала мне в помощницы жену одного военнопленного, сильную, расторопную женщину, у которой все кипело в руках; когда я бывала дома, она рассказывала мне о своем муже-шорнике (в окрестных владениях имелись конские заводы и устраивались скачки). У Анны было двое детей, которых она все собиралась ко мне привести. Даже мебель и та уступила усердию Анны и заблестела, вероятно впервые с тех пор, как прибыла с улицы Сент-Антуан. В конечном счете я, пожалуй, предпочитала эту жизнь парижской, если только уместно говорить о предпочтении.
Но зато мне решительно не нравилась бесцеремонность, с какой хозяйки в любое время дня и, конечно, без стука вторгались в мою комнату. Внезапно распахивалась дверь, и появлялись сестрицы, иной раз вместе, иной раз поодиночке и всегда по пустякам: то протекает крыша, то аббат Клеман снова прислал одного из подопечных колоть дрова, и на сей раз это уж наверняка – убийца; то Мартина приносила мне что-то в корзинке, но не захотела оставить, сказала – вернется… Когда же старухи, одна или обе, усаживались, тогда – конец, от них не отделаешься… Не умею я выставлять людей за дверь! Старух, по-видимому, привлекала горячая печка, в их комнате со стен текло, как в погребе. Они никогда у себя не топили и, насколько я понимаю не покупали ничего съестного, если не считать супа, за которым ходили в благотворительную столовую. Ни разу я не видела, чтобы они читали газету, наверное, и тут экономили. Жили они как нищенки, но отнюдь не из бедности, а из скаредности, самой мерзкой скаредности, с какой мне доводилось сталкиваться в жизни.
Из двух сестер особенное отвращение мне внушала младшая, та, что была замужем и овдовела. Лучше бы она, по примеру сестры, носила парик, тогда, по крайней мере, сквозь жиденькие пряди волос не просвечивали бы проплешины – противные маленькие лысинки. «Мой покойный муж был очень недурен собой, – рассказывала она, отщипывая кусочки чего-нибудь съестного и ловко кидая их с довольно большого расстояния в бездонную воронку рта, – маленького роста, как и положено жокею, легкий, словно перышко… Он носил цвета графа Б., камзол желтый с лиловой полосой наискось, картуз – наполовину желтый, наполовину лиловый, сапоги с отворотами… Тяжелая профессия!» Старуха снова подкреплялась то тем, то другим; она была невероятно худа, казалось, вот-вот упадет от истощения, и я считала своим долгом ее подкармливать. Она продолжала: «Однажды во время скачек он замертво свалился с лошади – сердце сдало… Со всех сторон бежали люди, лошадь остановилась как вкопанная, смотрела на него, обнюхивала, точно опомниться не могла… А еще говорят – лошадь!.. Его принесли домой, и он умер на этой кровати…» Я старалась представить себе жокея в камзоле из желто-лилового атласа, в сапогах с отворотами в этой комнате, на этой кровати… С таким же успехом я могла бы вообразить, что здесь жила кафешантанная певичка, и то и другое одинаково не вязалось со здешней обстановкой. Но чаще всего старухи сетовали на дороговизну, жаловались, что вынуждены во всем себе отказывать. Я узнала, что у них есть брат – судебный писарь, который в делах, как говорится, собаку съел, его не проведешь.








