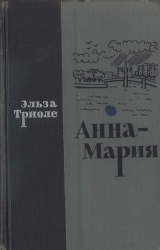
Текст книги "Анна-Мария"
Автор книги: Эльза Триоле
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
– Все мы как после тяжелого похмелья, – сказала Анна-Мария. – Времена героизма безвозвратно миновали… Мы опьянели от него, а теперь подавлены, словно еще не протрезвились. Мечтать больше не о чем, во всяком случае в ближайшее время… Вы, Колетта, попали совсем свеженькая в вагон, где люди, просидев целую ночь на жесткой скамейке или простояв в коридоре, изнемогают от усталости… На вас красивое, хорошо выглаженное платье, вам хочется поболтать, вы ждете, что за вами станут ухаживать. Вы только начинаете путешествие, а мы, мы выбились из сил, и нам не до вас…
Колетта высморкалась:
– Не понимаю, что вы хотите этим сказать…
– Одним словом, – внезапно раздражаясь, произнесла Анна-Мария, – вы не нарадуетесь, что переехали из провинции в Париж, что у вас красивые платья, что вы ходите в театры, смотрите пьесы, о которых прежде могли только читать рецензии в газетах; у вас есть все, вы готовы начать игру… И вы до боли поражены, что никто не хочет играть с вами, хотя война кончена и вы получили наконец право… Но не забывайте, что почти все люди измотаны, изношены… А вы – молодые женщины, свеженькие, нарядные, – вы только и думаете о любви… Мне же, Колетта, не до телефона… и это не потому, что я вдвое старше вас!
И тут резко прозвучал телефонный звонок. Анна-Мария и Колетта были так поражены, что, не шевелясь, смотрели на аппарат, а звонок неистовствовал. Наконец Анна-Мария сняла трубку.
– Алло! Да… – проговорила она, – да… Конечно. Буду вовремя… Спасибо, что предупредили…
Она положила трубку.
Колетта с любопытством смотрела на Анну-Марию. Она ничего не знала о ее личной жизни.
– Вы не ждали, а он позвонил, – сказала она, и в голосе ее послышались нотки раздражения, которое вот-вот обернется настоящей злобой… – Ведь не ради же фотографий вам звонят в полночь!
– А вот и ошиблись! – спокойно возразила Анна-Мария. – Мне звонили из газеты и спросили, не хочу ли я поехать фоторепортером… в тюрьму Френ… Не скрою, что звонил очень красивый юноша. Поверьте, Колетта, – Анна-Мария ласково взяла ее за руку, – сейчас, чтобы не ждать телефонных звонков, надо быть с человеком в какой-то иной, а не только в любовной связи. Тогда он вам непременно позвонит. Однако это не значит, что я в близких отношениях с тем красивым юношей из газеты! Впрочем, он вовсе и не красив, я просто хотела вас подразнить… А теперь бегите, потому что завтра мне нужно встать в семь часов…
XIV
Вот этой, другой связи, должно быть, и не существовало между Анной-Марией и генералом де Шамфором. Во всяком случае, он не звонил ей добрых четыре месяца. Правда, генерал бывал в Париже наездами, очень редко и только по делам. Последний раз он приехал на прием к министру. Увидев Анну-Марию в дверях гостиной мадам де Фонтероль, он пожалел, что не позвонил ей раньше. Но ей об этом не обмолвился ни словом: все его мысли занимала аудиенция, назначенная на следующее утро. Генерал хотел, чтобы его выслушали, – ему предлагали отправиться в Индокитай, а он считал, что для него найдется дело и во Франции. Он решил позвонить Анне-Марии сразу после аудиенции. Женщины занимали в жизни генерала второстепенное место, в первую очередь он был воином, борцом. Когда-то де Шамфор был женат, но его молодая жена умерла вскоре после свадьбы, и ни одна женщина не выдерживала сравнения с ней, если не такой, какой она была в действительности, то такой, какой она осталась в его воспоминаниях. Строгий и взыскательный по отношению к женщинам, генерал жил отнюдь не отшельником. Из множества встречавшихся ему на пути женщин он чутьем угадывал и выбирал только настоящих, и тем не менее ни одной из них он не позволял вторгаться в свою жизнь. Память о мертвой ограждала его от любви к живым. Затем появилась Жюльетта. Единственный, неповторимый день, проведенный с нею, стер в памяти образ покойной. Вся его жажда романтики воплотилась теперь в Жюльетте, исчезнувшей в хаосе грозных лет. И даже Авиньон, где Селестен пережил этот единственный, неповторимый день, остался для него навеки освященным милой тенью Жюльетты. Вздумай Анна-Мария ревновать его к какой-нибудь живой женщине, у нее для этого не оказалось бы ни малейших оснований. Жизнь Селестена была так полна, – оккупация Германии, вечные переезды, вечная моральная неудовлетворенность, перемены, происшедшие в его внутреннем мире, настолько поглощали его мысли, что он просто не мог уделять внимание женщинам. А если ему случалось подумать о любви, он думал об Анне-Марии. Ему нравилась ее средневековая грация, ей пристало бы длинное, темное платье, корсаж с мыском, слегка подчеркивающий линию живота и облегающий тонкую талию и округлые груди под белой прозрачной вставкой, высокий остроконечный чепец, скрывающий тяжелые косы. Он вспоминал грудь Анны-Марии, обнаженную, как на картине Жана Фуке «Мадонна с младенцем», и в нем просыпалось страстное желание коснуться этой нежной белизны… Тогда он спрашивал себя, что думает Анна-Мария об их отношениях. Ему даже пришла в голову мысль, что ее сдержанность может попросту объясняться безразличием. Но генерал, привыкший всегда оставаться хозяином положения там, где дело касалось женщин, гнал эту догадку. Казалось, Анна-Мария не дорожит им, а вместе с тем как она любит любовь! А вдруг ей все равно кого любить? «Нет, – думал Селестен, – не могу я так ошибаться…» Когда она вошла в гостиную мадам де Фонтероль и, увидев Чарли, улыбнулась своей детской улыбкой, для генерала весь огромный мир внезапно сосредоточился в этой женщине; он почувствовал как бы толчок в сердце, что-то похожее на мгновенную вспышку зубной боли, когда не успеешь даже подумать: «Ну вот, сейчас у меня разболится зуб»… как все уже прошло… Белая грудь мадонны… Однако аудиенция, о которой просил генерал, была назначена на следующее утро, и ему не хотелось думать ни о чем другом. Там видно будет.
Но когда, на следующее утро, он сразу же после приема позвонил Анне-Марии из какого-то кафе, телефон не ответил. А ему так хотелось повидать ее, он не мог ни о чем ином думать. В трубке повторялись гудки: ту-ту-ту… Никого. Он вернулся в свою темную квартиру на первом этаже, и там молодой, блестящий генерал де Шамфор напился в полном одиночестве до бесчувствия. Много раз в беспросветном мраке сознания перед ним вставал образ Анны-Марии. «В какой момент то, что было добром, становится злом? – спрашивала она. – Например, в какой момент тот факт, что ты находишься на службе у иностранной державы, становится злом для твоей родины? С какого момента убийство перестает быть подвигом и становится преступлением?» Германия, СССР, союзники, политика, коммунисты, родина на распутье… Дух Сопротивления… У генерала не было никаких оснований просить отставки, кроме одного: он любил ясность, а тут сам черт ногу сломит. Таков был результат беседы с министром: генерал уже не понимал, что собираются делать, какого придерживаться направления. Генерал де Шамфор не был политиком, он умел только воевать, и теперь он отчаивался, негодовал и возмущался, пожалуй, не меньше, чем в дни разгрома, в 1940 году. Только теперь де Шамфор не знал, кого винить. Во всяком случае, пока еще не знал. Да, тут сам черт ногу сломит. Хотя он, генерал и военачальник, никому в этом не признавался… Так как генерал пьянел с трудом, ему пришлось выпить немало, прежде чем он свалился под стол.
Анна-Мария вышла из дому в восемь часов; все, кто ехал во Френ, должны были встретиться в половине девятого. Журналисты сидели в автобусе буквально друг на друге. Анна-Мария – новичок в своей профессии – никого из них не знала. Но с нее хватало воспоминаний: окна машины, в которой ее везли тогда во Френ, были замазаны черной краской; ее втиснули в какую-то щель, отделение, рассчитанное на одного человека, а их там было двое – она и другая женщина – приходилось стоять, прижавшись вплотную друг к другу. Разбитое, распухшее лицо, запах давно немытого тела. Прикосновение руки незнакомки к ее плечу именно в ту минуту, когда Анна-Мария почувствовала пустоту во всем теле, как при морской болезни: первый приступ страха… «Покрепче презирай их, – сказала женщина, – это помогает…» Разделенная на кабинки машина, возможно, ехала по тем же самым улицам, по которым сейчас движется автобус. «Ты парижанка? Можешь разобрать, где мы?» – спросила женщина. «Не знаю, – ответила Анна-Мария, – это не парижская мостовая…» Потом машина остановилась. «Френ…» – сказала женщина, когда открыли дверь… «Schnell, schnell…» – раздавалось кругом.
– Анна-Мария! – окликнул ее кто-то.

Анна-Мария обернулась; ухватившись за поручень автобуса, который подскакивал на ухабах, стоял рядом с ней Мальчик-с-Пальчик – журналист, с которым она познакомилась у Женни, один из завсегдатаев ее дома… С 1944 года, с самого Освобождения, Анна-Мария ни разу не встречала его. Он, по-видимому, все так же преуспевал. Клетчатый пиджак, новенькое пальто, красивый галстук.
– Что вы здесь делаете, Анна-Мария? – расплывшись в улыбке, спросил он. – Стали журналисткой? А я думал, вы на ваших Островах…
Анна-Мария обрадовалась знакомому: она робела среди этих непринужденно переговаривавшихся людей, которые давно освоились и друг с другом, и со своей профессией. К тому же ее взволновало воскресшее в памяти тяжелое прошлое. Правда, после первого путешествия во Френ она под видом инспектора социального обеспечения вдоволь насмотрелась тюрем, и это помогло ей организовать побег двадцати смертникам.
Однако тюрьма навсегда осталась для нее кошмаром, с потерей свободы она никак не могла примириться. Страшнее любой физической боли, недоедания, издевательства была потеря свободы. Дверь без ручки – вот первое, что бросается в глаза арестованному, когда за ним закрывается дверь.
– Вы прекрасно выглядите, – болтал Мальчик-с-Пальчик. – Так, значит, занимаетесь фотографией? Отлично… Обязательно дайте нам что-нибудь из ваших снимков… Вы и в самом деле прекрасно выглядите… Где вы сейчас живете?.. А мы с Марией (он имел в виду Марию Дюпон, секретаря Женни) все гадаем, куда это вы пропали… Подъезжаем. Всем выходить!
Все стали выходить.
Анна-Мария пережила несколько мучительных часов. К счастью, приходилось фотографировать, и это отвлекало от тяжелого, гнетущего чувства тоски. Журналистов интересовал главным образом центральный, мужской корпус. Директор всей пенитенциарной службы Франции носил фамилию Амор [36]36
Игра слов: во французском языке «à mort» – «смерть ему (им)!» пишется с буквой «t» на конце. Такова была настоящая фамилия директора тюрьмы Френ после Освобождения. (Прим. автора.).
[Закрыть]только без «т» на конце.
– Нам пришлось разрешить передачи, – объяснил он, – чтобы не допустить вспышки эпидемических заболеваний в тюрьме. Того, что выдают по карточкам, недостаточно для нормального питания.
– Неплохо! – произнес какой-то журналист рядом с Анной-Марией. – Вот бы нам, свободным, прислала хоть раз передачу! По-моему, это просто пикантно: добрые папы-мамы снабжают своих арестантов продуктами с черного рынка.
Во времена Анны-Марии от тогдашних жалких передач по милости надзирателей ничего не оставалось.
Толпа журналистов прошла за первую решетку, и она закрылась за ними. По спине Анны-Марии пробежал холодок… Огромная тюрьма, самая современная тюрьма Франции, самый современный из кошмаров. Анна-Мария сфотографировала уходящую в бесконечность перспективу коридоров, широких, как улицы; по обеим сторонам – стены, высотой в пять этажей, на каждом этаже вдоль стены – балкон-галерея, куда вместо окон, как в настоящих домах на настоящих улицах, выходят сотни дверей. Анна-Мария сфотографировала и высокие стены с балконами, и ряд дверей, и надзирателей, расхаживающих взад-вперед по балконам каждого этажа. Время от времени, гулко и торжественно, как в церкви, раздавался голос: кого-нибудь из заключенных вызывали к адвокату. Фотоаппаратом нельзя охватить сразу все галереи, но, глядя на одну, не забывай о других, и, глядя на все эти двери, помни о сотнях других дверей. На снимках не видно также и людей за дверьми… Их здесь всего лишь в четыре раза больше того количества, на которое рассчитана тюрьма – смешно даже сравнивать с тем, что творилось здесь во время оккупации.
Журналисты выстраивались в очередь у глазков дверей в камерах смертников.
– Пожалуйста, потише, – твердил директор, – как бы они вас не услышали! Они, понимаете ли, ждут с минуты на минуту, что за ними придут… Прошу вас, потише, не надо их зря тревожить…
Анна-Мария сняла очередь и даже самого мосье Амора, под шумок, не спросив разрешения: побоялась, что он его не даст. Мальчик-с-Пальчик с сигаретой во рту бодро расхаживал взад и вперед, но как он ни хорохорился, ему было явно не по себе. Анна-Мария сфотографировала Пальчика у «глазка» одной из камер.
С внутреннего двора можно было увидеть сотни лиц, прильнувших к окнам второго и третьего этажей: заключенные смотрели на журналистов, столпившихся на галереях… Молодые, здоровые зубоскалы.
– Ну эти как вырвутся, только держись! – заметил кто-то.
Анна-Мария в меховом пальто поверх теплого шерстяного платья дрожала всем телом, такой невыносимый холод стоял в тюрьме. Но она не хотела жалеть их, не хотела, чтобы ее разжалобил вид людей, из-за которых другие страдали не только от холода. Трава во внутренних дворах, желтоватая травка, пробивающаяся между камнями, классическая тюремная трава… Птицы сюда не залетают… Большая, голая часовня, с расположенными амфитеатром, тесными рядами каких-то будок, вернее, закрытых шкафов с одной только узкой щелью на уровне глаз. В те времена, когда тюрьма Френ состояла из одиночных камер, заключенных водили сюда на молитву в накинутых на голову капюшонах. Теперь капюшоны упразднили, заменив их вот этими шкафами, куда заключенных рассаживали по одному. Анна-Мария сфотографировала дверцу шкафа, сплошь покрытую с внутренней стороны надписями; так же были исписаны все остальные шкафы. Слова, что переливаются через край измученного сердца, приветы тому, кто придет на смену, брошенная в море бутылка с посланием, потребность высказаться, отчаянная попытка спастись от одиночества… Как все это далеко от вырезанных на коре дерева сердец, даже если здесь и встречаются сердца, или от надписей, нацарапанных туристами на стенах грота.
Репортерам, которые с удовольствием отправились бы восвояси, разрешили осмотреть женское отделение.
«Уж если смотреть, то хорошеньких», – сказал кто-то из журналистов. Не цинизм, хуже цинизма. Анна-Мария подумала, что для газеты, которую представляет этот журналист, было бы лучше, если бы он, к примеру, заведовал отделом биржевых новостей… Ей захотелось сфотографировать это молодое, чуть одутловатое, однако не безобразное лицо, давно нуждавшиеся в стрижке прямые волосы, спадавшие прямо на грязный воротник непромокаемого плаща. Бедняга, должно быть, совсем продрог. Он ходил взад-вперед, засунув руки в карманы, заглядывая в дверные глазки… Показалась ли ему хорошенькой та смертница, что медленно бродила по своей камере, прибранной, как перед отъездом, словно приговоренная собралась на вокзал? Пустая камера, несмотря на эту женщину в черном, – ее уж нет, это лишь тень, жуткая тень женщины, которая выдала собственного своего сына гестапо, и его расстреляли… В этой самой камере Анна-Мария провела с другими заключенными семнадцать дней. С ужасающей ясностью всплыл образ Маргариты… Никогда Анна-Мария не встречала среди оставшихся в живых, на свободе, людей такой женщины, как Маргарита. Мужество, сила воли, доброта… Ее сперва приговорили к смертной казни, потом угнали в Германию. Анна-Мария виделась с ее адвокатом, на миг мелькнула было надежда, но чудес на свете не бывает… Анна-Мария сфотографировала дверь камеры.
– Я сидела в этой камере… – объяснила она Пальчику, который посмотрел на нее со смешанным выражением восторга и ужаса, решив про себя написать о ней статью. Остальные, к счастью, не знали ее. Мальчик-с-Пальчик принялся расспрашивать Анну-Марию о жизни в тюрьме.
– Вам, кажется, не по себе, Пальчик, – улыбнулась она. – А между тем за последние годы нас приучили к тюрьмам… Все играли в прятки, и более чем естественно, что время от времени некоторые попадались.
– Нельзя привыкнуть к смерти или к проказе… Я не могу смотреть спокойно на эти решетки и запертые двери! Некоторые люди падают в обморок при виде крови, а мне становится дурно именно от таких вот вещей. – Мальчик-с-Пальчик побледнел. – Значит, вы говорите, вас поднимали в … Не хочу вынимать записную книжку, иначе они набросятся на вас… Вы обратили внимание – они не идут туда, где никого нет и можно обнаружить что-нибудь никому не известное, а толкутся здесь, боясь упустить то, что заметили все остальные… Видели вы сумасшедших в том корпусе? В обыкновенных камерах, как и все! Одного из них преследует страх перед маки, ну и глаза у него, дорогая, ну и глаза!.. Они сошли с ума уже здесь, и это понятно… Вы обратили внимание на разбитые двери? Это работа сумасшедших, стены тюрьмы потрескались, они из прессованного картона, а никудышные дверцы – из папье-маше! Если бы всех заключенных разом охватило буйное помешательство, они бы вырвались отсюда… Замки́, правда, огромные, да что в них толку, они остались еще от средневековья…
– Нет, вы заблуждаетесь, – возразила Анна-Мария, – к тому же пулемет здесь был не для собак, а для нас…
– Да, верно… – Мальчик-с-Пальчик растерянно умолк. – Так в котором же часу, вы говорите, вас поднимали?.. А потом спрошу, в котором часу сейчас…
– Т-с-с, – прошептал директор, – не шумите перед камерами смертниц…
Визит журналистов явно затянулся.
– Самая пора поесть, – сказал какой-то старик, похожий на смятую газету, которую вынули для растопки из ящика с углем.
Одна группа журналистов уже стояла у дверей, засунув руки в карманы, морщась от холода. Разгорелся спор, стоит ли осматривать кухню, хлебопекарню?.. Разве что погреться там, на дорогу?
На обратном пути в автобусе все с нетерпением ждали, когда появится Париж, центр города. Сидя рядом с Анной-Марией, Мальчик-с-Пальчик вслух мечтал о стакане виски. В общем, человечество делится на две категории: люди в камерах и люди вне камер. Все пытаются посадить друг друга под замок, и все друг друга побаиваются.
– А вы говорите о человеческих отношениях между людьми!
Мальчик-с-Пальчик казался не на шутку расстроенным, а Анна-Мария и подавно. Он был прав: «А вы говорите о человеческих отношениях…» Ему было страшно. И действительно, люди такого насмотрелись, такого наслушались, что отрава проникла им в кровь. Выходцев из гитлеровских концлагерей узнавали на улице по их отсутствующему взгляду, а когда тьма спускалась на город, остановившийся грузовик, купа деревьев в центре Парижа начинали казаться грудой трупов… Да и живые люди, деловито снующие взад-вперед, вдруг представлялись мертвецами: неестественно выпирающая грудная клетка над ввалившимся животом и бедра – не толще ручки метлы… Сколько ни фотографируй, сколько ни сиди в темной комнате, сколько ни занимайся нарядами, ни предавайся любовным утехам, никуда от этого не уйдешь.
Лестница ее дома показалась Анне-Марии бесконечно длинной. Наконец-то благодатное тепло жилья! Стены облупились, все тут не по ней, и тем не менее здесь она у себя. Хорошо иметь свой угол. Уже третий час, а она еще ничего не ела. Анна-Мария подобрала просунутые под дверь письма и прошла в кухоньку. Солнце растопило холодное серое небо, и как раз против кухонного окна появились голубые полыньи, лучи пробивались сквозь занавески в белую и голубую клетку. Кофе, варившийся в кофейнике с отбитым носиком, распространял приятный аромат… Анна-Мария опустилась в старое плетеное кресло и взялась за письма. Она не любила получать письма, почта – неисчерпаемый источник огорчений. В каждом письме, откуда бы оно ни пришло, могут оказаться дурные вести с Островов, нежданная беда. И на сей раз одно из писем принесло неприятность: агент, через которого она нашла квартиру, доводил до сведения, что ее владелица, американка, в ближайшее время возвращается в Париж и намерена поселиться у себя. Анна-Мария осмотрелась: клетчатые занавески, желтые, выщербленные тарелки, оловянные горшки на полках, старые, помятые кастрюли, газовая плита с большим колпаком, как над старинными очагами… Она только успела привыкнуть ко всему этому. А квартира уже уходит от нее, поворачивается спиной, словно она чужая. По какому праву считает она то или иное уродливым, нелепым, ведь она здесь не хозяйка, она ворвалась в личную жизнь незнакомых людей; хватит подглядывать в замочную скважину – предоставьте каждому быть счастливым по-своему, у себя… Придется переехать в гостиницу. Вряд ли в гостинице удастся проявлять пленку и печатать фотографии. Вот уже долгие годы нет у нее своего угла. Настоящий ее дом был когда-то там, на улице Рен. Мебель для приемной выбирал Франсуа по своему вкусу – металлические трубки и кожа, – но в остальных комнатах стояла унаследованная Анной-Марией старинная дедовская мебель. Дед ее был сельским врачом в Дордоньи. Там, в деревушке, у него был домик, весь зеленый от плюща, а при домике огород. Перед отъездом в колонии они продали старинную мебель антиквару на улице Фобур-Сент-Оноре и получили немалые деньги. Когда умерли дедушка и бабушка, а затем и родители Анны-Марии – за десять лет много воды утекло, – Франсуа настоял на продаже домика. Какой смысл держать его, чтобы он гнил, никому не нужный, пустой. И Анна-Мария подумала, что осталась одинокой вовсе не из-за войны. Она не военная вдова, а военная разводка, она морально вдова, если можно так выразиться; она не жертва войны и в концентрационном лагере не была, а о маки ей напоминали всего лишь уродливые шрамы на левой ноге. Так на что жаловаться? Даже ногу ей не отняли, хотя начиналась гангрена… «Я потеряла Рауля…» – шептала она про себя, но, останься Рауль в живых, возможно, он показался бы ей теперь обыкновенным ловеласом. Лишь силою обстоятельств Рауль поднялся над самим собой… Анна-Мария все еще сидела в кресле, словно ждала кого-то или чего-то; ничего и никого она не ждала и, как тогда, по возвращении в Париж, старалась не поддаться отчаянию. Да, не вовремя прибыло это письмо, выгонявшее ее из дому как раз после посещения тюрьмы Френ, когда ей и без того было тошно. Анна-Мария встала, чтобы позвонить Жако; только у него могла она просить помощи.
Жако сказал, что попытается найти помещение из тех, что были реквизированы бошами и их протеже. Не стоит снова связываться с меблированной квартирой, она обойдется втридорога, и в конце концов пора уже Анне-Марии иметь собственный угол. Какой смысл вечно жить на бивуаках. Пожалуй, даже к лучшему, что ее выставляют за дверь, иначе она ни за что бы не собралась искать себе жилье, совсем цыганкой стала. Да, да, он непременно поищет среди реквизированных домов, чтобы ей не пришлось снова платить чудовищные суммы за право въезда в квартиру… Спокойный, уверенный голос Жако проливал бальзам на ее раны. Сколько у нее еще времени впереди? Месяц? Да этого за глаза хватит. Облегченно вздохнув, Анна-Мария положила трубку, сердце ее переполняла благодарность другу, который в трудную минут всегда оказывался рядом. Она займется своей пленкой. Фотография оставалась для нее колдовством, она все еще не могла привыкнуть к тому, как вновь возникают точные воспроизведения виденного, богатый улов образов, который уже не вырвется из сетей; она принесла домой Френ, и теперь Френ у нее в руках… Анна-Мария провела весь день в темной комнатушке, забыв обо всем на свете…
XV
Выждав двое суток после той пьяной одинокой ночи, генерал де Шамфор позвонил Анне-Марии. Накануне он послал ей целый куст азалий. Может статься, она будет занята, думал он. И, пожалуй, не только в этот вечер; кто знает, что произошло за четыре месяца. А что, если она завела себе другого любовника, а то и десять. Не ждать же ей его, как Пенелопе, она ведь не жена ему… Но Анна-Мария, не жеманясь, согласилась встретиться с ним и как ни в чем не бывало приехала в квартиру на первом этаже.
– Чего ради должна я отказываться от собственного удовольствия? – сказала она, когда Селестен признался ей в своих опасениях. Этим ответом она давала ему понять, что приходит сюда ради собственного удовольствия, и только.
Грудь, белая грудь… Посвистывал газовый радиатор, люстра с электрическими свечами, где перегорели почти все лампочки, отбрасывала тусклый красноватый свет, который смягчали задернутые перед альковом шелковые занавески. А на следующее утро даже не стоило открывать ставни на окнах, выходящих в сад, – скелеты деревьев преграждали путь и без того слабому свету дня; Селестен поднялся, зажег электричество и газ.
– Я очень плохо принимаю вас, дорогая.
Анна-Мария дремала. Ей надо попасть домой к часу, следовательно, времени еще много. Сквозь полуопущенные веки она видела, как Селестен ходит взад и вперед по комнате, красивый, несмотря на нелепое облачение: домашние туфли, болтавшиеся у икр шнурки галифе… Он причесался, и его черные, чуть тронутые сединой волосы послушно обрисовывали форму головы; он был небрит, и худое лицо казалось от этого еще более худым. Тонкий, жесткий рот, орлиный нос, косо поставленные глаза с внезапным, быстрым, как скачок, взглядом; именно этот взгляд и привлекал Анну-Марию, привлекал непонятно почему, как непонятна причина всякого любовного влечения. Настоящий мужчина, хотя у него, пожалуй, еще не исчезли черные крылья падшего ангела. Он был очень хорош собой.
– Почему бы вам не погостить у моей матери в деревне, вы оказали бы мне этим большую честь, – сказал он, уже натянув сапоги и застегивая френч. – Там, по крайней мере, вы прилично питались бы. Дом старый и довольно ветхий… удобств никаких… зато места там красоты неописуемой, да и весь край словно создан для вас. Представляю себе вас в длинном платье без всяких украшений, в широком, ниспадающем с плеч плаще, на фоне холмистого пейзажа, на этой земле, где под неизменно синим небом виноградники сменяются целиной, целина – порослью зеленых дубков… – Подойдя к постели, Селестен с высоты своего роста посмотрел на Анну-Марию… – Ваше лицо пугает своей чистотой… Приезжайте… Мать у меня старая, парализованная, вы ее даже не увидите… Слуги все дряхлые… Приезжайте, как только наступит хорошая погода, – боюсь, что зимой вам там не понравится, мистраль действует на нервы даже привычным людям, а иногда выпадает снег – нелепый в этой солнечной стране. Но когда начинает цвести розовый миндаль… Согласны? – Селестен склонился к Анне-Марии. – Согласны приехать ко мне?
– Миндаль зацветет еще очень не скоро, – ответила Анна-Мария, и ее широко открытые большие серые глаза, спокойно взглянули на Селестена. – Я тоже прекрасно представляю себе вас в гарриге – ветер, тишина, ни души… – Анна-Мария закрыла глаза, и усталость легла ей на лицо, как слой пыли. – Пусть лучше никого не будет, если действительно никого нет, чем когда людей полно и все-таки никого нет.
– Мы с вами одиночки, – произнес Селестен и сел на кровать, хотя уже собирался уходить.
Анна-Мария промолчала. Вероятно, Селестен полагает, что одиночество – романтика или поза. Одиночество – увечье, вот что такое одиночество, одиноким становятся, как становятся калекой. Сейчас люди чувствуют себя одинокими, потому что после человеческого тепла, на которое они не скупились последние годы, пришел ледяной холод равнодушия – слишком резкая перемена погоды. Они не искали одиночества, эти люди, наоборот, оно явилось для них огромным несчастьем. Вдвойне одиноки те, кто дважды потерял семью: человеческую и свою личную. Никого, никого вокруг… Анна-Мария почувствовала, как слезы подступают у нее к глазам, и отчаянным усилием воли сдержала их. Нет, только не перед Селестеном!.. О, если бы она обладала жестокостью мужчины, жестокостью Селестена, с какой он в том страшном немецком замке произнес: «Небо над Авиньоном…» – будто обнимая, назвал ее именем другой… Обладай она его ненужной жестокостью, она сказала бы ему, что думает о ночах любви, проведенных с ним… Бедный Селестен! Нет, не будет она плакать перед чужим человеком.
Надев подбитую мехом куртку и уже стоя на пороге, Селестен сказал:
– Вам незачем торопиться… Сюда никто не придет до завтра, да и то… Уходя, просто захлопните дверь. Но не забудьте чего-нибудь, я уеду, а ключ у уборщицы, и неизвестно, когда она придет…
Он снова подошел к постели:
– Боюсь поцеловать вас на прощанье, а то я никогда не уйду…
Он поднес руку к кепи.
Селестен, выходя, отодвинул железную решетку на двери, и Анна-Мария мельком увидела серенький день. Дверь закрылась, и решетка снова захлопнулась… Анна-Мария спрыгнула с постели, заперлась на ключ и бегом бросилась к кровати. Как надежно спряталась она здесь от всего мира, который и не собирался ее искать! Чувство полной своей ненужности давило, как бремя. Она пыталась создать себе какую-то искусственную жизнь в надежде, что жизнь эта окажется сильнее ее, будет диктовать свою волю… Нечего, как страус, прятать голову под крыло, она свободна, вольна в любую минуту все прекратить, не вставать, не идти на свидания, не фотографировать. Нет у нее чувства необходимости, внутренней или внешней, которая могла бы заставить ее продолжать… Она продолжала лишь из чувства долга… Но долга по отношению к чему? К кому? Почему, оберегая стол американки, она ставила чайник на пробковую подставку, почему до блеска начищала кастрюли, почему мылась, даже когда вода замерзала в тазу, почему вовремя приходила на свидания и, не щадя сил, с таким примерным рвением занималась фотографией? Чувство долга? Перед кем, перед чем? А между тем она прекрасно знала, что может в любую минуту, никого не обеспокоив, бросить все свои дела. Но что же еще оставалось ей делать, если не продолжать? Покончить с собой?.. Подобно Женни? Вот уже шесть лет, как Женни умерла. Нет, не будет она плакать. Перед ней с ужасающей ясностью всплыла демонстрация четырнадцатого июля, на которую она пошла с Женни, первая демонстрация, в которой она участвовала. Люди на улицах кричали: «Да здравствует Женни Боргез!» В той группе, с которой они шли, люди подходили к Женни, почтительно здоровались с ней и уходили болтать и смеяться с другими. Анна-Мария вспомнила, как она тогда спросила у Женни: «Не перейти ли нам в другую группу, где у тебя больше знакомых?» Сначала Женни как будто рассердилась, но потом мягко ответила: «Никакой другой группы нет, для таких, как я, не существует группы, дорогая…» О, голос Женни, произнесший «дорогая…»! Вот уже шесть лет, как ее нет в живых, нет в живых, потому что не было для нее группы. Нет, только не плакать… Женни! Но ведь Анна-Мария не Женни, она ничем не примечательный рядовой солдат. Тогда почему же для нее нет группы? Что бы там ни говорил Жако, она знала одно: пойди она на какое-нибудь женское собрание, и всюду о ней говорили бы «наш друг», были бы с ней приветливы, а она чувствовала бы себя еще более одинокой, чем наедине сама с собой… «Почему вы так переменились, Аммами, откуда у вас такая вялость, безразличие?» Откуда? Сражаться с бошами было легко и просто, тут ты рисковала только собственной жизнью. Но даже в то время опасно было покидать ряды бойцов; стоило чуть отойти туда, к огромной инертной массе, как у тебя сразу опускались руки. Что пользы насильно заставлять людей быть счастливыми? Почему они не хотят этого счастья? Насколько все было бы проще, если б они шли за нами, весь сор вымели бы быстро и начисто. Но поддерживать порядок во всем мире, это то же, что поддерживать его в доме: каждый день приходится все начинать сызнова… А те, кто населяет мир, даже со стула не приподнимутся, чтобы облегчить вам уборку, в лучшем случае позволят подмести вокруг себя. Ну что ж! Раз им нравится жить в грязи… Не хотят, как хотят… Анна-Мария предпочитает вообще не встречаться с этим чуждым ей миром, куда Жако пытается ее затащить. «Не понимаю вас, – говорил Жако, он и вправду не понимал, – ведь после разгрома Германии ничто не изменилось. Война продолжается, Анна-Мария, и это так же очевидно, как существование армий и бомб!» Зачем он объяснял ей это, ведь она и так все знала, все видела! Но именно тяжести понесенного поражения и не могла она вынести. Она не походила на женщин, вернувшихся из немецких лагерей и снова с головой ушедших в работу, которая привела их туда… Но они, эти женщины, составляли группу… У Анны-Марии не было своей группы, она была одна.








