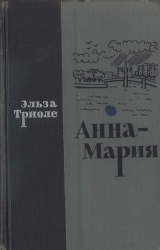
Текст книги "Анна-Мария"
Автор книги: Эльза Триоле
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
– У меня есть белошвейка, – сказал портной, – которая освободит вас от всех забот; правда, берет она дороговато, но зато достает все, что угодно…
Анне-Марии было неприятно принимать у себя кого бы то ни было, ей казалось, что она тем самым снимет с окон и дверей этой чужой квартиры печати, ею же самой наложенные.
Вот почему, услышав дребезжание колокольчика (в квартире не было электрического звонка, американка, следуя моде былых времен, повесила у входной двери длинную, вышитую крестом ленту), Анна-Мария открыла не сразу, у нее замерло сердце. Что-то неведомое получит доступ в эту квартиру… Она очутится с глазу на глаз с чужим человеком. Колокольчик звякнул еще раз. Анна-Мария встала: что ждет ее там, за дверью? Непростительная с ее стороны опрометчивость!
Белошвейка оказалась милейшей особой. Сперва занялись бельем. Руки ее со знанием дела перебирали муслин, кружева и шелк. Помогая Анне-Марии надеть комбинацию, она присела на корточки, отчего приоткрылись ее колени и ляжки до розовых штанишек. Кожа, как у младенца. Лицо строгое и нежное, яркую белизну его особенно подчеркивали черные гладкие волосы. И глаза у нее то, что называется – красивые. Она громко восторгалась Анной-Марией – какие руки, ноги, какая грудь! Анне-Марии даже стало неловко, но, как известно, комплименты всегда попадают в цель. Затем занялись ветчиной, от которой Анна-Мария отказалась, и шоколадом – Анна-Мария оставила его себе целый килограмм, – взяла она также мыло, шелковые чулки и заказала чай и кофе. Цены на все были действительно бешеные, и Анна-Мария почувствовала стыд, словно ее уличили в каком-то тайном грехе. Белошвейка уложила белье в картонку, и Анна-Мария заперла за ней дверь двойным поворотом ключа. Затем живо обернулась: ей почудилось, будто в высоком зеркале, обрамленном вытертым зеленым плюшем, мелькнула чья-то, не ее, тень. Она подумала, что дальше так продолжаться не может, пора покончить с одиночеством.
IV
– Ваше настроение мне не нравится, – говорил Жако, он же полковник Вуарон, – хватит! Как это можно сидеть в промозглой квартире, бездельничать и отравлять себя воспоминаниями. Полно, полно, Аммами, когда-то вы были смелой женщиной…
Они сидели на узких деревенских лавках, за столом с желтыми тарелками, поставленными на плетеные салфеточки из рафии. Приятно было видеть дружеское лицо Жако, его крупную светловолосую голову, голубые глаза, так не вязавшиеся с грубоватым обликом этого грузного, слегка обрюзгшего человека, с его дубленой кожей и резкими морщинами. На Жако все сидело мешком; с последней встречи он еще располнел, американский френч собирался на груди складками. Никак нельзя было предположить, что Жако силен, как богатырь.
– Я была смелой, – сказала Анна-Мария, – когда это было просто. К тому же теперь я осталась совсем одна.
– Тогда выходите снова замуж.
– Чудесная мысль.
– А почему бы вам не выйти замуж? Что в этом особенного? Вы молоды, хороши собой…
– Мы с вами старые знакомые, Жако. Вам ли не знать, что я не молода…
Жако внимательно посмотрел на ее голову в венце туго заплетенных блестящих кос, на ясные, серьезные глаза. Да, верно, она на десять лет старше Женни Боргез, значит ей сейчас… нет, лучше не уточнять… пожалуй, она действительно не молода, но, несомненно, хороша собой. Прежде он об этом не думал. Когда-то он слишком любил Женни, чтобы замечать Анну-Марию. Потом думал о ней только как о верном человеке, которому можно поручить любое задание. Аммами не трусила, не жаловалась даже в больнице, куда ее перевезли от этих мерзавцев-фермеров, бросивших ее, когда, раненная в ногу, с начинающейся гангреной, она лежала на куче навоза… За тот бессмысленный ночной поход наказывать было некого, во всем был виноват Рауль, но он и самого себя подвел под пулю. Сейчас, спокойно сидя за обеденным столом против Анны-Марии, Жако заметил, что он никогда прежде не смотрел на нее. Или, может быть, она сильно изменилась? Да, пожалуй, изменилась.
– Вы очень изменились, Аммами, – сказал он.
– Все изменились. Вы тоже: никак не могу свыкнуться с вашей формой, полковник! Я очень изменилась и, если бы можно было все вернуть, стала бы любовницей Рауля. Если бы я была его любовницей, возможно, жандармы не убили бы его!..
– Если бы это говорили не вы, я счел бы все сказанное просто скверной шуткой…
Но Жако тут же устыдился своих слов: Анна-Мария ничуть не шутила.
– Вы больны воспоминаниями, Аммами, и это мне понятно, но советую вам, как самому себе: не предавайтесь им. Займитесь чем-нибудь…
– Заведу себе любовника, – спокойно сказала Анна-Мария.
Жако встал:
– Простите, я не в силах больше сидеть на ваших деревенских лавках… Шутки в сторону… Послушайте, Аммами, вы же знаете, как редки в нашей стране настоящие люди. Война не кончилась, нацизм…
– Перестаньте, Жако, я читаю газеты… Знаю, что мы не выиграли войну, и вместе с тем не хочу этого знать… Состояние страны… вчера я видела одну белошвейку… Хватит с меня всего этого… Я хочу приятно проводить время. Заведу себе любовника…
– Для приятного времяпровождения?
Жако сел на диван, безжалостно смяв квадратные накидки из старинной парчи и соря вокруг пеплом.
– Заведу любовника, – упрямо повторила Анна-Мария, – это придаст мне уверенности в себе, вот так карманы спасают человека, который от растерянности не знает, куда девать руки. Мое отношение к мужчинам можно выразить несколькими трафаретными фразами: честолюбив, как мужчина; корыстолюбив, как мужчина; лжив, как мужчина; вероломен, как мужчина…
– Что они вам сделали?
– Мне? – Ничего. Но они – причина всех зол на земле и еще кичатся этим.
Жако курил. Несмотря на военную форму, он выглядел сугубо штатским. Через несколько дней в Париже наступит праздничное ликование. Победа. А он, Жако, уедет в Берлин, предоставив Анне-Марии развлекаться в одиночестве.
Теперь, когда ее уединение все равно было нарушено, Анна-Мария могла бы куда-нибудь пойти, кому-нибудь позвонить. Но она этого не делала. Жила, как прежде, до встречи с Жако, словно ждала кого-то, ждала тщетно. Кастрюли сверкали, она бегала на примерки, нормандский шкаф постепенно наполнялся, шляпные картонки громоздились одна на другую. Анна-Мария накупала себе целое приданое…
Ее часто можно было встретить в салонах известной модистки. Мадемуазель Жермена – усталая, слегка отяжелевшая, с глазами, какие бывают лишь у немолодых парижанок, – прекрасные, все изведавшие, снисходительные, грустные, хищные глаза – относилась к ней с симпатией. Анна-Мария привлекала ее. Мадемуазель Жермена стояла во главе всемирно известной фирмы, но она была романтична, как мидинетка, а мадам Белланже казалась ей таинственной, загадочной. Здесь, где всем было известно who is who [17]17
Название светского справочника, дающего сведения о людях, имеющих некоторую известность, здесь – подноготная (англ).
[Закрыть]каждой клиентки, ее никто не знал; у нее, по-видимому, было много денег, она покупала, не задумываясь, не останавливаясь перед ценой и притом с полным безразличием к покупке. Когда мадам Белланже смотрит на себя в зеркало, что она в нем видит? Мадемуазель Жермена жила среди красивых вещей, и ей доставляло удовольствие видеть свои шляпы на красивой головке, они от этого выигрывали, становились еще краше. Все шляпки были к лицу мадам Белланже.
– Мадемуазель Жермена, – шепчет продавщица, пока та наблюдает за примеркой мадам Белланже, – вас просят… Графиня Р.
– Не пойду, – говорит мадемуазель Жермена, – я ее видеть не могу, она мне все шляпы портит…
– Но, мадемуазель, она уже три раза вас звала…
– Не пойду и все! Не обязана я…
– Ш – ш… – испуганно шепчет продавщица, с ужасом оглядываясь, не слышит ли графиня.
Но графиня без тени улыбки примеряет перед зеркалом шляпу за шляпой, профиль у нее унылый: отвислый нос, отвислый подбородок, отвислая кожа под подбородком… Вдоль стен большой квадратной комнаты сидят дамы и рассматривают себя в зеркалах; вокруг них порхают мастерицы с соломкой, лентами, вуалетками, птичками, цветами… Воздух насыщен соблазном. Здесь процветает искусство, уходящее корнями в почву Парижа, здесь обитает нечто необъяснимое, то, что зовется модой. Женский облик, повторенный зеркалами, никогда не выходит из моды точно так же, как живые цветы, как весь загадочный и легкомысленный женский мир.
– Она очень хороша, твоя шляпка, – хвалит старшую мастерицу мадемуазель Жермена и встает, чтобы опустить крыло птицы на нежный висок мадам Белланже. Старшие мастерицы – звезды этих салонов, и как всякие звезды, они капризны и взбалмошны, даже сама мадемуазель Жермена вынуждена им льстить… Мадам Белланже смотрит куда-то в сторону: чуть подальше в ряду отражений она узнает черные, что называется – красивые глаза: глаза белошвейки. На той нарочито строгий костюм, ей примеряют жесткое, сухое канотье, которое уродует ее. Анна-Мария слегка откидывается назад: белошвейку заслоняет высокая девушка, примеряющая шляпу с желтой птицей, осеняющей раскрытыми крыльями ее лоб… Черный рынок, очевидно, приносит белошвейке крупные барыши, раз она заказывает себе здесь шляпы. В этом канотье она похожа на гувернантку, которая крадет серебро, прививает детям дурные наклонности, принимает любовника в постели своих хозяев, пока те в театре, или занимается проституцией, что узнается лишь на двадцатом году ее безупречной службы… Белошвейка улыбнулась Анне-Марии. Мадемуазель Жермена перехватила улыбку:
– Вы знакомы с ней?
– Как сказать…
– У нас тут никто не сотрудничал с немцами, – продолжала мадемуазель Жермена. – Когда они приходили к нам, им показывали только самые уродливые модели. Ни одну из моих мастериц не угнали в Германию… На какие только уловки мы не пускались, лишь бы уберечь их… Некоторые сидели безвыходно у себя, и мы носили им еду на дом… А вот этой, – мадемуазель Жермена глазами указала на белошвейку, – я платила, чтобы она улаживала дела с удостоверениями… Она была своим человеком в гестапо.
– Так, так, – проговорила Анна-Мария и на ходу пожала унизанную кольцами руку мадемуазель Жермены.
Сама хорошенько не понимая почему, мадемуазель Жермена растрогалась до слез.
Анна-Мария вернулась домой пешком. Скоро ли наступят вновь благословенные времена такси, когда можно будет гулять ровно столько, сколько хочешь, не выбиваясь из сил. А сейчас, за что ни возьмись, приходится доводить себя до полного изнеможения.
Квартира приняла ее неприветливо. Что поделаешь, она не чувствовала себя дома в этих облезлых желто-фисташковых стенах. Она села на диван с его нелепыми накидками из старинной парчи, которые все время сползали. «В общем, – думала Анна-Мария, – страна вся сплошь заминирована. Клиентки мадемуазель Жермены – великосветские дамы и белошвейки с черного рынка… А мужчины? Мужчины и того хуже, потому что они еще больше напуганы, потому что они рискуют большим…» В маленькой гостиной стемнело, и она зажгла настольную лампу, но электрическая лампочка тут же начала краснеть и погасла… опять выключили свет. Анна-Мария не шевелилась, придется ждать, пока снова подадут ток. Она представила себе нежные щеки и жесткий взгляд белошвейки. Гестапо… А что, если сейчас позвонят у двери и перед ней предстанет белошвейка со своими кружевами и атласом, ветчиной и шоколадом… Как это ее до сих пор не посадили? Свет все не зажигался. Незаметно Анна-Мария задремала, и ей приснилось, что зазвенел колокольчик и пришла белошвейка. «Сударыня, – говорит она, – умоляю вас, пойдемте со мной!» Они садятся в машину – старенький закрытый автомобиль с разорванной в клочья обивкой; за рулем – коренастый шофер, голова у него ушла в плечи… Вот она, смертельная опасность!.. Потом какой-то замок, пустой, как гнилой орех, опрокинутая мебель, разбитые вазы, под ногами валяются пустые обоймы… Но вот снова звякнул колокольчик, почему звонят, ведь дверь открыта? Анна-Мария просыпается; колокольчик все еще дребезжит… В тот же миг лампочка начинает накаляться… Открыть? Ну, разумеется!
За дверью – белошвейка! В черном костюме, без шляпы. Анна-Мария поражена и молча смотрит на нее. А та говорит, широко улыбаясь:
– Извините за беспокойство, сегодня утром я забыла у вас сверток…
– Не знаю, возможно, сейчас посмотрю…
Анна-Мария возвращается в гостиную: действительно, в углу, у ног одной из статуй лежит какой-то сверток. Как это она его раньше не заметила?
– Извините за беспокойство, – повторяет белошвейка, и улыбка сбегает с ее лица: должно быть, у Анны-Марии безумный вид. Она слышит, как белошвейка стремительно сбегает по лестнице: приятно все-таки испугать гестаповку. Анна-Мария идет на кухню, сейчас самое время выпить чашечку кофе.
Она поставила кипятить воду, взяла в буфете желтую чашку. Наливая воду в кофейник, она вдруг подумала: действительно ли звонил колокольчик? Действительно ли приходила белошвейка? Нет, нельзя больше жить в одиночестве. Жако прав, надо чем-нибудь заняться. Но вновь завязывать отношения с людьми было так же трудно, как во времена подполья восстановить прерванную связь. Она не знает ни одной явки. Какой вкусный кофе ей продала белошвейка!
V
Жако вернулся довольно скоро. Он много рассказывал о Берлине, о разрушенном городе и его жителях. Он привез Анне-Марии лейку… Спасибо, но что мне с ней делать? Как что? Фотографировать. Признаться, аппарат попался мне под руку случайно, но так как он великолепного качества… Ну что ж, спасибо, вы все-таки очень милый! Берлинский черный рынок – настоящая ярмарка, барахолка: люди продают там свои души, технические приборы, часы, обувь, брильянты… а Париж? Здесь праздновали победу… а потом прошла ужасная гроза, – казалось, снова палят пушки… нет, не в день победы, позднее… На Троицу, как положено, лил дождь… Все прошло прекрасно… на улицах было полно молодежи, американцев, все кричали, пели, и хотелось спросить, а где же те, кто уже не молод?.. На Елисейских полях немолодая женщина смотрела на французские и американские грузовики, обросшие поющими и орущими людьми, как обрастает ракушками киль судна… Немолодая женщина плакала, и понятно почему: ведь не все вернулись домой… В тот вечер в мире произошла какая-то перемена! В небе загорелась гигантская буква V [18]18
V – начальная буква французского слова victoire – победа.
[Закрыть]– это боги подавали знак: зажигай все огни! Если б вы видели освещенный Нотр-Дам… или просто окна домов, похожие на яичные желтки, а Сена стала опять такой, как прежде, какой была до войны: снова выступили из тьмы все ее излучины, деревья, огни и мосты, а под ними вместо черной бездны перемежались свет и тени, и мне вдруг показалось, что войны как будто и не было… Площадь Согласия – поле огненных маков. А колонна на площади Бастилии – горящий в ночи факел, будь у меня в то время лейка, я бы сфотографировала голубя, попавшего в луч прожектора и ракетой взвившегося к самому подножью Гения свободы… И конечно, летали самолеты, как и сейчас; слышите, из-за них Париж не может уснуть… они спускались все ниже и ниже, должно быть, скучали там, наверху, в одиночестве… Казалось, вот-вот они смешаются с танцующей толпой, что же еще делать в день победы толпе двадцатилетних, как не танцевать на трупах?.. Время от времени, словно боясь, что о них забудут, – будто можно хоть на миг забыть о них, когда они так рокочут, – самолеты сбрасывали сверху красные и желтые гроздья смородины, они сыпались с небес на огни Парижа… Вы слышите этот оглушительный рокот? Я даже не пытаюсь уснуть, если это не прекратится, пойду утоплюсь… Значит, вы не завели любовника? В такой день вы гуляли одна? О! Везде было много народу… Ладно, ладно…
Она даже не казалась слишком оживленной и говорила спокойным голосом, но Жако видел на ее лице отблеск празднества.
– Раз вам все равно не спится, Аммами, не пойти ли нам с вами куда-нибудь, где играет музыка и где танцуют?.. После Берлина это доставило бы мне удовольствие… Хорошо?
Они вышли; парижское небо вновь обрело свой довоенный полуночный колорит… Огромные ходули буквы V пересекали небо, измученное бессонницей. Ходули эти лучше были видны из темного колодца двора Лувра; отсюда огромная симметричная буква V разворачивалась в небе, опираясь на Триумфальную арку… Анна-Мария непременно хотела все это показать Жако. Вдоль улицы Риволи жемчужными нитями висели тесные ряды крупных, ярко светящихся фонарей. А за ними начинался огненный поток площади Согласия.
– Теперь нам не от кого прятаться, – сказала Анна-Мария. – Какое счастье – этот свет, но я еще не привыкла к нему, мне как-то не по себе, словно я хожу голая… Теперь уж нигде не заблудишься.
Огни Елисейских полей провожали их до самого офицерского клуба союзников, где играла музыка и где танцевали.
В клубе было столько военных, что, несмотря на безупречных метрдотелей и элегантных женщин, все здесь напоминало о войне. Большинство посетителей были американцы, и оркестр в клубе был превосходный, американцы любят танцевать под превосходный оркестр. Не успел Жако заказать шампанское, как Анну-Марию пригласил какой-то американец. Она встала. Только она вернулась на место, подошел другой, и так без передышки, весь вечер. Жако пил и смотрел, как танцует Анна-Мария: какая у нее тонкая талия! В его жизни была только одна любовь – Женни.
Анна-Мария возвращалась к нему и чинно садилась рядом, на ее нежных щеках играл легкий румянец… Но вот снова подходит тот, первый американец… Она танцует главным образом с ним. Жако потягивает вино, зажав бокал в широкой ладони. Три часа ночи.
VI
– Превосходные вещи делали в Германии, – говорит Анна-Мария, высунувшись из окна и разглядывая автомобиль. – У него хороший ход? Вы должны научить меня водить машину. Чтобы стать фоторепортером, я должна все уметь.
Жако не видел Анну-Марию с того вечера в клубе, а с тех пор прошло две недели. За это время она успела увлечься фотографией. Как хорошо, что он надумал привезти ей лейку, хотя на первый взгляд этот подарок показался ей бессмысленным! Ремешок аппарата улегся как раз в ложбинке между грудей.
– Не знаете ли вы, где можно было бы пообедать за городом? – спросил Жако, когда они сели в машину.
– Погодите… Не могу собраться с мыслями от волнения – неужели я сижу в машине! Сколько времени прошло… В последний раз я ехала на машине зимой 1944 года. Это был санитарный грузовичок… Надеюсь, вы умеете водить?.. А то мне очень страшно!
– Я умею водить, даже когда машина в исправности. Хотя я не привык к этому, ведь мои парни за несколько ночей гробили любую машину…
– Умираю от страха, – сказала Анна-Мария, когда они огибали Триумфальную арку.
Машина свернула на широкую аллею Булонского леса.
– Не будем искать ресторана в лесу, здесь еще повсюду железный лом и полно военных… Поезжайте через мост, раньше на том берегу, вдоль Сены, было много ресторанчиков.
Все тут было словно припорошено пылью, которую никто, кроме ветра, не сметал. И пусто, как в городах, откуда все живое ушло при приближении немцев. Мертвыми казались невысокие дома, стоявшие в дорожной пыли, лицом к Сене и великолепным деревьям, которыми некому было любоваться. Гараж… фабрика… свежая воронка, должно быть на месте дома – между обвалившимися камнями уже пробивается трава, – ресторанчик с разбитой террасой… гостиница… Кому может прийти в голову поселиться в этой гостинице?.. Груженая баржа тащилась не быстрее улитки. Вдоль берега – неподвижные баржи. Парк за длинной оградой… Маленькие оштукатуренные виллы, и снова – обвалившиеся камни… маленькие кафе, маленькие гостиницы, гаражи, ресторанчики, заборы… Ресторанчик при гостинице… За оградой зелень. А что, если рискнуть? Жако поворачивает… и едва успевает вывернуть машину: мимо метеором проносится американский грузовик! Он уже давно исчез, а они все никак не могли опомниться, только чудом им удалось избежать катастрофы, они представили себе, как грузовик на всем ходу врезается в их машину… На этой пустынной дороге, казалось, не было никого, кроме них, и Жако, разворачиваясь, даже не оглянулся; их спасла какая-то доля секунды… Они погибли бы от столкновения с этой машиной, быть может единственной, проехавшей здесь за целый день.
В конце концов Жако все же свернул во двор; они были в хорошем настроении, им дышалось легко. Во дворе, налево – беседки из зелени, направо – двухэтажный дом. Оттуда тотчас же вышла женщина. «Накормите нас?» – спросил Жако.
Настоящий лабиринт! Они гуляли между беседками, выбирая столик. Вернее, не гуляли, а кружили на месте, с одной стороны они наталкивались на стену, с другой – на курятник и чуть подальше – маленький чуланчик, где помещалась уборная. Беседки из растрепанной колючей зелени были крытые и без крыш, за решетчатой загородкой или за подстриженными кустами, словом – на любой вкус, но пустые… Деревянные столы на прочно врытой в землю ножке стояли без скатертей, засыпанные листьями, песком и гравием, словно только что прошла гроза. Жако и Анна-Мария уселись за первый попавшийся столик, но тут же встали: повсюду валялся высохший помет. Появилась женщина с клетчатой скатертью на руке и подносом.
– Лучше всего вам будет там, – сказала она и повела их в закрытую, самую тенистую беседку. – Можем вам предложить, – накрывая на стол, сказала женщина, с понимающей, сочувствующей улыбкой на губах, – для начала сардины, колбасу, салат, гусиный паштет… Затем – бифштекс или свиные отбивные… Картошку, жареную или отварную… Потом, если пожелаете, омлет с ромом или яблочный торт…
– Черт знает что! – сказал Жако, когда они заказали обед. – Их тут всех следовало бы пересажать!
Внезапно в беседке стало светло, листья зазеленели, золотые блики превратили скатерть в шкуру пантеры, стаканы засверкали, а солнечные лучи словно прибили пыль, и она исчезла…
– Что будете пить? – спросила женщина; она принесла закуски, среди них на подносе стояла вазочка с белой распустившейся розой.
– Она принимает нас за влюбленных, – сказала Анна-Мария, когда женщина ушла, – мы для нее не просто клиенты, с которых можно содрать: она явно покровительствует нам.
Отчаянно кудахтали куры. Залаяла собака. Послышался мужской голос: «Мадам Антуан, принимайте бутылки, только виши нет, я привез бадуа…»
– Интересно, кто будет ее здесь пить, эту бадуа? – спросил Жако… – Но тут все-таки хорошо. Встречались вы с тем американцем?
Этот вопрос вертелся на языке у Жако с той самой минуты, как он увидел Анну-Марию.
– С каким американцем?
Розово-белая редиска походила на рот и зубы Анны-Марии.
– С тем, с которым вы всю ночь протанцевали тогда в клубе.
– Да что вы, это же не принято!
– Вашим друзьям повезло, что родители дали вам такое прекрасное воспитание, – заметил Жако. – Мы должны быть им очень благодарны.
– О, посмотрите-ка, петух на столе! Точь-в-точь флюгер!
Анна-Мария вскочила с аппаратом в руках. Петух, окаменев посреди стола, ждал ее, повернувшись боком.
– Меня посылают в Германию с оккупационными войсками, – сказал Жако, когда она вернулась на место. – Хотите поехать туда потренироваться? Мы скажем, что вы репортер.
– Какой газеты?
– Любой…
– Лучше, как будто я фоторепортер Агентства…
– Воля ваша.
Жако улыбался. Она сказала «как будто», словно маленькие девочки, когда они играют: «как будто» они пришли в гости или на прием к врачу.
– Я еду на юг, где война прошла стороной. Увидите, вам будет там хорошо. Признаюсь, я с радостью покидаю Берлин. Жить среди развалин в конце концов становится невыносимым. Нельзя существовать среди хаоса.
– Развалины хороши только тепленькими.
Жако посмотрел на нее: да она, оказывается, цинична, эта девица, не забывшая родительских наставлений. Один бог знает, что у нее на уме!
VII
– Анну-Марию не узнать, – говорил полковник Вуарон. – Мы с тобой помним ее еще с того времени, когда Женни жила у нее на улице Рен… Переезд с улицы Рен в колонии – сущая бессмыслица.
– При таком желчном характере, как у ее супруга, только и жить в колониях… Я всегда очень жалел Аммами, она такая милая женщина; ущипни меня, а то мне кажется, что все это сон – Жако – полковник, Аммами дралась с немцами, а у меня, вечного первого любовника вечной Комеди Франсез, все еще не сгибается рука… Кстати, скажу тебе одну вещь, которую пока еще держу втайне: я бросаю театр. Буду сниматься в кино. Великие традиции – вещь прекрасная, но оплачивается она плохо. И не век же я буду молодым первым любовником.
– Ты все еще хорош собой…
– Не жалуюсь… Женни – одна из величайших актрис нашего века, была киноактрисой…
– Ее приглашали в Комеди Франсез…
– Да, правда… Но, видишь ли, она не приняла приглашения!
– Вижу, что ты еще не окончательно решил… У тебя впереди много времени, Франсис… Я делаю тебе комплименты, как женщине, но актер – почти что женщина… У тебя впереди много времени, баррикады Освобождения пошли тебе на пользу, теперь ты – мужчина…
Прекрасная ночь. Сидя на террасе, полковник и актер не спеша потягивали вино. На вилле оказались французские спиртные напитки: промышленник, хозяин виллы, побывав на фронте, захватил их во Франции, а французы отобрали их вместе с виллой у промышленника.
Днем на этой террасе, несмотря на оранжевые зонты, стояла невыносимая жара, и в саду, лишенном тени, тоже нестерпимо палило солнце. Промышленник выстроил виллу недавно, и деревья, которые он насадил, еще не успели разрастись. Поскольку сад был весь открыт солнцу, полковник приказал посадить у террасы оранжевые цветы. Подальше росли картофель и салат. Но в ночной темноте не было видно, что цветы оранжевые. Видно было лишь необъятное черное небо и облака, пенившиеся под круглой луной. Она плыла по небу, театрально освещая укрепленный замок на вершине горы.
– А что делает здесь Анна-Мария?
– Приехала под видом фоторепортера… появилась сегодня утром и тут же попросила у меня машину, ей хочется все осмотреть… А ты не находишь, что она сильно изменилась?
– Последний раз я видел ее в Париже, сразу же после Освобождения. Рука у меня еще была на перевязи. Ничего особенного я не заметил. Когда знаешь человека уже столько времени… Жаль, что ее нет, я был бы очень рад повидать ее, нашу славную Аммами… Но в котором же часу возвращаются твои пансионеры, ведь уже одиннадцать! Дисциплинка у вас хромает! Пожелаю тебе спокойной ночи, завтра в шесть я уезжаю. Празднества в Ландау доконали меня, ты знаешь де Латтра…
Они вошли в дом через широкие стеклянные двери виллы, ярко-белой под луной. Большие комнаты тоже были залиты лунным светом.
– Лотта! – крикнул полковник, войдя в освещенный холл. – Не знаю, куда она повесила твой плащ… Лотта!
На верху лестницы появилась горничная и торопливо сбежала вниз.
– Неплохо вы устроились, – сказал актер, с удивлением глядя на горничную в прозрачном, расстегнутом халатике, открывавшем голые ноги.
– Холостяцкий дом… – равнодушно отозвался полковник.
Легонько вздыхая спросонья, Лотта принесла плащ и отперла дверь. Заскрипел песок под ногами, два ночных сторожа, немцы в штатском, стали навытяжку. Большая машина полковника ждала у подъезда, за рулем сидел шофер в военной форме.
– Небо совсем розовое, – сказал полковник, – еще не погасили иллюминацию. Спустись к реке, увидишь, как красиво. Надо же показать бошам, что если уж мы за что-нибудь беремся, то у нас получается лучше, чем у них…
– Как у вас здесь насчет комендантского часа? А вдруг твои варвары пошлют мне вдогонку пулю!
– Не беспокойся, комендантский час у нас понятие довольно растяжимое… К тому же у шофера на руках все, что требуется. До свиданья, Франсис. Анна-Мария, я уверен, огорчится, что ты ее не застал.
– До свиданья, Жако, передай ей от меня большой привет…
Машина покатила. Дорога скрипела под колесами, как садовый гравий под ногами. Она поднималась, спускалась, петляла. В свете уличных фонарей четко выступали виллы, белые кубообразные здания, похожие на виллу полковника, только меньших размеров. По одну сторону дороги, сразу же за виллами и садами, шли поля, за ними – лесистые холмы, высокие, как горы. А дальше виллы теснились друг к другу, дорога превратилась в мощеные улицы, улицы становились все уже и уже, сады исчезли. Вот и сердце города, не переменившееся со времен средневековья, площадь, которой Франсис любовался еще днем. Все окна черные, словно в городе все еще затемнение или словно у его порога стоит враг и жители либо ушли, либо попрятались. Редкие фонари не были помехой луне, она царила повсюду. Франсис остановил машину: он пройдется до гостиницы пешком. Машина скрылась за поворотом, и Франсис долго слышал ее шум в притаившейся городской тишине. Он пересек площадь, спустился по ступеням, раза два-три свернул в какие-то улочки и опять спустился вниз… Вот и мост.
Достаточно было дойти до середины моста и обернуться, и над глубоким черным руслом реки возникал высокий, залитый ослепительным светом берег. Стены и башни замка, остроконечные кровли домов, громоздившихся друг другу на спины, – все это было белым, светлым, четким, а рядом черным бархатным пологом свисали густые тени, за которыми прятались провалы и углы стен. Франсис перешел мост, спустился на противоположный низкий и неосвещенный берег. Вдоль реки тянулась широкая вековая аллея огромных деревьев… а может быть, они только казались такими во мраке? Неясный шелест, бег теней… От самой виллы полковника он не встретил ни одной живой души.
Присев на низенький каменный парапет, над самой рекой, в темноте, Франсис смотрел на эти пышные декорации безмолвной оперы, на огни, горящие для него одного. Сильный неподвижный свет смущал его, словно он был единственным гостем на банкете, рассчитанном на тысячи приглашенных. Эти озаренные светом здания – не картонная декорация, у них четыре вполне реальные стены, и, может быть, в них сейчас бодрствуют люди… Этой светлой ночью мрак гнездится лишь в их мозгах, отуманенных бессмысленными видениями. А в эффектно освещенной башне укрепленного замка, что возвышалась, сверкая, как лампочка в сто тысяч свечей, сидели заключенные: он знал об этом. Жако подробно рассказывал ему о них. Это огромное зарево, по всей вероятности, освещает все камеры, морщины на лице герра профессора, специалиста по вопросам расизма, и жирную спину мясника из Белграда, и безжизненную руку герра доктора, теолога, и всех тех, кто никогда не слышал о груде трупов, обнаруженной в одном километре от городка. Каждый уголок в камерах, оштукатуренные стены, очень белые, очень чистые, книги, крошки хлеба и алюминиевая кружка, койки и все, что под ними, серые одеяла, мышь на столе, жалобы, стоны, и храп, и бессонница – все безжалостно обнажал сноп света.
– А я все-таки нашла вас, даже в темноте…
Мох под вековыми деревьями заглушил шаги Анны-Марии, а может быть, она подошла, не касаясь земли. В такую ночь что угодно могло показаться правдоподобным. Она была одета во что-то светлое, в туман. Они расцеловались. «Не успели вы отъехать, как я вернулась на виллу… Бежала за вами в темноте… прямо сюда, я была уверена, что свет привлечет вас. Посмотрите, как празднуют нашу встречу…» Франсис еще раз поцеловал ее. Шелестела листва деревьев, словно нашептывая легенды. По другую сторону речного русла, глубокого, черного, сверкали пышные декорации немой оперы. Франсис прижал к себе Анну-Марию. И сам был поражен – что же это он делает! Ведь это же Аммами, милая, славная Аммами. Он почти не различал ее в темноте. Волосы у нее мягкие, словно дождевая вода. Анна-Мария, о которой он никогда не думал… Время шло… «Пойдем, – сказал он, – пойдем ко мне…» Анна-Мария выскользнула из его объятий. «Меня ждет машина…»








