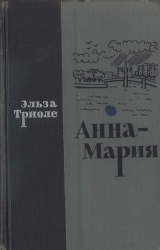
Текст книги "Анна-Мария"
Автор книги: Эльза Триоле
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
– При немцах было, по крайней мере, известно что к чему. С нынешними болванами не поймешь, где белое, где черное… Могло бы вам прийти в голову, что ваш тип, этот «патриот» неожиданно обернется предателем?.. Теперь не знаешь, с кем поддерживать отношения. Так продолжаться не может. Филипп Анрио [49]49
Филипп Анрио – министр Информации при Петене. Был казнен партизанами во время оккупации.
[Закрыть]оказался прав – вот кто был настоящим человеком и истинным французом! Вы увидите, что дело Петена еще пересмотрят…
Нет, этот кошмар ей не приснился: Анна-Мария наяву слышала разговор мужчин, до нее доносился шелест газет. В этом самом поезде, в котором некогда, возвращаясь с опасного задания, она слышала, как люди с восторгом говорили о гитлеровцах, теперь, после победы, ей снова довелось услышать подобный разговор, словно ничего не изменилось. Она сидела как громом пораженная, точно в столбняке; ничто ее так не поражало с самого 1940 года. Удивление, отвращение, боль… 1940 год. И вот все начинается сызнова. Ей когда-то рассказывали о женщине, которой во время железнодорожной катастрофы отрезало обе ноги. Когда несчастную вытащили из-под вагона, она упорно искала свои ноги и выла. Чего еще меня могут лишить, с чем бесконечно трудно было бы расстаться? Анна-Мария начинала свыкаться с захлестывавшими ее волнами отчаяния. В шторм страшнее всего девятый вал: он бывает роковым для корабля. Анна-Мария чувствовала, что на нее надвигается девятый вал, чувствовала – надвигается!
Мужчины сошли на какой-то станции; выходя, они вежливо приподняли шляпы. Оставшись одна в купе, где вскоре зажглась лампочка – никому не нужная: было еще светло, – Анна-Мария прилегла на полке. Ей хотелось есть, она уехала, не позавтракав, а уже прошло и обеденное время. Много ли на свете женщин, похожих на нее? Более или менее похожих на нее… Она думала о письме, которое получила от одной француженки, вернувшейся из концлагеря: в нем было всего несколько строк из поэмы:
А повыше подписи:
«Нет, не надо было возвращаться…»
Лагеря, зарубцевавшиеся раны на ее ноге… сироты… пересмотр дела Петена, нож лейтенанта Лорана – предпочтительно в живот, а не в спину, чтобы не наткнуться на ребра… Она ясно представила себе лейтенанта Лорана, наносящего ей удар ножом в живот. Так она ему и далась! От ярости у нее даже вырвалось что-то похожее на стон. А тут еще Селестен… «Мама умерла…» А что, если ее любовник, прекрасный любовник, которого она завела себе для развлечения, начнет ее преследовать? «А ну их всех! Где мои друзья? Где те, что заменяли мне семью? Господи, да ведь будет война!»
Анна-Мария так сама себя напугала, что даже привстала: война! Что за дикая мысль? Скорее бы доехать, выйти на воздух, поесть.
Анна-Мария ехала в селение, где во время оккупации провела долгие месяцы. Маки, с которым она была связана – командовал им Рауль Леже, – находилось в горах, на расстоянии нескольких километров от этого местечка. Когда Анна-Мария, оправившись от ран, вернулась в селение, там уже побывала карательная экспедиция, и немцам незачем было туда возвращаться – она могла спокойно жить здесь до полного выздоровления. Маки перебросили в другое место. Рауля убили. Самоотверженность, героизм, любовь… Теперь жизнь стала плоской, как неподнявшийся воздушный пирог.
Анна-Мария сошла в П. Отсюда до селения можно было доехать автобусом, прежде он ходил туда ежедневно, рано поутру. Если только автобус этот еще существует, если существует и само селение. Если только оно ей не приснилось.
Город П. Все такой же, как тогда. Сумеречный, призрачный. Широкий, как площадь, бульвар – четыре ряда вековых платанов, серых от мягкой пыли, – бульвар, вдоль которого по одну сторону тянутся старые, не особенно пышные, не особенно красивые особняки, – по другую – поросший травой крутой спуск в низину, где много домиков и огородов. Вокзал находится в самом конце бульвара, за памятником павшим (фигура женщины в развевающейся одежде, и за ней – скрещенные знамена). С другой стороны бульвара – площадь, за которой начинаются улицы, и ни один приезжий, ни один турист, ни один постоялый двор не оживляют этих улиц, тихих, спокойных, как воды канала. Нет здесь ни лошадей, ни машин, не звенят здесь мостовые, не дребезжат стекла, а прохожие словно не идут, а скользят под водой… В городе – две большие и две маленькие гостиницы, одна другой хуже. Анна-Мария хорошо их знала, когда-то она перебывала во всех четырех, хотя они были реквизированы немцами. Она вошла в первую, ту, что выходила на площадь, сразу же за бульваром.
И в конторе, и в большом зале ресторана, расположенном в холле с массивной каменной лестницей, – ни души, и только в кухне с холодной плитой повар в белом колпаке, сидевший на табурете, сказал ей, что в гостинице нет мест. Значит, в этом доме, с виду пустом, «мест нет». Она нашла комнату в другой гостинице, похожей на казенное здание – не то мэрия, не то больница. Никогда еще она не видела таких заплатанных простынь – настоящее лоскутное одеяло! И весьма сомнительной чистоты… Но ей не оставалось выбора, в этом городе с редкими прохожими, оказывается, полным-полно людей. Она спустилась пообедать.
Столовая, огромная, как вокзал, освещенная сильными лампочками без абажуров, была полным-полна, люди сидели и ели под оглушительный шум: звон посуды, грохот передвигаемых стульев, топот снующих взад-вперед официантов, стук поминутно открывающихся и закрывающихся дверей, а возможно, также и лязг зубов. За соседним столом пожилой мужчина угощал обедом молодую пару. Провинциальный дядюшка и новобрачные? Им подали огромного лангуста. За другим столом обедала какая-то очень веселая компания, выпивала, шумела – игриво настроенные супружеские пары… похоже, что коммерсанты. Другие посетители – служащие, чиновники – торопливо доедали дежурные блюда. Человек преклонных лет, в светло-сером костюме – бородка клинышком, монокль на черной ленте – по-видимому, был хорошо известен всему городу – то ли представитель местной аристократии, то ли еврей. Аристократы и евреи похожи друг на друга. Казалось, все эти люди уже давно забыли о немцах, будто их никогда и не было. Но Анна-Мария не могла отвязаться от мысли о них: в прошлый ее приезд сюда зал кишел немцами.
После обеда Анна-Мария решила пройтись по городу, который так много значил в ее жизни. На площади перед гостиницей царила та атмосфера ожидания, какая бывает на улицах, прилегающих к театру, перед концом спектакля: два шофера такси разговаривали, сидя без дела на скамейке; тут же стояла вереница автомобилей; веранда кафе, помещавшегося напротив кино, уже опустела до следующего антракта; звонок кино заливался впустую. Анна-Мария пошла по главной улице, которая вела к собору. Магазины были закрыты, железные шторы опущены, нигде ни души. Вокруг старого собора – плохо освещенные узкие улочки-западни, где за каждым крутым коленом, за каждым старинным порталом с высеченными в камне барельефами, за каждой каменной статуей, поддерживавшей решетчатые балконы из кованого железа, тебя могла ждать засада. Анна-Мария кружила по этим улицам, некогда таким знакомым. То тут, то там внезапно вырастала башня с зубцами и навесными бойницами, словно большой цветок с раскрытым венчиком, семена которого ветер занес сюда из авиньонской дали. «Я одна, – думала Анна-Мария, прислушиваясь к шуму собственных шагов, нарушавшему тишину этого средневековья, – умри я здесь, и не будут знать, кому об этом сообщить. В самом деле: кому? Никому нет дела до моей смерти. Кстати, я и не умру здесь. Когда-то в этом городе я рисковала жизнью, когда-то было кому сообщить о моей гибели, и люди, даже чужие, меня бы оплакивали. Если бы сегодня тем же людям сказали, что я умерла, их бы это нисколько не тронуло: я для них лишь воспоминание, и сами они для меня лишь воспоминание. Но сегодня я могу спокойно гулять хоть ночь напролет, не думая ни о комендантском часе, ни о том, что меня могут пристрелить…» Она шла вдоль внешнего бульварного кольца, пока не очутилась перед большим квадратным зданием, похожим на укрепленный замок. В свете луны ясно вырисовывались высокий вход с решеткой, башни, стены. Здание походило на тюрьму, да оно и было тюрьмой. Только желание взглянуть на нее привело Анну-Марию на самый край города. Еще раз взглянуть на ту тюрьму, откуда она помогла бежать двадцати заключенным смертникам. Анна-Мария смотрела во все глаза… Вспоминала.
Вернулась она поздно. Пришлось звонить, долго ждать у двери, выходящей на площадь, в этот час такую безлюдную, будто в городе, кроме Анны-Марии, не осталось ни одного человека. Поблескивая, чернели неосвещенные окна кафе, умолкло кино, исчезли машины. Она прошла мимо портье, который дремал стоя, поднялась по скрипучей, не устланной дорожками лестнице; вся гостиница была жесткой, как полка в вагоне третьего класса…
Комнату едва освещала лампочка без абажура, тусклая-тусклая… Анна-Мария с опаской взглянула на постель и легла в халате поверх одеяла: от времен оккупации у нее осталась боязнь подхватить чесотку. Товарищи ее то и дело заражались чесоткой, ночуя в гостиницах, где не меняли простынь; эпидемия охватила весь край. Когда в маки заболел Жозеф, Анне-Марии пришлось ухаживать за ним. Но если она по-прежнему боялась, что подхватит чесотку, она больше не боялась, что ее схватят, – значит, все-таки какие-то перемены есть. Не так уж много людей, которые считают Францию времен бошей потерянным раем. И, возможно, в скором времени появится мыло. Она успокоилась и заснула.
Автобус по-прежнему уходил рано утром, в тот же самый час; тот же самый автобус, и вел его тот же самый шофер – его хозяин. Он поздоровался с Анной-Марией, не выразив ни радости, ни удивления.
– Совершаете объезд бывших зимних квартир, мадам? Как вас величать теперь? Все, кто тут у нас проживал, возвращаются к нам под другой фамилией.
Анна-Мария обрадовалась этой встрече, ей хотелось сказать шоферу что-нибудь приятное, узнать у него здешние новости, но он повернулся к ней спиной и занялся погрузкой багажа, предоставив ей самой втискиваться в автобус, который пассажиры брали с бою. Вот кто отмахивается от воспоминаний; ей даже показалось, что он избегает смотреть на нее.
Заглядевшись на пейзаж, Анна-Мария позабыла о водителе: она-то не отмахивалась от воспоминаний. Анне-Марии никогда не случалось ездить в этом автобусе с Раулем, они всегда нарочно отправлялись в П. и обратно порознь, в разное время, и тем не менее для нее все кругом было полно им… Жизнь давно развеяла горечь этого воспоминания. Вот маленький завод над рекой… мост… Анна-Мария волновалась все сильнее и сильнее, по мере того как перед ней возникали места, в которых реальности теперь было не больше, чем в романе, и хотя то был роман ее жизни, он не становился от этого более реальным… Деревушка с церковью в романском стиле… Сразу же за ней – огромный виадук над пропастью… Автобус, задыхаясь, карабкался вверх, коробки скоростей дребезжали. Слева – замок, трава в парке скошена, газон, дорожки подчищены, посыпаны желтым песком. По ступенькам веранды спускалась дама… Странно было видеть этот замок обитаемым. По всей дороге оживленное движение, автомобили, велосипеды; Один раз пронесся небольшой грузовик с пленными, в форме теперь действительно feldgrau от износа. «Если мне нельзя будет остановиться у старушки Розы, – думала Анна-Мария, – придется переночевать на постоялом дворе…» Она вдруг испугалась: а что, если те, к кому она ехала, забыли ее?.. Она так верила в их дружбу, что неосмотрительно решила заехать в это селение, которое даже не было ее постоянным убежищем. Ну вот, к примеру, хозяин автобуса… Правда, она никогда не причисляла его к своим друзьям и никто даже точно не знал, что у него на уме, но все-таки прошлое нужно чтить, как чтят память предков. Анна-Мария уже готова была сойти с автобуса, не добравшись до места. Зачем она отправилась сюда, а вдруг все ее воспоминания разлетятся в прах? С иллюзиями следует обращаться бережно… Собственно, она затем сюда и приехала, что ей хотелось после Селестена увидеть людей ясных, без задних мыслей и с которыми можно договориться о чем-то главном. Все было довольно туманно, но «дух Сопротивления» еще жив, что бы там ни говорили ее попутчики, те, в поезде.
Автобус свернул с магистрали, он по-прежнему шел на подъем. Уже виднелась колокольня… Вот и кладбище… Автобус катил по единственной узкой улице селения. Он остановился напротив постоялого двора. Анна-Мария вышла. Шофер подал ей чемодан, кроме нее, никто здесь не сошел, и автобус тронулся дальше. О ее приезде еще не знали, в машине она не встретила никого из местных жителей – все ехали дальше. Ей стало страшно – а вдруг она здесь никому не нужна.
Первым делом она пошла в парикмахерскую. Жалобно звякнул дверной колокольчик, звук этот словно донесся из прошлого.
– Мадемуазель Луизетту, пожалуйста, – обратилась она к незнакомому ей парикмахеру.
Он стриг какого-то мужчину. Клиент, завернутый в широкий белый халат, с любопытством посмотрел на отражение Анны-Марии в тусклом зеркале и вдруг вскочил в своем нелепом облачении, да так стремительно, что парикмахер замер с раскрытыми ножницами в руках.
– Барышня!.. – закричал клиент.
Из-за застекленной перегородки, отделявшей женский зал от мужского, вышла Луизетта.
– Барышня! – воскликнула она, уронив гребень и мохнатое полотенце. Повиснув на шее Анны-Марии, она расплакалась.
Анна-Мария сидела в столовой, за парикмахерской, где никого не было, кроме Луизетты, ее родителей и молодого клиента, бывшего бойца из маки Рауля… В этот час селение будто вымерло, все работали – кто в поле, кто на небольшом заводе в двух километрах отсюда. Слышно было, как в коридорчике между парикмахерской и кухней кипела на маленькой плитке вода для шампуня. Мать Луизетты, ради экономии дров, по-прежнему ставила кастрюлю, в которой варился суп, рядом с тазом, где кипятились полотенца. Казалось, кипяток так и простоял на плите все эти годы… Старая тетушка Роза, у которой жила Анна-Мария до и после ее ранения, умерла. Жозеф женился на девушке из далекой деревни. Он нашел ее где-то на самой вершине горы, у пастухов. Муж и сын хозяйки постоялого двора, которых угнали боши, приезжавшие с карательной экспедицией, так и не вернулись. Какое несчастье!.. «Никогда не забуду, – говорила Анна-Мария, – как однажды вечером, вскоре после высадки союзников на Юге, я была на постоялом дворе; народу – полным-полно… Ребята, чтобы запутать бошей, переносили с места на место дорожные знаки с указаниями направления… Толчея, повсюду навален багаж, люди не то приезжают, не то уезжают, полная неразбериха… Со стороны магистрали, по которой шли американские грузовики, доносился непрерывный гул. Хозяйка постоялого двора сидела у приемника в комнате за кухней и слушала. Я присела рядом с ней – в то время мы не пропускали ни одной передачи, все ждали новостей, помните? – передавали репортаж о лагерях: „Горы трупов, даже не трупов, скелетов… газовые камеры…“ Теперь все это хорошо известно и уже не так потрясает… Хозяйка слушала, и по щекам ее катились слезы! Словно ей рассказывали о муже, о сыне… И она не ошиблась, бедняжка…» Анна-Мария говорила много, остальные тоже. Воспоминания, воспоминания… А как Полина, она ведь утверждала, будто беременна от Рауля? Муж ее вернулся из плена, он не в обиде, мальчику идет уже третий год… Нет, он нисколько не похож на Рауля. Полине не особенно-то можно верить… Даже Луизетта, первая красавица селения, которая поклялась остаться верной памяти Рауля, и та обручилась с сыном Майяров из Лирвена, соседней деревни. Луизетта еще больше похорошела, через месяц свадьба. Но уже скоро одиннадцать, а Анна-Мария хотела навестить еще кое-кого; все, должно быть, уже вернулись домой.
Узкая, в рытвинах улица, темные, сбившиеся в кучу дома, комнаты, заставленные громоздкими кроватями и шкафами, задние комнатушки, выходящие на узкий, точно колодец, двор… А вокруг – поля, раздолье, воздух, лысая гора с пятнами зелени – так изображают леса на карте… Магистраль проходит ниже, совсем рядом. Анна-Мария успела побывать во многих домах, расцеловаться с мужчинами, с женщинами, осушить бесчисленное количество стаканчиков аперитива. Она собиралась зайти еще к Жозефу, а потом к обеду вернуться к Луизетте. Луизетта отпустила ее одну в этот обход, потому что ей надо помочь матери, ведь та сама не управится с обедом; ну что стоило Анне-Марии предупредить о своем приезде! К обеду, конечно, подадут не меньше десятка блюд, и еще будут извиняться, что так плохо ее принимают.
Жозеф жил на окраине в доме с желтой дверью, рядом с сапожником. Анна-Мария шла по улице, где ей был знаком каждый камень под ногами, каждая занавеска на слепых оконцах, и бакалейная лавка коллаборациониста, и мясная, в заднем помещении которой она встречалась со связными от Жако. Справа возвышалась церковь. Анна-Мария вспомнила о тропинках за церковью, где они гуляли с Раулем… Надо было хорошо знать эти тропинки, чтобы не заблудиться.
Дверь, с занавеской от мух из бумажной ткани, была открыта. Просунув руку за занавеску, Анна-Мария постучала в открытую створку и вошла. Жозеф с женой и мальчиком сидели за столом.
– Вот те раз! – все твердил Жозеф. – Вот те раз!
Он не знал, куда ее посадить, неужели она не пообедает с ними? Как обидно! Ну тогда – ломтик колбасы и глоток аперитива. Жозеф, небольшого роста, коренастый, ладно скроенный парень с правильными чертами лица, большими красивыми глазами, прямым носом и гривой черных вьющихся волос, буквально не помнил себя от радости.
– Видишь, – говорил он жене, – видишь – это Барышня… Теперь ты ее знаешь – живую. По рассказам даже малыш и тот тебя знает!
Явное преувеличение; мальчуган сидел на своем высоком стуле, шлепал ложкой по супу так, что брызги летели во все стороны, и заливался громким смехом: волнение взрослых передалось и ему. Жена у Жозефа маленькая-премаленькая, ну просто девочка, сходство у нее с мужем было разительное – как брат и сестра.
Всех настолько переполняли чувства и воспоминания, что они никак не могли разговориться и только улыбались и спрашивали друг друга: «Значит, у тебя все в порядке? Значит, все хорошо?» Раз Анна-Мария не останется обедать, то они увидятся вечером, надо спокойно посидеть и потолковать. Здесь не так уж благополучно – впрочем, как и всюду, всё идет из рук вон плохо… На Жозефе была старая заштопанная рубаха, брюки в заплатах. В доме стояли колченогие стулья, продавленный диван. Жена ходила босиком. Жозеф работал на заводе, но только полдня: заводу не хватало сырья. Жозеф предпочел бы крестьянствовать, как раньше, он больше всего любил копаться в земле, да и жилось бы легче, но ферма его, сожженная немцами, еще не восстановлена, и он ни черта за нее не получил. «Не знаю, что ты думаешь о политике, Барышня, – сказал Жозеф, – а я вступил в компартию, меня это вполне устраивает… Еще стаканчик, только не вздумай отказываться…»
В эту минуту у двери послышался шум; довольно смешное зрелище, когда два жандарма пытаются одновременно протиснуться в узкую дверь. Рослые, жирные, в форме защитного цвета, в крагах, при револьверах, кожаных ремнях, в фуражках, они гремели каблуками, как подковами, точно в дом ломилась лошадь… Жозеф встал… А потом произошло что-то совершенно неожиданное: все вдруг смешалось, шум, свалка, содом; так бывает, когда сцепятся два пса, за секунду до того выжидательно и неподвижно смотревшие друг на друга: один из жандармов набросился на Жозефа! И вот уже жандарм отлетел в другой конец комнаты, а Жозеф, сверкая глазами, стал спиной к стене, готовясь к прыжку. Жена Жозефа кричит, мальчик кричит, второй жандарм выхватывает револьвер! Анна-Мария бьет его по руке, и он от неожиданности выпускает револьвер.
– Не валяй дурака, – сказал, поднимаясь, первый жандарм, – все равно тебя возьмут.
– А за что, собственно? – Жозеф переводил взгляд с одного жандарма на другого, еле сдерживаясь, чтобы не броситься на них.
– Нам приказано арестовать тебя, давай, давай без скандала!
– Арестовать, за что? Что я сделал?
– Это тебе скажут в П.
– Мне не известна причина ареста. Я вас не знаю. Где ордер? – Жозеф весь побелел, брови на мертвенно бледном лбу сошлись в одну черную линию, будто проведенную углем. У жены его зуб на зуб не попадал.
– Послушай, – сказал жандарм, тот, которого он сбил с ног, – ордера у меня нет, но он будет, что пользы откладывать? Разве только если ты собираешься бежать… Коли за тобой нет никакой вины, лучше явись и дай объяснения…
– Какие еще к черту объяснения? – сказал Жозеф.
– Не кипятись, я ничего не знаю… – Жандарм был само благоразумие и доброта. – Какая-то кража одеял, пустяки, объяснишь…
– Я не вор, скотина ты этакая! Принеси ордер, а пока убирайся ко всем чертям…
– Послушай, – сладко увещевал жандарм, – я бросился на тебя только потому, что меня предупредили – парень горячий и никогда с оружием не расстается… Говорю тебе, если ты пойдешь с нами сейчас, скорее отделаешься…

Жозеф кинул на Анну-Марию отчаянный взгляд. Вот и опять драка, и опять они вместе.
– Я не знаю законов, – сказала Анна-Мария, – но думаю, что никакой ордер не может узаконить вооруженного нападения, которому я, кстати говоря, была свидетельницей. Потребуй-ка у этих господ удостоверения личности, чтобы убедиться, действительно ли они жандармы; после чего, полагаю, ты можешь пойти с ними. А я тем временем предупрежу рабочих завода, свяжусь с адвокатом, с прессой.
Жена Жозефа горько плакала. Жандармы пялили глаза на Анну-Марию.
– Это еще что, – начал тот, который вынимал револьвер, – вы-то чего вмешиваетесь?
– Не забывайте, что я видела все, – заметила Анна-Мария.
Жозеф натянул на себя измазанную куртку с обтрепанными рукавами.
– Пошли, – сказал он. – Барышня права. Лучше сразу выяснить, в чем дело.
– Значит, можно подойти? Не станешь опять на меня кидаться? Ну и силища у тебя! Никогда б не подумал!
– Ха-ха-ха! – рассмеялся Жозеф. – Ничего, не бойся.
Жандарм подошел и с проворством обезьяны надел на него наручники.
– А ты и впрямь гад, – очень спокойно произнес Жозеф.
– Не выражаться…
Жандарм потянул за цепочку. Они вышли.
Анна-Мария и жена Жозефа, стоя на пороге, смотрели, как он удаляется между двумя жандармами. Был обеденный час, на дороге – ни души, ни тени. Солнце пекло… Жена Жозефа заливалась слезами. Анна-Мария, легонько подталкивая ее, вернулась с ней в дом, откуда доносился истошный крик ребенка.
– Как тебя зовут? – спросила она.
– Мирейль…
Голоса ее почти не было слышно.
– Если ты будешь плакать, Мирейль, я тоже разревусь и ничего не сумею сделать для Жозефа. Не плачь, умоляю тебя! – Она обняла Мирейль. – Не плачь… – Из глаз Анны-Марии брызнули крупные слезы. – Сейчас же еду, постараюсь узнать, в чем дело…
Праздничный обед у Луизетты был испорчен. Анна-Мария с тем же автобусом уезжала обратно в П., она хотела на месте выяснить, что можно и должно предпринять. Красиво накрытый стол, вышитые салфетки, цветы, жареная баранина, сладкий пирог, гости в полном сборе… По расписанию автобус отходил в три, но мог с таким же успехом уйти на полчаса раньше и на четверть часа позже. Чтобы не пропустить его, надо было прийти на постоялый двор заблаговременно, рискуя потерять целый час. Ели впопыхах и без толку. Отец Луизетты и его подручный – две белые неподвижные фигуры – уже снова стояли на своих местах, когда Анна-Мария торопливо прошла за их спинами. Сколько раз, бывало, она пробегала через парикмахерскую, оставив Рауля и Луизетту в заднем помещении, возле плиты, на которой грелась вода для шампуня и кипятились в тазу полотенца. Когда словно из прошлого донеслась жалоба колокольчика, Анна-Мария почувствовала, что вот-вот расплачется. Она шла по улице, и воспоминания следовали за ней по пятам. Даже не понять, где – «тогда», где «теперь». Одни воспоминания приходится воскрешать, другие сами собой приходят на смену «теперь». Ее воспоминания – это скорее какое-то общее состояние души. Там, где были холмы, теперь зияет провал, там, где ступала нога, теперь нет и следа от нее, там, где был человек, теперь – могила.
Хозяйка постоялого двора поклонилась Анне-Марии без улыбки, будто не узнала ее. Автобус еще не пришел. Хозяйка вытирала клеенки на столах в свежепобеленном зале, где в этот час было пусто. Анна-Мария попросила стакан виши и стала ждать. Жозеф в тюрьме за кражу! Она не собиралась выяснять подробности, он ничего не крал, смешно даже думать! Жозеф в тюрьме! В той самой тюрьме, откуда они вместе устраивали побег смертникам, в той самой тюрьме… Чудовищно, парадоксально… Не обобщая, не делая выводов, надо признать, что здесь «не так уж благополучно», как говорил Жозеф. Надо признать, что если война была тотальной, то победа не стала таковой. Это всего лишь одна из тех удачных, блестяще проведенных операций, после которой больной умирает; но сейчас задача не в том, чтобы обобщать или делать выводы, а в том, чтобы вытащить Жозефа из этой грязной истории. Его вытащат, конечно, и без нее, найдутся люди, которые займутся его судьбой; в местечке, где каждый знает человеку цену, никто не поверит, что Жозеф мог украсть.
– Жозефа арестовали, – вдруг сказала Анна-Мария, обращаясь к хозяйке, подметавшей пол.
Хозяйка перестала мести.
– Жозефа арестовали? – переспросила она.
– Да, пришли жандармы и увели его в наручниках.
– Что он сделал?
– Его обвиняют в краже одеял.
– В краже одеял? Чьих?
– Не знаю.
– Жозеф ни у кого ничего не крал.
Хозяйка снова принялась подметать; ее серое, как пепел, лицо не дрогнуло. Надоедливые мухи летали вокруг стола, назойливо садились на винные пятна, на крошки. Хозяйка подмела зал и вышла. Анна-Мария осталась наедине с мухами. Здесь, в горах, жарко, но все же прохладнее, чем в гарриге, у Селестена. Анна-Мария закрыла глаза: сквозь опущенные веки ломаными лучиками проникало солнце. Бедняга Жозеф, если все здесь таковы, как эта хозяйка, то ему, пожалуй, повезло, что Анна-Мария оказалась тут…
– Я принесла вам кофе, Барышня…
Анна-Мария открыла глаза, хозяйка поставила перед ней кофейник.
– Спасибо, я задремала, жарко…
– Ох, эти мухи! Будет гроза, оттого их столько и налетело. Вы займетесь Жозефом?
– Для этого я и еду в П.
– Выпейте кофе, он уже отстоялся. Кофе настоящий. В П. вам надо повидать мосье Клавеля из «Народной помощи»… [51]51
«Народная помощь» – прогрессивная организация, помогающая, в частности, политическим заключенным.
[Закрыть]Это вы устроили побег патриотов в П.? Я слышала об этом по радио.
– Да, в П. Жозеф помогал нам, нас было трое – Рауль, Жозеф и я. Жозеф-то и отобрал ключи у сторожа, как раз у того, который не спал! Жозефу эти места знакомы.
– Бедный мосье Рауль!
– Да… тогда, в тюрьме, он рисковал головой, а вышел без единой царапины…
– Значит, не судьба ему была в тот раз… Автобус пришел. Мой покойный муж всегда говорил: «Барышня – вот это человек…»
Анна-Мария покраснела, так ее тронула похвала.
– Значит, опять в обратный путь, – сказал водитель автобуса.
XXV
Тюрьма города П. помещается в укрепленном замке XV века; с тех пор он, вероятно, не раз перестраивался, переделывался. Решетка, перед которой стояла небольшая группа людей, была недавней постройки, а стены растеряли все свои зубцы. Анна-Мария подошла, к двери и позвонила. Звонок был такой же, как в любом доме, куда можно войти и откуда можно выйти. На другой стороне мощеного двора, серого и голого, под стать стенам, показался сторож. Он был в форме защитного цвета, со связкой ключей в руках; настоящий тюремный надзиратель.
– Что там еще стряслось? – сердито крикнул он. – Затем, разглядев Анну-Марию, воскликнул: – Мадам! Это вы! Пришли нас проведать?
Сколько свет стоит, никто еще не видывал более гостеприимного тюремщика. Воспоминания… этот же надзиратель был здесь и в 1943 году. Анна-Мария хорошо его знала, так как бывала у него дома под видом инспектора социального обеспечения; впрочем, положение инспектора не давало ей право ни посещать надзирателя, ни передавать через него – за определенную мзду, конечно, – письма и посылки заключенным. Знал он или не знал, что именно она подсыпала снотворное остальным сторожам – он в тот день не дежурил – и что именно Жозеф стукнул по голове того из них, который никак не хотел засыпать? Надзирателя очень растрогала встреча с «дамочкой», он обрадовался ей, как живому Свидетелю своего потворства заключенным – участникам Сопротивления. Не то чтобы это было ему особенно необходимо сейчас, дело его давным-давно улажено: его ведь оставили на том же месте… Анна-Мария опять прошла за эту решетку… Она была сильно взволнована. Женщины, ожидавшие, когда их впустят – был день свидания, – недружелюбно смотрели на нее. У них там сидели мужья, а она, видно, находится по другую сторону баррикады…
– Ну как, мосье Камилл, – спросила Анна-Мария, проходя за решетку, – какие перемены в доме? Как вам нравятся ваши новые клиенты?
Несмотря на форму и связку ключей, мосье Камилл улыбался, как самый обыкновенный человек, и это казалось не менее странным, чем звонок у решетки. Анна-Мария никак не могла привыкнуть к мысли, что тюремщик – такой же человек, как все, хотя видела его жену, его буфет, его сад. Все-таки он оставался для нее лишь цепным псом, выдрессированным для того, чтобы в случае надобности бросаться на тех, кого он сторожит. Тем не менее она пожала руку надзирателю, как делала это и прежде: теперь, так же как тогда, он мог ей пригодиться.
– Я заехала к вам по дороге, – сказала Анна-Мария. – Воспоминания, сами понимаете…
– Пожалуйста, мадам, сколько угодно! Это против правил, но для вас закон никогда не был писан, а? Входите, будьте так любезны…
Сводчатый широкий коридор, по которому вел ее мосье Камилл, был выложен каменными плитками, но в помещении, куда они вошли, почти ничего не осталось от феодального замка; оно смахивало, особенно своим пыльным архивом, не то на полицейское управление, не то на нотариальную контору. Посреди комнаты, в синей блузе, стоял с узлом под мышкой рабочий; рядом с ним – жандарм. Рабочему было жарко, светлые волосы его слиплись от пота, глаза влажно блестели от волнения. Надзиратель попросил Анну-Марию подождать немножко, он сейчас вернется. Анна-Мария присела на единственный стул.
– Мадам, – внезапно обратился к ней рабочий, и жандарм немедленно шагнул к нему, – скажите, слыханное ли дело – сажать человека за кражу велосипеда, совершенную в тысяча девятьсот сорок третьем году.
– Молчать! – рявкнул жандарм.
– Пусть говорит, – сухо приказала Анна-Мария, и жандарм, насупившись, замолчал, видимо не зная, как быть: кто она такая? Имеет она право приказывать ему или нет?








