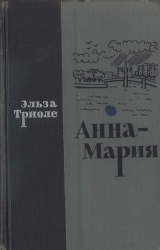
Текст книги "Анна-Мария"
Автор книги: Эльза Триоле
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Хотя газ все еще посвистывал, Анна-Мария стала зябнуть. Ну что ж, пора вставать, вероятно, скоро полдень. Ничего не поделаешь, ночи любви ей не впрок!
XVI
Жако сдержал обещание, он всегда сдерживал свои обещания. Не прошло и недели с того дня, как Анна-Мария получила письмо, в котором ей отказывали от квартиры, а Жако уже явился и предложил ей пойти осмотреть новую квартиру; рекордный срок, если учесть, что в Париже совсем нет свободных квартир. Чтобы произвести впечатление на консьержку, Жако надел военную форму. Хозяин квартиры был ярым коллаборационистом, да и консьержка – ему под стать. В общем, он не решился вернуться в квартал, где его слишком хорошо знали. Квартира пустовала. Находилась она в старом доме на одной из улочек неподалеку от Комеди Франсез, в некогда аристократическом квартале Парижа. Особняки теперь заняты под магазины, конторы и склады товаров. Высокие окна, монументальные подъезды, а фасады явно нуждаются в штукатурке, и, глядя на них, невольно думаешь, какое тут раздолье клопам. Если же среди облезлых фасадов попадаются отремонтированные, то за их вечно закрытыми ставнями таится что-то подозрительное – это публичные дома. А соседние здания гостеприимно распахивают двери, их нижние этажи одеты в мрамор и алюминий, освещены неоновыми трубками: здесь помещаются «открытые всю ночь» кабаре и кабачки, они сияют в этом старом квартале, словно оброненная на тротуар пачка американских сигарет в блестящей целлофановой упаковке. Странно видеть здесь бакалейный магазинчик, ателье химической чистки, лавку угольщика, как в обычном буржуазном квартале… Эти улицы, выходящие на проспект Оперы, спрятаны здесь, как «Украденное письмо» [37]37
«Украденное письмо» – рассказ Эдгара По.
[Закрыть], которое никто не мог найти оттого, что оно лежало на самом видном месте.
Толстая, краснощекая консьержка с застывшей на лице тупой улыбкой и не подумала дать им ключ. Храня гробовое молчание, она поднялась вслед за ними по лестнице. Широкая каменная лестница с массивными перилами, но грязи, грязи!.. На стенах нацарапанные мелом и углем свастики и похабные рисунки с соответствующими надписями.
– Вы никогда не моете лестницу, мадам? – спросил полковник Вуарон.
– Конечно нет, мосье! Подумайте сами, я одна, а народу шатается столько!..
Квартира находилась в бельэтаже – четыре просторные, великолепные комнаты с высокими потолками, совсем пустые, если не считать бобриковых ковров на полу, полок по стенам, несгораемого шкафа, огромного буфета и рояля…
– Слишком тяжелые вещи, а? – спросил полковник Вуарон у консьержки. – Не удалось вывезти?
Консьержка тупо улыбалась. Окна были грязные, серые, как этот хмурый день.
– Прекрасная квартира, – сказал Жако. – Надо, конечно, сделать ремонт, покрасить… Эти свиньи и жили по-свински…
Анна-Мария удрученно спросила:
– А мебель? Где я возьму мебель?
– Продадите что-нибудь из драгоценностей и купите мебель. Придется похлопотать в «Государственном управлении домашним имуществом» [38]38
Награбленное немцами имущество и реквизированное после войны имущество коллаборационистов было свезено на склады и возвращалось владельцам или продавалось по низкой цене пострадавшим от войны участникам Сопротивления, различным организациям и т. д. (Прим. автора.).
[Закрыть], надеюсь, что тут я смогу вам помочь.
С тяжелым сердцем спускалась Анна-Мария по монументальной грязной лестнице с опоганенными стенами. Сколько нужно сил, чтобы решиться сюда переехать. От одной этой мысли она чувствовала головокружение, и хотелось немедленно все бросить; но она молчала, чтобы не огорчить Жако, ведь он столько хлопотал, так старался.
– Ну как, мадам, – спросил он у консьержки, стоя возле двери привратницкой, откуда валил теплый пар стирки. – Ну как? Арестован наконец жилец этой квартиры? Вас вызывали в комиссариат, не так ли?
– Да, господин полковник, – оказывается, она отлично разбирается в нашивках, несмотря на свой глупый вид! – Господин комиссар сказали мне, что «нет письменных доказательств…».
Жако промолчал… Консьержка проводила их до дверей и, выпустив на улицу, долго смотрела им вслед.
– Вот дрянь! – сказал Жако мрачно. – «Нет письменных доказательств!» Будь он литератором, я бы еще понял, что требуются письменные доказательства, но для промышленника!.. Десять свидетелей как один подтверждают, что он был кагуляром. Впрочем, говорят, кагуляры нынче в почете и существуют даже кагуляры – участники Сопротивления… Негодяй этот не за страх, а за совесть сотрудничал с бошами! Нет, видите ли, письменных доказательств!
– А что такое кагуляры?
– Вот видите, какая вы, Аммами! Не лучше той дамы, которая спросила у вас, что такое ФТП… В годы войны вы как будто прозрели, но, видимо, ненадолго, а все, что относится к довоенному или послевоенному периоду, для вас – китайская грамота! Кагуляры, мадам, – существовавшая до войны террористическая организация, которую, как утверждают, субсидировали немцы. Их цель – свержение Республики. Кагуляры по большей части, крупные промышленники, инженеры, окончившие Политехнический институт. Они создавали склады оружия, устраивали покушения, провокации… Помните, перед самой войной, возле площади Этуаль они взорвали дом?
– Учтите, – перебила его Анна-Мария, – что перед войной меня не было во Франции…
– Да, правда, это – смягчающее вину обстоятельство. Во время войны и после нее кагуляры укрылись в БСРА.
– Называйте меня как угодно, но я хочу знать, что такое БСРА.
– «Служба контрразведки, разведки и военных действий»… Во время войны находилась в Лондоне, к ней принадлежали тайные агенты де Голля… И вы о ней еще услышите! Но я покидаю вас, Аммами… Увидите, все будет хорошо, вы устроитесь, и я буду приходить надоедать вам как можно чаще. По правде говоря, я из чисто эгоистических соображений хочу, чтобы вы устроились.
Жако спустился в метро Пале-Ройяль, Анна-Мария пошла пешком, через двор Лувра. Она торопилась домой, ей хотелось согреться, забыть большие пустые комнаты. Жако хорошо говорить, а она при такой температуре ни о чем, кроме холода, не может думать.
Она испытывала какую-то нежность к этой пустынной лестнице, по которой ей уже недолго подниматься. Не придется ей больше поворачивать ключ в упрямом замке. Все это уже прошлое. Ну что ж, погреемся напоследок. Она сняла мокрый плащ, резиновые боты и не успела еще выйти из маленькой прихожей, как зазвонил колокольчик… Что, если не открывать? Ей надо работать, она устала. Но она не решилась не открыть, чтобы не открыть на звонок, требуется мужество… Анна-Мария покорно отперла дверь: вошла мадам Дуайен, у нее была опасная для ее друзей привычка являться без предупреждения.
– Я сама только что вернулась, – сказала Анна-Мария, встречая гостью приветливой улыбкой, – сейчас согреемся чашечкой чая. Пока вода закипит, устраивайтесь, как дома…
Анна-Мария отправилась на кухню, поставила воду, приготовила поднос. Ей так хотелось лечь, уснуть, забыть… Но что, собственно, она хотела забыть?
– Мадам Белланже, – крикнула из гостиной мадам Дуайен, – не помочь ли вам? Я ведь на минутку, я прекрасно обойдусь без чая…
Анна-Мария знала, что все это пустые слова: мадам Дуайен любила вкусно поесть, а дома ее не особенно баловали. К сожалению, она могла предложить гостье только хлеб с медом, ничего другого у нее самой не было. Белошвейка заламывала непомерные цены, а Анна-Мария вынуждена была тратить деньги с оглядкой.
– Какая роскошь! – воскликнула мадам Дуайен. – Видите ли, я зашла к вам, чтобы отвести душу. Я прямо от Эдмонды, вы ее знаете – графиня Эдмонда Мастр… Не следует мне ходить к ней, каждый раз у меня после этого начинается приступ печени, – впрочем, я сама виновата, зачем хожу к людям без предупреждения… Словно хочу застать их врасплох. И в самом деле, у этой мерзавки Эдмонды – надо вам сказать, что я знаю ее еще с тех пор, когда она под стол пешком ходила, – я застала мосье X. из «Жерб» [39]39
«Жерб» – прогитлеровская газета, выходившая во Франции в период оккупации.
[Закрыть]какого-то хирурга – он только что вышел из тюрьмы, – и еще одного типа, его имя мне не сказали, а может быть, я не расслышала; он явился в гостиную Эдмонды прямехонько из лагеря… Но не из лагеря для порядочных людей, а из лагеря для коллаборационистов! Попал туда якобы по недоразумению… Теперь он оттуда вышел и рассказывал, без конца рассказывал такие вещи, что волосы дыбом становятся! Девушек из приличных семей укладывают рядом с проститутками на один соломенный тюфяк… мужчин подвергают пыткам: добиваясь признаний, их заставляют часами стоять голыми коленями на гравии. Да еще по лагерю пронесся слух, что стража, состоящая из ФТП, собирается расстрелять всех здоровых мужчин! И что они якобы уже стреляли в окна бараков. К счастью, нашлись порядочные люди – сторожа, те, что служили в лагерях и раньше, при бошах – вы слышите, мадам, те, что служили при бошах!.. Каждый раз, когда ФТП подготовляли расстрел, эти честные надзиратели предупреждали заключенных! Как и следовало ожидать, ужасы эти в лагере организовывали коммунисты, всем в лагере это было известно… «Каждый раз, когда те подготавливали расстрел, надзиратели предупреждали нас, они нас предупреждали…» – рассказывал тип, попавший туда «по ошибке». Я спросила: «Кого это нас,мосье? Если вы попали туда по ошибке, то другие-то очутились там потому, что сотрудничали с немцами, предавали и мучили патриотов, истинных французов? А вы говорите нас».Он смутился и ответил: «Когда вместе страдаешь, перестаешь разбираться, кто рядом с тобой – коллаборационист или нет». Тогда я поинтересовалась, сказал бы он нас,если бы сидел с уголовниками. Знаете, что он мне ответил? «Нет, мадам, уголовники – люди не моего круга, они и страдают иначе, чем я…» Чудовищно, не правда ли? – Мадам Дуайен была вне себя от гнева. – Тут я ему прямо заявила: «ФТП тоже люди не вашего и не моего круга, но тем не менее говоря о них и о себе, я говорю мы,но я не скажу мыо себе и о вас, о вас я говорю они.Возможно, в вашем лагере действительно не сладко, и очень жаль, что нацистов охраняют нацисты. Не знаю, правильно ли я вас поняла, но оставьте, пожалуйста, ваши выдумки о коммунистах, которые будто бы собираются расстреливать каких-то несчастных; перед коммунистами я снимаю шляпу, – шляпа мадам Дуайен подпрыгивала у неё на макушке, – а то, что происходит в вашем лагере, это детские забавы, светская игра по сравнению с Бухенвальдом и Освенцимом!..» Он и пикнуть не посмел, поверьте мне. Но господин из «Жерб» разъярился и стал рычать, что во всем, во всем виноваты коммунисты. До того распоясался, что чуть было не сказал: «Мы проиграли войну из-за коммунистов», и опять это мыобозначало его самого, жербиста, и бошей! «Ну, ну, говорите, мосье, не стесняйтесь!» Я орала громче его. Эдмонда, конечно, пыталась вмешаться, но ее жербист совершенно озверел и начал меня поносить: вот будет во Франции коммунизм, и так, мол, мне и надо, безответственных людей, вроде меня, необходимо изолировать, мы, мол, играем на руку коммунистам… Короче, именно на безответственных и возлагалась ответственность за все! Идиот!.. Я ему прямо так и сказала, что боши сожгли мой замок, чудо шестнадцатого века, отняли хлеб у моих детей, а ФТП сражались, как львы, пока он где-то отсиживался. «А вы-то где были, мосье, когда шли бои? Ну, скажите, где?» Он с достоинством ответил мне, что выполнял свой долг француза. Но я уже не помнила себя: «Предателя, мосье, предателя! И если бы в правительстве не сидели рохли, вы были бы в тюрьме, и не по ошибке, смею вас уверить, нет, не по ошибке!» Тот, другой, из лагеря, даже позеленел, но не от бешенства, а от страха. Убеждена, что теперь он каждую минуту ждет ареста. Если бы я могла, если бы я только могла посадить их всех, без исключения!.. Вы не встречаетесь с этими людьми и не представляете себе, что творится… Петеновцы – что! Тут чистой воды нацисты! А процессы! Сплошное издевательство!.. Что с нами будет? Бедная Франция!
Не замок сожгли у мадам Дуайен, сожгли ее сердце… Младший брат – летчик – сгорел в самолете в 1943 году, другой был угнан в Германию, его схватили, когда он спускался с парашютом; он не вернулся… Но ведь дело не только в близких. Разве можно забыть лагеря, тюрьмы, битвы. Кто бы узнал прежнюю даму-патронессу в этой небрежно одетой женщине… Неистовый темперамент! Попробуйте справиться с вдруг забившим нефтяным фонтаном. С окончанием войны пыл ее ничуть не утих, напротив, он еще возрос. Кто-кто, а мадам Дуайен знала, что война не кончена, и она не собиралась отходить в сторонку, она готова была драться, пустить в ход зубы, ногти; от всего своего благородного, своего чистого сердца она говорила: не приемлю…
Анна-Мария слушала ее и изо всех сил пыталась обмануть самое себя. Она знала, видела, что бремя разочарования придавило людей, только это она и видела, но старалась не вникать в связь вещей, не хотела узнавать врага, хотя узнать его было совсем не трудно. Нет, не хотела она отчаиваться, видеть повсюду призрак нацизма, делать выводы, умозаключения… Не хочет она захлебнуться в море безнадежности.
– На днях я встретилась у мадам де Фонтероль с графиней Мастр, – сказала Анна-Мария. – Она на все лады твердила, что ей ужасно хочется видеть меня у себя, поговорить со мной! Не понимаю, откуда такая любезность, ведь она меня совсем не знает!
– Право, Анна-Мария, вы настоящий ребенок! Причина самая простая: у вас крест Освобождения, и вы, хотите вы того или нет, – героиня Сопротивления! Она решила затащить вас к себе с одной-единственной целью – обелить себя!
Анна-Мария подумала: «Как я глупа».
– Она пригласила меня к себе на обед. Сказала, что он состоится через неделю: будут Филипп де Шамфор и Ив де Фонтероль. Я решила, раз у нее бывает генерал…
– А генералу она, вероятно, сказала, что будете вы… Я-то ее знаю и запрещаю вам бывать у нее, мадам Белланже! Позволить такой женщине снова всплыть на поверхность – это же преступление. Она честолюбива и аморальна. Не смейте ходить к ней… Какой чудесный мед! И вообще как у вас хорошо… Вы счастливица, живете одна, без забот… Собираетесь вы в следующий четверг к Жермене? Если вы будете, и я прибегу, хотя бы увижусь с вами, в конце концов какое мне дело до гостей Жермены… Когда коллаборационисты служили ей ширмой, за которой она прятала парашютистов – это одно дело, но сейчас я просто отказываюсь понимать Жермену! Как ей не противно!.. Она, очевидно, не может обойтись без людей своего круга, без людей вообще…
– Или чересчур терпима к людям, – сдержанно заметила Анна-Мария…
– Не доведет нас до добра наша терпимость! Она уже сейчас завела нас бог знает куда. Давайте лучше об этом не говорить…
Она обняла Анну-Марию, крепко прижав ее к своей пышной груди, тщетно попыталась поправить шляпку на теперь уже почти совсем седой голове и ушла. Анна-Мария унесла поднос с посудой. Конечно, мадам Дуайен утомительна, но Анна-Мария была признательна ей уже за одно то, что она существует. Еще только шесть часов… Анна-Мария прилегла было на кровать, но тут же встала и пошла рыться в книжном шкафу американки; хорошо бы найти детективный роман. Она обнаружила целую коллекцию детективов позади сочинений сюрреалистов, которых ей читать не хотелось. Сюрреалисты не разгоняют тоску. Они только мечтали стать магами, но не обладали магической силой, а ей хотелось чего-нибудь, что притупило бы ясность мысли, чего-нибудь крепкого, как поэзия, которая действует на нервы непосредственно, словно кофе или алкоголь… Но сегодня она скорее нуждалась в успокаивающем средстве, которое помогло бы ей забыть стены со свастиками, грязную консьержку, графиню Эдмонду… Она не хотела поддаваться страху.
XVII
Зима все тянулась, а вместе с ней простуды, перебои в подаче тока, нехватка угля, поиски мяса и масла; «комитеты по чистке» ничего не чистили и лишь в самых крайних случаях выносили смертные приговоры, пугавшие даже тех, кто раньше их требовал. Нельзя ни судить, ни мстить по остывшим следам. Нюрнбергский процесс казался неким символом: он был воздвигнут на руинах, мрачный, нескончаемый, полный колебаний, разочаровывающий…
Анна-Мария жила все в той же квартире; у американки получились осложнения с паспортом, она еще не приехала и даже прислала Анне-Марии восторженное письмо, в котором писала, как она горда, как она рада, что в ее квартире живет участница Сопротивления, просила ее чувствовать себя как дома, устраиваться по своему усмотрению, делать все, что ей заблагорассудится… Лишь бы ей было хорошо, лишь бы она была счастлива… Американцы умеют быть любезными, когда захотят. Теперь одни только иностранцы еще отдают должное Сопротивлению… «Она порядочная женщина, она никогда не принимала участия в Сопротивлении…» Анне-Марии повезло, что ей разрешили остаться в этой квартире, ту, которой добивался для нее Жако, она до сих пор не получила, – каждый день возникали новые трудности. Жако выходил из себя, нажимал на все пружины, но не мог уладить этого дела.
Анна-Мария становилась профессиональным фотографом; она следила за событиями: премьеры, иностранные гости, демонстрации, пожары, ограбления, железнодорожные катастрофы… Она была изворотлива, умела проникнуть куда угодно, сесть в поезд на ходу, и когда это нужно было для дела, ее не останавливали ни дождь, ни холод. Снимки с подписью «Анна Белланже» начинали цениться.
В тот вечер Анна-Мария ждала к обеду Колетту, у которой снова начались неприятности. Обед в ресторане обходился слишком дорого, но если ты все-таки решался зайти в ресторан, то он непременно бывал закрыт в этот день, ходишь, ходишь и в конце концов угодишь куда-нибудь, где не топлено и где с тебя сдерут втридорога. Лучше питаться дома. Благодеяния белошвейки и консьержки стали ей не по карману, но американка, хозяйка квартиры, часто присылала роскошные посылки, и Анна-Мария кое-как перебивалась. Самой ей требовалось немногое, но почти каждый день приходилось кого-нибудь кормить: то явится к ужину Жако, то заглянет после спектакля Франсис, то забежит без предупреждения мадам Дуайен выпить чашку чая, – правда, не столь горячего, как она сама; частенько приводила с собой приятеля или подругу миссис Франк, американская журналистка, с которой Анна-Мария познакомилась у мадам де Фонтероль; изредка появлялась со своей Жанниной мадам Метц, фотограф, Анна-Мария уже не работала у нее, пора ученичества кончилась. Из-под проворных, умелых рук Анны-Марии выходили всякие вкусные вещи, а кухня была такой чистой, словно там никогда и не стряпали. Тепло, пахнет горячим печеньем, на случай если отключат свет, под рукой имеется большая керосиновая лампа. Друзья Анны-Марии слишком охотно злоупотребляли ее гостеприимством.
У Колетты, как всегда, были неприятности, и, как всегда, она пришла поплакаться к Анне-Марии. Они довольно долго не виделись: когда у Колетты все шло хорошо, она исчезала. Не дав Анне-Марии времени приготовить обед, накрыть на стол, она сразу же принялась выкладывать свои горести. Она болтала, сидя на табурете в кухне, и, не прерывая болтовни, следовала за хозяйкой из кухни в столовую и обратно. Анна-Мария не очень хорошо разбиралась в ее рассказе, дело шло о другом человеке, а не о том, что в прошлый раз, и Анна-Мария никак не могла понять кто кого бросил: он Колетту или Колетта его. А возможно, они прекрасно ладили, и все неприятности, на которые жаловалась Колетта, были обыкновенными любовными ссорами. После обеда Колетта уселась на подушку перед камином и так как, разнообразия ради, электричество выключили, комнату освещали лишь горевшие в камине дрова. Анна-Мария, сидя в кресле, слушала Колетту.
– Он не позвонил ни на второй, ни на третий день. А когда позвонил, я уже считала, что вся эта история не стоит выеденного яйца… Разговаривала я с ним очень сухо. Вечером он явился с видом побитой собаки. Повел меня ужинать, а после ужина мы отправились танцевать… А потом снова исчез на целую неделю! Я отлично знаю, что дома он не сидел, здесь всегда все известно, в этом отношении Париж хуже провинции…
Когда он позвонил, я положила трубку. Он тут же перезвонил и сказал: «Нас разъединили…» У меня не хватило духу сказать правду, пусть думает, что нас действительно разъединили. Мы отправились танцевать…
Снова загорелось электричество, Анна-Мария встала, чтобы погасить плафон, свет которого резал глаза, и оставила одну лампу под абажуром из пергамента с какой-то надписью готическими буквами – еще один «раритет» в американском вкусе; абажур напоминал Анне-Марии замок в Германии.
– Ну, а потом? – спросила она, опускаясь в кресло.
Колетта, сидя в грациозной позе на подушке, не спускала глаз с огня, худенький торс ее был повернут к камину, юбка обтягивала круглый зад.
– И так тянулось целый месяц! Ведь прошел месяц, как мы с вами не виделись! Все началось на другой же день после того, как я обедала здесь в последний раз… Вчера меня взорвало. Мы отправились в театр… Какое-то идиотское ревю. Он взял мою руку, но так, чтобы, упаси боже, никто не заметил: а вдруг в зале окажется кто-нибудь из знакомых его жены!.. Она сейчас с детьми на юге, кажется, волноваться нечего… Спрашивается, что он: боится жены или не хочет ее огорчить? Что ему в конце концов от меня надо, ведь он даже не пытается стать моим любовником… Странный человек: зарабатывает кучу денег в крупном торговом предприятии, а ведет себя, как сутенер…
– Я не совсем вас понимаю, Колетта… разве развлечения оплачиваются из вашего кошелька?
– Что вы, просто у него своя манера обхаживать женщин… Он волочится за ними вовсе не для того, чтобы с ними спать, а чтобы получить «маленькую выгоду»: плацкарту в спальный вагон, материю на костюм, горючее для машины – от каждой берет то, что в ее возможностях; одна служит в бюро путешествий, муж другой имеет отношение к торговле мануфактурой… Он, знаете ли, очень хорош собой, эдакий холеный, загорелый… И завоевывает женщин самым тривиальным, самым пошлым способом и, представьте, достигает цели! Говорит сладеньким голосом: «Вы сегодня ослепительны!.. У вас, очевидно, другая губная помада?..» И заглядывает вам в глаза… Уверяю вас, он добивается всего, чего захочет, как это ни мерзко… И он даже не удостаивает этих женщин чести стать их любовником, не расплачивается с ними! Уверяю вас, он – сутенер… Я люблю его!
Услышав это неожиданное заключение, Анна-Мария едва сдержалась, чтобы не расхохотаться. А вдруг это серьезно?
– Полно, полно, – проговорила она в спину Колетте, уставившейся на огонь, – не говорите так…
– Да, люблю! Его зовут Жюль, тем хуже для него!
На этот раз смех Анны-Марии был вполне оправдан, а вслед за ней рассмеялась и сама Колетта.
– Выпейте немножко вина, – предложила Анна-Мария, протягивая ей бокал. – Так что же произошло после театра? Он, по-моему, обыкновенный донжуан, ваш кавалер, а вовсе не сутенер. Вы обзываете его так просто потому, что сердитесь.
– Нет, сутенер, а как еще, по-вашему, назвать человека, который использует свою внешность для получения материальных выгод, жизненных удобств? Как вы его назовете?
– Дайте подумать… Возможно, он просто трус, боится осложнений и дорожит спокойной и удобной жизнью? Колетта! Что с вами? Отчего вы плачете? Да перестаньте, Колетта!
Колетта рыдала:
– Мне не в чем его упрекнуть… У него нет по отношению ко мне никаких обязательств… Зачем же он тогда сказал, что меня любит, ведь я его ни о чем не спрашивала… Ну как было не поверить ему? Это же вполне правдоподобно…
Анне-Марии стало не по себе, она погладила плечо Колетты:
– Все это, конечно, просто любовная ссора, и вы очень несправедливы к Жюлю…
– Нет, я знаю, что говорю. Плевать он на меня хотел… Я нарочно притворяюсь непонимающей, но на самом деле все понимаю: он хочет чего-то добиться от моего мужа! В следующий раз, когда он позвонит, возьму и брошу трубку. И поссорю его с Гастоном.
– Вот как, в таком случае, он своего добился! Колетта, я запрещаю вам думать о нем, он не стоит вашего мизинца, – на всякий случай сказала Анна-Мария. – Вы еще найдете десяток таких, как он.
Колетта встала, потянулась, снова взялась за пирожное. Анна-Мария подумала, что, будь она мужчиной, никогда она бы не стала ухаживать за такой вот Колеттой. Она почувствовала легкое отвращение к Колетте: эти короткие ноги, эта жадность… Анна-Мария очень любила кошек, но никогда не держала их, кошки в период любовного томления вызывали в ней гадливость и тоску, а когда кот возвращался с разодранным ухом, ей тоже становилось противно. Глядя на эту самочку, которая решила, что ей по плечу большая любовь, Анна-Мария чувствовала, как в ней поднимается женская гордость. Когда нет любви, самолюбие полезно, оно позволяет вести себя с достоинством, но Колетту самолюбие не спасало, она вела себя так, словно у нее его и не было, а страдала так, словно ее у него хватало на десятерых. Тем хуже для нее. Но Анна-Мария тут же устыдилась своего презрения: а разве сама она не была уязвлена, когда Франсис, как ни в чем не бывало, укатил на следующий день после иллюминации? Не далеко она ушла от Колетты, разве только что умеет держать свои чувства в узде, но ведь она вдвое старше. И она снова принялась угощать гостью пирожными и вином, а потом очень ласково напомнила, что ей пора уходить, если она не хочет пропустить последний поезд метро. Анна-Мария была готова ее утешать, но ее не устраивало, чтобы Колетта здесь заночевала.
После ухода Колетты Анна-Мария облегченно вздохнула. Она разрешала людям вторгаться в свой дом, но тяготилась ими, они ее утомляли. Она заперлась в темной комнатушке, где в ванночках мокли снимки, и работала до поздней ночи.
XVIII
– Это дело республиканской полиции… Но республиканской полиции трудно раскрыть заговор, нацистский или, если угодно, фашистский. Во-первых, добрая половина полиции на стороне заговорщиков; во-вторых, она не обладает той нацистской сноровкой, какая необходима в борьбе с нацистами. Вы понимаете, что я подразумеваю под словом «сноровка». Кагуляры и иже с ними живы и скоро покажут свои клыки.
Голос друга Жако, который представил его Анне-Марии просто под именем Роллан, сразу выдавал интеллигента. Они сидели перед камином в гостиной Анны-Марии, и Жако сердито подминал под себя раздражавшие его куски старинной парчи, накинутые на спинку кресла. Роллан был очень высокого роста, с седоватыми, зачесанными назад волосами: встретив его в поезде или в ресторане, вы сразу решили бы, что перед вами человек известный – ну, скажем, летчик-рекордсмен, государственный деятель или дипломат, путешествующий инкогнито… Светлые глаза, опушенные черными ресницами, великолепный лоб и мягкое, несколько утомленное выражение лица. На нем был костюм хорошего покроя, но не слишком новый.
– Авантюристические замыслы кагуляров, – продолжал он, – идут в различных направлениях… Перед войной это была террористическая организация, ставившая себе целью свержение республики. Во время оккупации часть кагуляров отправилась в Лондон, другие предпочли Виши и «национальную революцию» Петена… Некоторые из них вели двойную, если не тройную игру! В их делах есть много загадочного… При каких обстоятельствах был убит Делонкль, которого считают главой кагуляров? Кто организовал его убийство после поездки в Испанию, где он, как говорят, встречался с англичанами? Выдали ли его французы, сидевшие в Лондоне, потому что он был им помехой, или он просто попал в лапы гестапо, как то могло случиться со всяким?
Казалось, он пересказывает детективный роман. Анна-Мария предпочла бы, чтобы это и был роман, ей не хотелось верить, что все это существует в действительности. Но ей нравился его голос, его светлые глаза, длинные ноги…
– Можно предположить, – продолжал он, – что в Синархию – тайное общество, которое главенствовало над всеми другими, – входило много кагуляров. Эти организации не могли не найти друг друга, их пути неизбежно скрещивались: во Франции не так уж много людей их толка… Если говорить высоким стилем, так сказать, языком поэзии, они, на мой взгляд, величайшие преступники, заговорщики просто из любви к заговорам, просвещенные бандиты с большой дороги, любители риска, которым уже приелся спорт, ибо спорт – это скелет риска, лишенный романтической плоти приключения, идеологии, честолюбия, не имеющих ничего общего с духом спортивного соревнования… Если говорить языком поэзии. Но у поэзии свои права. Вот почему порой может создаться иллюзия, что бандиты эти – не просто бандиты.
– Кагуляры – вольный перевод американского ку-клукс-клана, – пояснил Жако. – Но, говоря о ку-клукс-клане, трудно пользоваться языком поэзии. Ку-клукс-клан более обнаженно выражает все то же самое явление – нацизм.
У Роллана вырвался смешок:
– Да, ку-клукс-клан ничем уж не приукрасишь. Полагаю, что у негров, когда их линчуют, нет никаких иллюзий в отношении этих чудовищ, этих буйно-помешанных, разгуливающих на свободе. Не забывайте, что во время своих операций члены ку-клукс-клана носят капюшон…
– Если вы будете продолжать в том же духе, – прервала его Анна-Мария, – я просто попрошу вас остаться у меня на ночь с автоматами…
Словно призывая к порядку аудиторию, Жако мерными ударами выколачивал табак из трубки.
– Аммами, – отозвался он, – нужно уже сейчас приучать себя к мысли, что вокруг вас враги, и жить с оглядкой… Скоро все коллаборационисты выйдут из тюрем, все, слышите – все: убийцы, грабители, предатели, неустойчивые элементы, петеновская милиция, ЛВФ [40]40
ЛВФ – так называемый «Легион французских добровольцев» – предатели, сражавшиеся на стороне гитлеровцев против Советской Армии.
[Закрыть]; все, кому нечего терять, чье сердце гложет бешеная злоба!.. Вы думаете, такие промахнутся? У дверей каторги и тюрем их будут поджидать другие, те, кто их сгруппирует, организует, направит. Пять лет оккупации научили нас и наших противников всем уловкам конспирации. На сей раз схватка будет страшной – гражданская война, и тайная и открытая… Но мы ждем их в полной готовности, этих французских убийц.
– Нам, – сказал Роллан Незнакомец, – нам предстоит защищать нечто большее, чем свою шкуру, нам предстоит защищать будущее всего человечества, Францию – эту звезду на челе мира… Если у нас наступит мрак, вся земля погрузится во тьму. Слишком многое придется начинать сызнова. Нет!
Незнакомец повернулся, и Анна-Мария увидела его светлые глаза, упрямо сжатые губы.
– Вот до чего мы дошли, – сказала она с грустью, – я не видела вокруг себя ни одного испуганного лица и думала, по наивности, что никто, кроме меня, этого не чувствует… Но и я только чувствовала, а вы – вы знаете.

Они замолчали. Жако курил. Незнакомец смотрел на догоравшие угли. Анна-Мария встала, поворошила их.
– С вашей квартирой, – сказал Жако, – дело не ладится, но мы своего добьемся. Правда, по словам консьержки, тот субъект прислал к ней своего поверенного, подозреваю, что в действительности она сама к нему отправилась: он якобы грозит ужасными карами!
Кроме того, на дом был совершен налет, и из квартиры унесли все, вплоть до ковров, помните громадные ковры, прибитые к полу гвоздями. Надо полагать, они действовали совершенно спокойно, раз успели увезти такие ковры. Не знаю, представляете ли вы себе… Я велел опечатать квартиру.








