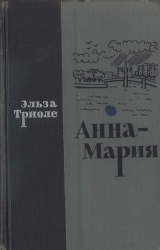
Текст книги "Анна-Мария"
Автор книги: Эльза Триоле
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
– Вы это ко мне обращаетесь? – Анна-Мария даже приподнялась в постели. – О чем, по-вашему, я могу им рассказать? Ни разу в жизни не выступала публично! Безумная идея…
– Именно к вам. Приближаются выборы… Надо еще раз разъяснить основы нашей политики женщинам, растолковать, в чем их долг и ответственность…
– И вы обращаетесь с этим ко мне? – повторила Анна-Мария. – Да вы издеваетесь надо мной, я не имею ни малейшего представления об основах политики! – Она рассердилась. – Я пойду голосовать вместе со всеми, это гражданский долг всех женщин, слышите, вместе со всеми! Вы согласны со мной, Колетта?
– Я не просила давать мне право голоса и не намерена голосовать.

Колетта была не в духе, мужчины уходили, не сказав ей и десятка слов. А этот Роллан вовсе не дурен, вот уж верно, все мужчины – тупицы… Между Колеттой и Анной-Марией разгорелся спор. Колетта подпрыгивала на кровати, как рыба на сковородке. Анна-Мария, схватившись за косы, дергала их, словно шнур колокольчика. Щеки ее пылали.
– Женщины, – говорила Анна-Мария, – женщины пять лет несли на себе все тяготы оккупации, они научились одни, без мужской помощи, воспитывать детей, мерзли в очередях, носили оружие, пряча его за пазухой, развозили листовки в детских колясочках… А мужчины вернулись, чтобы рассказывать им о Петене, великом воине! И вы не хотите голосовать!
Колетта теперь так трясла кровать, что Анну-Марию даже начало подташнивать.
– Не стану голосовать, – кричала она, – не понимаю, что вы прицепились к маршалу! Он хорошо держался… Оставили бы его в покое, он бы мирно договорился с де Голлем, и мы бы избежали всех этих ужасов! Но вы все время мешали ему! Это коммунисты отдали его под суд, потому что он не угодил Москве!
– Колетта, не трясите кровать, – строго сказала Анна-Мария. – Если вы будете продолжать в том же духе, я, во-первых, вступлю в коммунистическую партию, а во-вторых, снова войду в движение Сопротивления!..
– А против кого? Против кого?
Колетта еще раз подпрыгнула на постели.
– Против петеновцев и бошей! Потому что все продолжается!.. Стоит только послушать вас. Подождите, мы, женщины, вам еще покажем… Мы бываем повсюду, мы знаем, кто из лавочников нас обвешивает, знаем, как дерут втридорога за молоко, знаем, помогает нам правительство или нет… Не то что министры, которых обворовывают их собственные повара… А мы, мы протрем с наждаком все колесики в стране и выведем ржавчину.
– Что делаете вы, вот вы лично, чтобы вывести ржавчину в стране?
– Хотя бы буду голосовать, все лучше, чем ничего… Правда, этого мало…
– Этого, пожалуй, даже слишком много…
Анна-Мария не ответила: Колетта попала в цель; Анна-Мария не была уверена, что обыкновенный фотограф должен иметь право голоса. Лишь нужные обществу люди должны пользоваться таким правом…
– Вы прочтете лекцию, не правда ли, Аммами? – Жако и Роллан все еще не ушли, они слушали их спор, не вмешиваясь. – Вот видите, вы прекрасно знаете, что отвечать, когда вам противоречат.
Роллан стоял молча, опершись о косяк двери, в которую не мог пройти, не наклонив головы. Светлые глаза его были полузакрыты. На лице застыло не то грустное, не то обиженное выражение.
– Ах, оставьте, Жако, вы же видите…
Анна-Мария чувствовала себя страшно усталой и подавленной.
Колетта, взяв на себя обязанности хозяйки дома, проводила Жако и Роллана до дверей, потом вернулась к Анне-Марии. Анна-Мария лежала с закрытыми глазами, она не спала, но, казалось, очень хотела спать; на лбу ее залегла неглубокая морщинка. Колетта снова уселась на постель.
– Не знаю, что мне делать, Анна-Мария, – начала она. – Боюсь, что я беременна.
– А, – отозвалась Анна-Мария, – вы не хотите второго ребенка?
– Ни за что на свете! Это ужасно… и потом, он не от Гастона… Не могли бы вы помочь мне?
Почему она обращалась к ней? За кого она ее принимала? Вероятно, за одну из тех опытных женщин… Как утомительно жить! Анна-Мария не могла даже утешить Колетту, так у нее все болело, от жара и усталости темнело в глазах. Колетта ушла, даже не предложив убрать со стола, не до того ей, бедняжке… Вот это действительно можно назвать неприятностями… Анна-Мария не знала, что делать со своими волосами, от них было невыносимо жарко. Все же, когда болеешь, приятно иметь возле себя кого-нибудь близкого, кто помог бы тебе… Если бы Колетта не выжила Жако и Роллана… Нет, она не виновата, у них, наверное, собрание. Но они не бросили бы ее так, не убрав со стола… И этот сыр… ее тошнило от резкого запаха сыра. Пока на кухне суетились мужчины, Колетта набивалась помочь им, но едва они ушли… Не везет Колетте, всегда она приходит, когда ее меньше всего хочешь видеть. Если она ведет себя так с мужчинами, я понимаю мужчин…
XX
Мадам де Фонтероль причесывалась. У нее окоченели пальцы, и ей не удавалось уложить как следует пряди уже сильно поседевших волос. Халат из бумазеи, надетый поверх фланелевой рубашки и трико, не красил ее… а волосы! волосы торчали во все стороны, словно она расчесывала их «против шерсти»… кожа под подбородком висела, как тряпка… Мадам де Фонтероль никогда не блистала красотой, но когда-то и она была молода, и сегодня утром она вспоминает об этом. Ольга разжигает камин: дров ровно столько, чтобы мадам де Фонтероль успела одеться. С тех пор как повеяло весной, холод как будто стал еще сильнее или просто чувствовался сильнее.
– Что будем готовить к завтраку, мадам? Посылка из деревни не пришла… Мосье Ив оставил в столовой записку, что ждет к завтраку двоих гостей. Он опять вернулся на рассвете. Вы бы ему сказали, мадам, чтобы он не приводил ни с того ни с сего гостей, сейчас не те времена…
– Вы же прекрасно знаете, Ольга, что он никого не слушает… Дайте мне счета Жанны.
Мадам де Фонтероль подошла к камину; сырые дрова шипели, грозились потухнуть и давали не больше тепла, чем спичка.
– Невероятно… Уже все истратила! Ведь только вчера утром я дала ей тысячу франков!
Мадам де Фонтероль начала проверять счета кухарки Жанны.
– Что подать к завтраку, мадам? Скоро девять часов.
Ольга просто невыносима, вот уже двадцать лет, как она невыносима и как мадам де Фонтероль ее терпит. Надо приноравливаться к людям. У Ольги есть свои достоинства, на нее смело можно положиться. Мадам де Фонтероль не приходилось волноваться ни когда она оставляла на ее попечение маленького Ива, ни когда прятала на чердаке особняка парашютистов. Ольга была преданным человеком. Но она была невыносима.
– Не знаю, что и придумать… Возьмите в ночном столике ключи от стенного шкафа. Там остались сардины. И позвоните баронессе.
Баронесса поставляла товары с черного рынка. Ольга нашла в ночном столике ключи и открыла глубокий стенной шкаф, какие бывают в старинных домах.
– Осталась только одна коробка, мадам…
– Если б я сама не запирала шкаф, я решила бы, что нас обворовывают.
– Я не воровка, мадам.
– Вы мне надоели, Ольга…
– Возможно, я надоела мадам, но коробка последняя, а одной коробкой сардин не накормишь четырех человек, считая гостей мосье Ива. Мадам знает, что масло кончилось?
– Возьмите гусиный паштет, – вздохнула мадам де Фонтероль. – И позвоните баронессе…
Ольга взяла поднос и вышла. Мадам де Фонтероль сняла капот, трико, фланелевую рубашку. Ежедневно приходилось переживать эту пытку холодом, когда кожа съеживается, морщится, как гармошка, укладываемая в футляр. Бюстгальтера она не носила, лучше уж ничего не подчеркивать; без платья мадам де Фонтероль была совершенно плоской. Она надела платье и превратилась в тоненькую, как девушка, аристократического вида женщину. На груди слева – часы с брильянтовой короной; кольца – два обручальных, крупный неграненый изумруд, брильянт на мизинце. Теперь она готова. Мадам де Фонтероль спустилась в кухню.
Первой пришла графиня Эдмонда. Ольга принесла в гостиную, где стояла мебель, обитая серым шелком, бутылку портвейна и удалилась, притворив за собой дверь, чтобы не выпустить благодатное тепло.
– Внимание – мама идет! – сказал Ив и отпрянул от Эдмонды, которая сделала вид, что мешает поленья в камине.
Вошла мадам де Фонтероль.
– Твой друг запаздывает, Ив, – сказала она. – Пора бы садиться за стол.
– Не дом, а каторга! – засмеялся Ив. – Должен сказать, мадам, что в нашем доме всем заправляет старуха горничная, мама перед ней дрожит.
– А ты сам? – Мадам де Фонтероль постаралась обратить все в шутку. – Наш парашютист, наш бравый вояка беспрекословно слушается ее, генерал и тот не мог бы добиться такого повиновения.
– Дисциплина идет на пользу молодым людям, – ответила Эдмонда.
Щеки ее все еще пылали: ох, этот огонь! не следовало подсаживаться так близко к камину…
– Вы, кажется, выдвинули вашу кандидатуру в парламент, Эдмонда? – спросила мадам де Фонтероль.
Ив, который сидел верхом на стуле, упершись подбородком в спинку, так и подпрыгнул, словно в седле.
– Вы хотите пройти в парламент, мадам?
– Да, у меня есть шансы… Моя семья испокон веков известна в нашем округе, мы всегда очень много делали для бедняков: благотворительные мастерские для женщин, бесплатная врачебная помощь… Если бы не Франсуаза Дуайен, я бы, бесспорно, прошла…
Мадам де Фонтероль заинтересовалась:
– Франсуаза тоже выставляет свою кандидатуру?
– Нет, но она не хочет моей. Любыми способами старается ославить меня во всем округе. Мы почти соседи, – вернее, были соседями, вы же знаете, немцы сожгли ее замок. Теперь это обстоятельство ей на руку.
– А от какой партии вы выставляете вашу кандидатуру, мадам?
Ив раскачивался на стуле, важный, как папа римский, в его красивых глазах искрился смех.
– От социалистической…
– Вы что, договорились с ними? Не так все это просто… Одно ваше решение еще ничего не значит… Ты упадешь, Ив, перестань раскачиваться, умоляю тебя… – Мадам де Фонтероль закрыла глаза рукой, словно у нее кружилась голова. – Франсуаза – член МРП [43]43
МРП – «Народно-республиканское движение» – буржуазная партия, тесно связанная с католической церковью.
[Закрыть], у нее свои кандидаты…
– Если бы Франсуаза меня поддержала, я баллотировалась бы от МРП. Вы знаете, как происходят выборы в провинции: там всеми делами вершит один избиратель, остальные у него на поводу. Франсуазу Дуайен слушаются, как оракула, а она против меня!
– Какая скверная женщина! – Ив откинулся со стулом почти до горизонтального положения. Заслонив глаза рукой, чтобы не видеть его, мадам де Фонтероль покачала головой.
Эдмонда с милой гримаской неопределенно повела плечами.
– Франсуаза не скверная, а сумасшедшая. Она утверждает, что я сотрудничала с немцами. Ведь нельзя же считать меня коллаборационисткой только потому, что я встречалась в гостях с немецкими офицерами… Но немцы были повсюду, волей-неволей с ними приходилось встречаться! Она попрекает меня моим мужем, но при чем тут я! Ей прекрасно известно, что нас с ним ничто не связывает. Я два дня прятала у себя Вейлей, пока гестапо разыскивало их по всему Парижу. Полагаю, что я сделала для Сопротивления не меньше других.
Ее бледное лицо покрылось прелестным румянцем, что молодило ее, хотя она и не нуждалась в этом: ее тридцать лет были ей к лицу, она была как спелая дыня, по запаху и весу которой можно определить, что она созрела: вот эта, говоришь себе, хороша, эта в самый раз. Она наклонилась над огнем, согнув свое крупное тело, не слишком худое, не слишком полное.
– Вы обожжетесь, Эдмонда, – не стерпела наконец мадам де Фонтероль.
– Кушать подано! – Ольга открыла дверь столовой.
– Так мы не будем ждать Лорана? Может же человек опоздать на пятнадцать минут! Сейчас только четверть второго.
– Завтрак был назначен на половину первого, Ив… – Мадам де Фонтероль встала.
Они перешли в столовую.
– Я еще тебе это припомню, – сказал Ив Ольге, которая с блюдом в руках ждала, пока они сядут. – Я полгода не видел Лорана, мы прошли с ним вместе сквозь огонь и воду, и я не могу добиться, чтобы в доме моей матери его подождали к завтраку. Не будь его, я, возможно, вообще не вернулся бы и вам бы никогда больше не пришлось ждать меня к завтраку.
– Ив, прошу тебя, без сцен!.. Можете подавать, Ольга.
Ольга, поджав губы, подала гусиный паштет.
– Приходится начинать с паштета, – извинилась мадам де Фонтероль. – Конечно, лучше подавать паштет в середине завтрака, но сегодня я действительно оказалась в затруднительном положении, со снабжением становится все хуже…
– Я не жалуюсь! – Мадам Мастр обладала завидным аппетитом и прекрасными зубами.
Встав из-за стола, мадам де Фонтероль сразу же извинилась перед гостьей: ей надо побывать кое-где, она лишь сегодня утром узнала, что будет иметь удовольствие видеть за завтраком Эдмонду, Ив никогда не предупредит вовремя. Женский клуб отнимает у нее уйму времени, они часто принимают иностранок, жен послов…
Ольга просунула голову в дверь:
– Ив, тебя к телефону. Из Лиона…
– У вас очаровательный сын, – сказала Эдмонда, когда они остались наедине с мадам де Фонтероль, – и к тому же – герой.
– Да, он милый мальчик…
Ив нравился женщинам. Мадам де Фонтероль успела убедиться в этом. Хотя бы по телефонным звонкам. Одни женщины просили к телефону мосье де Фонтероля, другие, услышав женский голос, сразу бросали трубку – в общем за день звонков набиралось немало. Письма приходили неравномерно: иной раз их бывало очень много, иной раз – мало. Время от времени Ив не ночевал дома. Случалось, он приходил домой лишь для того, чтобы переменить рубашку. Мадам де Фонтероль не была ревнивой матерью; она следила за мальчиком издалека, не вмешиваясь в его жизнь, и ей случалось даже утешать женщин, брошенных шалопаем Ивом. Одна из подруг мадам де Фонтероль по пансиону, сорокалетняя дама, влюбилась в Ива, когда тому исполнилось всего восемнадцать лет! Она призналась в этом мадам де Фонтероль, закатывала ей истерики в отсутствие Ива, твердила, что тот ни о чем даже не догадывается, и мадам де Фонтероль верила ей до той поры, пока случайно не открыла дверь в комнату сына, думая, что там никого нет… К счастью, война положила конец этому кошмару, положила раз навсегда… Подруга погибла во время эвакуации. Красивая женщина, эта Эдмонда. Такую наставницу в любви может пожелать своему сыну каждая мать, раз уж это неизбежно… В подобных случаях и нужна именно светская дама не первой молодости: она будет с мальчиком ласковой, по-матерински заботливой, и во всяком случае такая связь безопаснее, чем рискованные похождения в злачных местах или связь с молоденькой девушкой, когда ни у него, ни у нее еще нет опыта: девушка немедленно забеременеет, и потом не оберешься неприятностей… Мать не знала, когда и с кем произошло у Ива первое грехопадение: он всегда очень непринужденно держался с женщинами. Мадам де Фонтероль была известна своей терпимостью и широтой взглядов, но то, что Эдмонда выставляла свою кандидатуру на выборах, ее покоробило. Однако она старалась найти ей оправдание: возможно, Эдмонда вовсе не так цинична и глупа, как это кажется, просто она принадлежит к числу тех женщин с гибким воображением, которые видят себя такой, какой хотят видеть; нынче модно быть участницей Сопротивления, и Эдмонда искренне считает себя таковой. Теперь, когда мадам де Фонтероль не приходилось больше дрожать, что Ив попадет в лапы первой встречной, ей было безразлично, с кем он ложится в постель. Ив не ребенок, в Эдмонду он не влюбится. А в таком случае – Эдмонда, другая, другие ли, не все ли равно…

– Это звонил Лоран, – сказал Ив, возвращаясь. – Он ехал с юга, и машина застряла в Лионе. Он пытался дозвониться еще вчера, но не было связи…
– Видишь, хорошо, что мы не стали его дожидаться…
Мадам де Фонтероль не уходила из комнаты, ей казалось как-то неприлично оставить влюбленных наедине, получалось, будто она потворствует им. Как она сразу не догадалась, что если Ив приглашает женщину… Но она так давно знала Эдмонду, что ей и в голову не приходило… Перед войной Ив не был знаком с Эдмондой, потому что в то время она много путешествовала, а еще раньше Ив был слишком молод, чтобы выезжать в свет. Ну что ж, надо идти, дамы, вероятно, ее заждались… Мадам де Фонтероль поднялась.
Оставшись наедине с Эдмондой, Ив не набросился на нее, как воображала мадам де Фонтероль, а возможно, и сама Эдмонда. Он был мрачен.
– Жаль, что вы не видели Лорана, – сказал он. – Хороший малый и редкостной, я бы даже сказал, безумной смелости. Вы увидели бы настоящего участника Сопротивления, не чета здешним разболтанным парням из ФФИ или сентябрьским сопротивленцам в домашних туфлях… Никого они не обманут…
– Какая муха вас укусила, Ив, чего вы сердитесь?
– Я? Нисколько. Но мне горько видеть, что все эти типы засели в министерствах, ни черта не делают и получают сотни и тысячи… Смею вам доложить, что лично я не хотел бы быть на их месте!
– Но что вас так внезапно рассердило? – Эдмонда откинулась на спинку стула, потянулась. – У меня много друзей, которые сейчас в таком же положении, как и вы… По различным причинам…
– Сотрудничество с немцами, например!
– О! – Эдмонда выпрямилась и заплакала… – И ты упрекаешь меня! Какая несправедливость, как больно, что ты, именно ты думаешь обо мне плохо…
Ив не шелохнулся: она явно перебарщивает, ведь всем известно, что она путалась с немцами, ему на это наплевать, но к чему разыгрывать комедию. Женщины, которым только это и нужно, должны только этим и заниматься, а не лезть куда не следует, не говорить о политике, не выставлять свою кандидатуру… даже смешно… в конце концов.
– Ну ладно, – сказал он, – я вовсе не думаю о тебе плохо… Да и что тебе в моем мнении? Ведь я у твоих ног, чего ж тебе еще? – Эдмонда протянула к нему руки. – Осторожно, Ольга в столовой.
Эдмонда встала. Хороша, ничего не скажешь.
– Подвезти тебя? – Она была чуточку бледна, чуточку расстроена…
– У тебя машина?
– Конечно.
– Нет, бога не существует, – серьезно произнес Ив. – Скажите, Эдмонда, значит, по-вашему, справедливо, что у вас, просидевшей всю войну здесь, в тепле и так далее и тому подобное, у вас есть машина, а я езжу в метро?.. Возможно, я и не герой, как ты утверждаешь, но все же я выполнил свой долг.
– А я свой, – не дрогнув, ответила Эдмонда.
– Долг, за выполнение которого дают машины…
– Вы грубиян, но можете этим воспользоваться.
– Что я и не премину сделать, уж будьте уверены! Они вместе вышли из дома, Эдмонда села за руль.
– Хочешь, заедем к тебе? – спросил Ив.
– Я как раз собиралась предложить тебе это… Эдмонда великолепно вела машину.
XXI
Цветет сирень. Все люди идут навстречу солнцу, и чтобы оно не ускользнуло, готовы ухватиться за его лучи, как за поводок. Сегодня воскресенье, настоящий праздник, благодаря сирени и солнцу. Свет повсюду, новенький, как позолота памятника Жанны д’Арк на площади Пирамид, как радость того юноши и той девушки, что целуются напротив памятника, под арками улицы Риволи. Все ждали этого солнечного воскресенья! В волосах у девочек банты, куда ни глянь – нарядные галстуки, новые туфли, и у всех в руках охапки сирени, потому что все побывали за городом. На улицах Парижа толпы народу, люди бесцельно слоняются, выбитые из колеи непривычным досугом, – не нужно вколачивать гвозди, не нужно выводить колонки цифр, принимать клиентов, держать в руках руль или иголку… Воскресенье промелькнет быстрее падающей звезды и, как все долгожданное, оставит горький осадок разочарования. Хоть день и солнечный, вас уже начинает пронизывать холодный ветер. Переполненные поезда метро привозят в город целые семьи, одиноких людей, влюбленные пары… По перрону бредет слепой, нащупывая дорогу белой палкой… Плотная толпа расступается, чья-то рука протягивается ему на помощь в ту минуту, когда он чуть не натыкается на автоматические весы. И тут слепой поднимает крик: «Убери руки, дерьмо! Оставь меня в покое!.. Знаю я вас. Хотите бросить меня под колеса… Не нуждаюсь я в вас, у меня есть палка!..»
Толпа молча расступилась, но слепой шел на нее словно нарочно, словно он видел: люди едва успевали отскочить в сторону. Это было похоже на игру. Слепой свернул «на пересадку», и вдруг на том конце платформы какой-то мужчина, не видевший инцидента с весами, бросился за ним, чтобы помочь, направить его, не дать споткнуться на лестнице.
– Нарвется он сейчас, – раздалось в толпе.
Послышались крики, и появился растерянный «спаситель» слепого.
– Но разве его хотят обидеть, мама? – спросила какая-то девочка у своей матери.
Люди, стоявшие против перехода, смотрели, как слепой поднимается по лестнице: казалось, он прекрасно знает дорогу. Но, может быть, он забыл, что сегодня воскресенье?
Анна-Мария ждала поезда в толпе на платформе метро. Странный он, этот слепой… Толпа вовсе не такая уж тупая, порой она проявляет такт и даже чуткость. Все понимали, что слепой несправедлив, и жалели, что добрые чувства, которые так редки в людях, не оценены по достоинству; но понимающая толпа понимала также, что человек этот несправедлив, потому что несчастен… Анна-Мария села в вагон. Как хорошо пахнет сиренью даже в битком набитом вагоне; при каждом толчке Анна-Мария зарывалась лицом в огромный, в два обхвата, букет, который держала какая-то девушка. Щекотно, свежо и приятно… Темно-лиловая сирень, тугие гроздья в крестиках, а те, что еще не распустились, совсем ажурные… Анна-Мария сошла на Сольферино.
Порыв холодного ветра неприятно удивил ее – нельзя слишком доверяться весне. Анна-Мария шла к мадам Метц, фотографу, которая получила американские иллюстрированные журналы, очень любопытные для фотографа с чисто профессиональной точки зрения.
Мадам Метц жила в старом доме, стоявшем посреди большого двора с высокими деревьями. Мастерская в первом этаже, антресоли, кухня и другие подсобные помещения. Анна-Мария застала там обычный беспорядок; мадам Метц сидела в большом кресле, расставив ноги, засунув руки в карманы твидовой юбки и разговаривала с художником, здоровенным парнем атлетического сложения, которого Анна-Мария где-то встречала. На нем была почти оранжевая полотняная рубашка и сандалии. Жаннина, хорошенькая, с утомленным личиком, отчего ее глаза казались еще больше, рылась в переполненных коробках, отыскивая фотографии. Был здесь еще один человек – кажется, торговец, картинами, но Анна-Мария не могла припомнить, где она его видела, и действительно ли он торгует картинами. Она и сама не заметила, как вступила с ним в спор. Одет он был с иголочки, весенний костюм, гвоздика в петлице, лысина, маникюр.
– Во Франции уже восстановлена цензура. И это называется свободой! Не будете ли вы любезны сказать мне, в чем перемена? – говорил он.
– Во Франции нет цензуры, мосье…
– Есть. Раз мне сказали, что она есть, значит она есть. Ваше возмущение и тот факт, что я не имею права говорить, все, что мне угодно, доказывают…
– Я возмущаюсь, но вы имеете право говорить все, что вам угодно, и у меня нет возможности помешать вам. И очень жаль.
– Люди, вроде вас, у которых на языке одно только слово – свобода, – продолжал торговец картинами – Анна-Мария почему-то решила, что он торговец картинами, но в конце концов он мог оказаться кем угодно, – именно такие люди, как вы – всех в тюрьмы и пересажали! Совсем как в России, нет, извините! В Советском Союзе! Вот они где у нас сидят, ваши русские!.. Они оказались сильнее и победили, а дальше что? Кончено, хватит, в зубах навязло! Сопротивление, русские! Надоело, сыты по горло! У нас дома тот, кто произнесет за столом слово «Сопротивление», платит штраф. Да здравствуют немцы, мадам, да здравствуют немцы! Пока они были здесь, соблюдалась хоть какая-то видимость порядка, дисциплины. А это, не в обиду вам будь сказано, это французам необходимо, мадам, если мы не хотим завязнуть в революциях, забастовках, национализациях… Крайне левая опасность крайне велика!
Что он, пьян? У него были страшные глаза с расширенными зрачками, по крайней мере ей они казались страшными, остальные слушали его, ничуть не удивляясь… Анна-Мария посмотрела на часы и, сославшись на дела, ушла, не пожав руку этому странному типу.
Она быстро шла к станции метро. Все-таки на улице хорошо – сильный ветер, бескрайнее розовое небо. Воскресенье чувствовалось во всем, но оно уже подходило к концу. Анна-Мария подумала, что слепой в какой-то мере подготовил ее к встрече с матерым фашистом. Хорошо бы отгородиться баррикадой от таких личностей. Анне-Марии уже приходилось сталкиваться с людьми, которые некоторое время где-то отсиживались, а теперь опять вылезли на свет божий, устроились и заговорили во весь голос, но этот человек был первым, выложившим все без обиняков. Не считая мадемуазель Лилетты, ее родной дочери: «Она вполне порядочная женщина, жила с немцем…» Да, Лилетта оказалась в «авангарде», Лилетта не ждала, чтоб ей указали дорогу… Анна-Мария вдруг поняла, насколько она солидарна с теми, кто… С кем? Кто верил, и страдал, и не отступал ни перед чем, чтобы все это не повторилось. Тюрьмы, лагеря, героизм и все лишь для того, чтобы такой вот господин в весеннем костюме… Анна-Мария шла, ничего не видя перед собой. Она попыталась взять себя в руки. Все снова ожило в памяти и в сердце… Женни, Рауль, Лилетта, Франсуа… Победоносная плесень, жертвы и палачи. Всегда одни и те же. Она спустилась в метро. В этот обеденный вечерний час вагоны опустели. Анна-Мария едва не проехала своей остановки, так ее поглотило собственное отчаяние перед всеобщей несправедливостью.
Вернувшись домой, она закрыла ставни, задернула занавески, приняла снотворное и легла. Перед тем как забыться, она успела подумать, что именно так кончают самоубийством: сначала долго обдумывают способ, место, прощальное письмо, последние приготовления, последние наказы… и вдруг кончают с собой как придется: выпрыгнут из окна или застрелятся из старого пистолета с ржавыми пулями… только бы поскорее! Не оставив ни писем, ни наставлений, ни изъявлений последней воли… Только бы скорее покончить со всем… Анна-Мария уснула.
XXII
Как чудесно на юге после дождливого Парижа! Анна-Мария спустилась в туннель, затем поднялась по лестнице вместе с толпой пассажиров, нагруженных чемоданами. У входа толкотня – отбирают билеты. Среди встречающих, на самом солнцепеке стоял Селестен, совершенно черный от загара! Он в штатском – ярко-синяя рубашка без пиджака. Селестен коснулся губами перчатки Анны-Марии: не очень устали? Вот и носильщик; этот чемодан ваш? Я на своей машине… Бюгатти, гоночная, с потертым кузовом. Глядя на его обнаженные загорелые руки, державшие руль, Анна-Мария в своем шерстяном костюме и в чулках чувствовала себя анемичной горожанкой.
– Наверное, я похож на пирата – растерзанный, черный, но здесь такое солнце! Сами увидите…
Машина пересекла привокзальную площадь, и сразу же показались серые камни, замелькали зубцы крепостной стены. Прямо от вокзала начиналась широкая улица, обсаженная платанами.
– Припоминаю, – сказала Анна-Мария, – направо – казарма, немцы ее заняли как раз перед моим приездом…
– Мне это тоже памятно! Нас отсюда выгнали: и этот позор пришлось пережить…
Машины, люди на тротуарах, магазины, кино и невозмутимо синее небо. Гостиница находилась на маленькой площади, возле самых городских ворот; благодаря крепостным стенам, пыли, деревьям и громадному мосту, совсем не городскому мосту, казалось, что вы за чертой города. Гостиница, большая, старинная, находилась в глубине двора с вековыми деревьями. Кто старше – деревья или гостиница? На листке, прикрепленном к двери комнаты, дирекция приносила извинения за непорядки, вызванные бесконечными реквизициями… Большие, тяжелые ставни, не пропускавшие солнечных лучей, скрывали внутренний двор, заваленный ржавыми батареями, трубами, железным ломом, – точно вырванные у дома внутренности. Анна-Мария быстро переоделась в легкое платье: как хорошо!.. Длинными, уходящими куда-то вглубь коридорами, а затем галереей, где на покосившемся полу в неустойчивом равновесии стояла прекрасная старинная мебель – сундуки, лари, комоды, горки, – где стены были увешаны гобеленами и старинными картинами, Анна-Мария дошла до лестницы, ведущей в холл. Шелковые кресла эпохи Директории основательно поистерлись, но все еще имели внушительный вид… Селестен ждал ее в баре, примыкавшем к холлу и обставленном мебелью «модерн», которую время отнюдь не красило. Облокотившись о стойку, Селестен играл в домино с барменом. Кроме них, здесь никого не было. Распахнутые двери выходили во двор, где росло огромное дерево и в лучах солнца столбом вилась мошкара и комары.
– Выпьем что-нибудь? – спросил Селестен. – Как приятно видеть пустой бар. Вместо толпы немцев – одна-единственная дама в шортах.
Непринужденность его была явно наиграна: «Красивое платье…» и быстрый взгляд – словно чистокровный скакун прянул в сторону и застыл на месте.
Они пересекли маленькую площадь и сразу же очутились за опоясывающими город крепостными стенами, которые так естественно сочетаются здесь с домами, кафе, людьми, ожидающими автобус. Вот и Рона, деревья, ровный пейзаж… Ну и жара на мосту! Жара и ветер, раздувающий широкую юбку Анны-Марии. По наспех починенному мосту теперь можно было пройти и проехать… Колеса машин играют на досках временного настила, как на ксилофоне. Внизу – Рона – ее бурные стремительные воды сливаются в единый сплошной поток… Между двумя рукавами Роны – остров, на нем – ночные кабачки; как все это странно!.. «Для американцев, – поясняет Селестен, – и для женщин, которые льнут к ним как мухи!..» Мост тянется над обмелевшим рукавом Роны – вода и песок… Мост длиной в километр… Зной. Анна-Мария и Селестен не держатся за руки, почти не разговаривают. Проезжают велосипедисты, в шортах, в плавках, прикрытые одним лишь загаром.
Шоссе за мостом накалено не меньше, чем мост; дома, деревья, не дающие в этот час тени, машины, сигналящие за спиной… «Впервые в жизни меня тянет в жандармерию», – пошутила Анна-Мария, проходя мимо жандармерии – большого розового здания в глубине тенистого сада… «Осторожно!» – Селестен оттащил ее в сторону; она чуть было не споткнулась о лежащую на боку дохлую черную кошку, гниющую на солнце.
– Вот башня Филиппа Красивого, – сказал Селестен, – посмотрите, как она гармонирует с пейзажем, как она украшает его…
Большая квадратная башня одиноко уходила в синеву… Слева – высокие холмы, несколько маленьких домиков, цепляющихся за крутые склоны. Теперь дорога шла под большими тенистыми деревьями. И вскоре перед ними появился Вильнёв во всем своем кардинальском великолепии: на фоне необычайно чистого, необычайно высокого неба – длинная крепостная стена с большими выпуклыми башнями, ниже – расположенные ярусами дома, а между ними просовывают свои пики кипарисы. Анна-Мария и Селестен вошли в городок.
Старые, светлые, почти прозрачные камни домов, церквей – камни цвета жемчуга… Флаги на мэрии, флаги на небольшой, видимо недавно перестроенной площади; даже платаны казались здесь новыми! Анна-Мария и Селестен шли в гору по узенькой улочке, где не могли бы разъехаться две встречных машины. Каменные домики зажимали путников в тиски столетий… Селестен шел впереди; Анна-Мария спотыкалась на плохо вымощенной дороге, тянувшейся между двумя ручейками сточных вод. Время от времени раздавался шум падающей воды и из водосточной трубы какого-нибудь дома выплескивались помои. Надо всем простиралось небо беспримерной синевы… Они все поднимались. Внезапно справа от них словно разорвалась завеса. Исчезли стены, и они увидели: там, где были серые черепичные крыши, возник Папский дворец, словно белый занавес опустился с неба; он был далеко и вместе с тем близко, совсем рукой подать. Потом дома отступили, исчезли деревья и в синем небе осталась одна лишь высокая зубчатая стена и две цилиндрические башни, надвигавшиеся на Селестена и Анну-Марию светлой громадой… Они вошли под стрельчатые своды между двумя башнями – здесь могла бы пройти целая армия! Ветер бесновался, как цепной пес.








