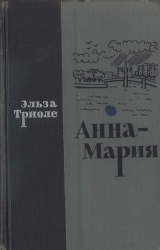
Текст книги "Анна-Мария"
Автор книги: Эльза Триоле
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 26 страниц)
Здесь уже знали, что Анна-Мария обедала у Жозефа, но все были слишком взволнованы, чтобы упрекать ее за это. Парикмахерская была закрыта с двенадцати часов, все готовились к кремайскому празднику. Жених Луизетты привел с собой приятеля, русского, настоящего «златокудрого богатыря». Луизетта была очаровательна, по-прежнему первая красавица в поселке. Рауль знал, кого выбрать… Правда, он выбирал многих!.. Но Луизетта стала теперь еще краше, как раз впору – ни худа, ни толста, крепкая и в то же время стройная… Возле нее Анна-Мария казалась совсем маленькой, а по сравнению с бархатистой кожей, с румяными щеками Луизетты кожа Анны-Марии, под налетом загара, пугала нежной болезненной прозрачностью. Невеста русского парня, девушка с него ростом, тоже была хороша собой.
Влезли в грузовичок, в нем уже было много народу, парни и девушки ехали стоя, все в праздничном настроении. Грузовичок катил по большой дороге, пролегавшей ниже села – «дорога американцев», как называла ее про себя Анна-Мария. Дорога, изрытая танками, до сих пор не была еще приведена в порядок, при каждом толчке все падали друг на друга и веселились еще пуще. Златокудрый богатырь рассказывал всякие небылицы; из-за шума мотора и криков никто ничего не понимал, но чем меньше понимали, тем больше смеялись… «Это история в русском духе, такое может случиться только с русским», – кричал богатырь и смеялся богатырским смехом.
Когда они прибыли в Кремай, праздник по существу еще не начинался. Поперек улицы висели гирлянды электрических лампочек, синих, белых, красных – то-то будет красиво вечером, на всех домах – флаги. Карусель вертелась еще впустую, со скрипом наигрывая какой-то танец, напротив карусели возвышался небольшой помост с трехцветными знаменами. Грузовичок остановился перед кафе, первыми слезли парни, чтобы помочь девушкам, – локоны на затылках запрыгали, замелькали голые ляжки над чулками. Молодежь заполнила все длинное, как коридор, кафе, куда Анна-Мария однажды заходила с Жозефом.
– Полковник еще не приехал, – сказал хозяин, – но он скоро будет! Все уже готово. Увидите, сколько понаедет народу!
Пока заказывали напитки, Анна-Мария незаметно вышла. Как они молоды… Ее молодость позади. Останься Рауль в живых, она сейчас была бы слишком старой для него. Но дело не в возрасте, Луизетте бы тоже не удалось его удержать. Жители селения, одетые по-воскресному, стекались на праздник. Анна-Мария подошла к общественному саду, – несмотря на праздник, он по-прежнему походил на кладбище, – свернула в узкую улочку… Здесь находилась зеленая площадь, похожая на осушенный бассейн. Ни души. Старые особнячки вокруг площади еще больше постарели с тех пор, как она видела их в последний раз, а может быть, осенние румяна были слишком бледны, чтобы скрасить их? По зеленому дну площади прошел человек с ведром. Он остановился возле фонтана, и в ведро с гулким шумом полилась струя воды. Анна-Мария свернула теперь в закоулок, такой узкий, что едва можно было пройти. Она добралась до той заброшенной части селения, где развалившиеся, стоявшие без крыш дома поросли изнутри зеленью; глухие стены без окон напоминали крепость. Все в этих краях походило на крепость, на тюрьму. Тюрьма становилась навязчивой идеей. Одних освобождали, других сажали… Что будет, когда этих «других» освободят? Да, заварилась каша… Погода по-прежнему стояла прекрасная, солнце шарило в зелени, пробивавшейся сквозь развалины. Анна-Мария была одна в этой пустыне, равнодушной к тому, что рядом праздник. Зачем она ехала в эту даль? Скука – или то, что она называла скукой, – по-прежнему не отставала от нее, как липкая бумага-мухоловка: отклеишь ее от юбки, она приклеивается к руке, к юбке, к блузке… Она не спросила у Жозефа, что еще натворил Лебо. Какое ей дело до Лебо? Жако от работы она оторвала, а сама не интересуется ровно ничем. Ее внутренний мир был, вероятно, похож на эти руины: мерзость запустения…
Когда она вернулась в кафе, праздник был в полном разгаре. Духовой оркестр, разместившийся на помосте, едва перекрывал шум толпы. Все пришло в движение: вертелась карусель, взлетали в воздух качели, палили в тире, вокруг духового оркестра кружились пары; словно кто-то запустил огромную заводную игрушку и теперь она будет вертеться, пока не кончится завод. В кафе царило оживление, на столе, за которым Анна-Мария оставила молодежь, лежали пальто и брошенные сумочки; должно быть, все ушли танцевать, кружиться на карусели, качаться на качелях. Разрумяненные, растрепанные парочки прибегали выпить стакан лимонада и снова убегали. Луизетта радостно приветствовала Анну-Марию. Она танцевала с русским богатырем и, совсем запыхавшись, обмахивалась носовым платком. Русский рассказывал всякие смешные истории; вероятно, он говорил все время, пока они танцевали, и в тире и на качелях, но он не надоел Луизетте, нет! Она веселилась и радовалась вовсю.
– …Я вез почту из Бордо в Париж; при мне были настоящие документы… – рассказывал русский, похожий на опролетарившегося великого князя и пользовавшийся лихим жаргоном парижских предместий, – я влип при выходе из метро, но, к счастью, уже успел сдать чемодан по адресу! Поэтому я следовал за шпиками довольно весело, словно ждал от них приятного сюрприза.
Луизетта смеялась, и вся прочая молодежь, отдыхавшая после танцев, тоже слушала и смеялась…
– …Тут, – продолжал великан русский, – меня стали таскать из одного полицейского участка в другой. Такая уж у них метода, хотят замести следы… Но я придумал выход: официант, который принес мне поесть – тогда разрешали заказывать еду в кафе, – обещал сходить к моей матери и объяснить ей, где я нахожусь… Пока мать собралась, меня уже успели перевести в другое место!
Все безумно веселились.
– …Мать, – рассказывал русский, и разбушевавшемуся после передышки духовому оркестру не удавалось заглушить его могучий голос, – так и не нашла меня… Но, как видите, все уладилось. Должен вам сказать, что мать и сестра у меня занимаются изготовлением фальшивых ресниц…
– Это еще что такое?
Луизетта просто изнемогала от смеха, и другие тоже, а вместе с ними и сам русский…
– Сумасшедшая история, – говорил он, – совершенно в русском духе, только с русским может такое случиться. Мать и сестра занимаются у меня изготовлением фальшивых ресниц, ну, тех, какие приклеивают себе кинозвезды… Это очень кропотливая работа…
– Ха! Ха! Ха! – Смех все усиливался…
– Уверяю вас! Очень кропотливая работа, их делают из кроличьей шерсти…
– Послушай… Ой, погоди, не могу больше! – В приступе смеха Луизетта чуть не свалилась со скамейки.
– Он сам не знает, что говорит, – вмешалась невеста русского. – Если бы твоя мать услышала…
– Допустим, я ошибаюсь, не все ли равно. – Он не любил спорить. – Во всяком случае, это очень кропотливая работа, их наклеивают по одной, ресницу за ресницей, на узенькую клейкую ленточку, из гуттаперчи…
Луизетта тихонько стонала от смеха.
– Вы послушайте, он точно про шины рассказывает, клей, гуттаперча!..
– …и всовывают ее вам в глаза! – ничуть не смущаясь, продолжал русский.
– При чем тут фальшивые ресницы твоей сестры, они, что ли, помогли тебе выйти из кутузки? – спросил жених Луизетты.
– Не порть мне весь эффект! Фальшивые ресницы мамаша и сестра делали для Института красоты, а Институт красоты принадлежал одной латышке, а латышка была любовницей Штюльпнагеля! Понятно? Так вот, пока мама разыскивала меня по всем полицейским участкам, сестра разыскивала латышку, а латышка – Штюльпнагеля, но никак не могла его поймать, и поэтому меня выпустил начальник его канцелярии или еще кто-то там… Вот каким образом, благодаря нашим фальшивым ресницам, мне не пришлось ехать в Германию, что могло бы оказаться моим последним путешествием.
– Нет, вы только послушайте! – кричал жених Луизетты.
Все еще хохотали, когда в дверях кафе показался Жако в сопровождении высокого полного мужчины в светло-желтых перчатках.
– Барышня, а вот и полковник с мэром! – воскликнула донельзя возбужденная Луизетта.
Жако прокладывал себе дорогу в шумной толпе, наводнившей кафе.
– Аммами! – сказал он.
Глаза у него были такие добрые, такие голубые, и на миг Анне-Марии показалось, что она рада ему. Но, видимо, она ошиблась, так как ей по-прежнему было скучно. Жако сел рядом с ней.
– Вам рассказали, какой мы подняли шум? Все идет прекрасно, как нельзя лучше, это все очень, очень полезно. В конце концов должен сознаться – я очень доволен, что этого беднягу Робера Бувена, которого я никогда в глаза не видел, посадили в тюрьму! Возмущение, чувство несправедливости объединяет людей; вдруг проявились истинные чувства большинства населения… Не правда ли, господин мэр?
Мэр сидел против них.
– Вы совершенно правы, полковник. Если бы дела Робера Бувена не существовало, его следовало бы выдумать. Нам оказали огромную услугу!
Мэр, казалось, был доволен положительно всем: жизнью, своим зычным голосом, перчатками, прекрасным здоровьем, вином, которое он пил… Рядом с ним широкоплечий и сутулый Жако выглядел бледным; несмотря на дубленую кожу и резкие морщины, в нем чувствовалось что-то бесконечно отзывчивое и мягкое; все дело, наверное, было в выражении его лица.
– Итак, можно открывать митинг? – спросил он.
И вся молодежь, смотревшая ему в рот, тут же поднялась.
– Аммами, – продолжал полковник, – сядьте на террасе, чтобы я не терял вас из виду, мы уедем вместе… У меня машина, я взял ее в гараже Феликса! Как вам это понравится? Вы чудо из чудес, Аммами, вы оказались правы по всем пунктам, и я благодарю вас за то, что вы направили меня на путь истинный.
Жако, мэр, Аммами, а следом за ними и все остальные вышли на террасу.
– Здравствуйте, полковник! – крикнул на ходу какой-то мужчина.
– А, здорово, Джекки! И вы здесь?
– Да, я в не безызвестном вам домишке, в деревне, за гаражом Феликса.
– Вы приехали на праздник или на митинг?
– Я здесь в качестве наблюдателя, только в качестве наблюдателя, я политикой не занимаюсь…
Полковник хлопнул его по плечу, и Джекки улыбнулся, глядя на него сверху вниз. Он был на голову выше полковника, и голова эта клонилась долу, увлекая за собой худое длинное тело, – не тело, а настоящая лиана! Его лишенные растительности щеки были похожи на смятую папиросную бумагу.
– Я зайду к вам, – сказал полковник, – вы расскажете мне о своих последних изобретениях.
– Вы всегда желанный гость, полковник…
Полковник, мэр, вынырнувший из толпы Клавель, приземистый кюре, подвижной, улыбающийся – тот самый кюре, с которым Анне-Марии не удалось повидаться, когда она приезжала в Кремай с Жозефом, – и еще какие-то незнакомые ей люди поднялись на маленький помост. Улица была запружена народом, машинами, велосипедами. Карусель перестала вертеться, карабины уже не стреляли, лотерейное колесо замерло… Под голубым небом, по-осеннему золотистым, наступила тишина.
– Товарищи, друзья, французы и француженки… – раздался голос Жако.
Анна-Мария видела его широкие, возвышающиеся над толпой плечи, его большую круглую непокрытую голову… Она была настолько далека от всего, что происходило, все это до такой степени не касалось ее, что ей самой стало страшно. Что бы такое сделать, немедленно… может, уйти?.. Она проскользнула в кафе, а оттуда через заднюю дверь вышла на улицу, сразу за площадью. Она расталкивала людей, шепча «извините»… На нее неприязненно поглядывали, некоторые сердились.
– Мы не позволим… – звучал за ее спиной голос Жако.
Наконец, выбравшись из тесной толпы, она свернула в первую попавшуюся улочку… Еще несколько шагов – и все смолкло. Вокруг – спокойно, пустынно, тихо… Она вышла на дорогу и зашагала.
Пройдя пешком пять километров, Анна-Мария села в автобус, который остановился, когда она подняла руку. Всю дорогу Анна-Мария спрашивала себя, что с ней такое: так ощупывают себя после падения, после автомобильной катастрофы, проверяя, все ли кости целы…
Когда она доехала до селения, солнце, без лучей, стоявшее уже довольно низко в побелевшем небе, было похоже на яичный желток, вылитый на огромное блюдо. Было условлено, что Анна-Мария переночует у Жозефа, и она направилась прямо к нему. Надо же было куда-нибудь деваться… Анна-Мария предпочла бы никого не видеть, но куда бы она ни направилась, к Луизетте ли, на постоялый двор или даже обратно в П., в гостиницу – всюду пришлось бы с кем-нибудь разговаривать: у нее было здесь слишком много знакомых. В конце концов лучше всего пойти к Жозефу; его нет дома, он уехал с заводскими рабочими на митинг, а Мирейль будет, как всегда, молчать.
Мирейль ничего не сказала, она даже не выразила удивления, увидев, что Анна-Мария возвратилась одна, и ни о чем ее не спросила. Увидев Анну-Марию, она только широко улыбнулась глазами, губами. Ребенок спал.
– Устала я, – сказала Анна-Мария.
И хотя еще только смеркалось, Мирейль проводила ее наверх, в маленькую спаленку с очень высокой кроватью.
– Спокойной ночи! – сказала Мирейль и тихонько закрыла дверь.
Анна-Мария мгновенно заснула.
Она спала глубоким сном, когда в дверь постучали. Стучали громко, бесцеремонно.
– Да! – крикнула Анна-Мария и с бьющимся сердцем села в постели, предчувствуя беду.
Чудесное солнце вставало за окном, лучи его ударили прямо в глаза Анне-Марии. Жозеф ворвался в комнату, будто взломал дверь. Он был бледен как мертвец.
– Барышня! – закричал он. – Они его убили!
– Кого? – крикнула Анна-Мария.
– Полковника!
– Как! – закричала Анна-Мария. – Убили Жако?
– Да, да, да… – крикнул Жозеф.
– Погоди, я оденусь, – сказала Анна-Мария, – она стала вдруг совершенно спокойной. – Подожди внизу.
Через пять минут она спустилась. Внизу уже были Луизетта – она дрожала так, что у нее стучали зубы, – ее жених и его русский друг… Мирейль с ребенком на коленях сидела в уголке. В комнату бочком входило солнце, ослепительное, прекрасно отдохнувшее солнце, каким оно бывает только при восходе. «Ма-ма-ма-ма…» – лепетал младенец на коленях Мирейль.
Они вернулись из Кремая. Праздник длился всю ночь, они танцевали, танцевали… Но заря еще не занялась, когда они сели в грузовичок. Некоторые парни и девушки уже вернулись домой, другие еще остались в Кремае. За руль сел жених Луизетты, и они проехали пять-шесть километров, когда он сказал: «Что-то лежит там на дороге…» Он затормозил, парни спрыгнули на землю и пошли посмотреть, что там такое; поперек дороги, на самом виду, лежало тело полковника Вуарона с пулей в затылке. Машину его, совершенно целую, отвели в канаву… Полковник уехал из Кремая один, сразу же после митинга, он торопился в П., где ему предстояло провести вечером в кино второй митинг. Тело полковника положили в грузовик и отвезли в П., в больницу: а вдруг они ошиблись, вдруг полковник еще жив!.. Но полковник был мертв. Тогда их вызвали в полицию дать показания. Прямо из П. они поехали предупредить Анну-Марию.
Катафалк стоял на вокзале, в воздвигнутой там часовне-шатре из черных полотнищ; вокруг катафалка горели свечи. Весь город П., все окрестные селения прошли перед гробом, накрытым трехцветным знаменем; почетный караул день и ночь стоял у гроба, по двое – в головах и в ногах… Цветы, букеты, венки с красными и трехцветными лентами образовали вокруг гроба огромную благоухающую клумбу. Поезда свистели, гудели, пыхтели, выпускали пары, набирали скорость… Пассажиры удивленно смотрели на длинную вереницу людей, которые медленно входили в одну дверь вокзала и выходили в другую… Они спрашивали, что здесь происходит; некоторые пассажиры шли поклониться гробу, одни из сочувствия, другие из любопытства; они смотрели на людей, сидевших вдоль стен на скамейках, справа и слева от гроба, и думали: «Семья…» И действительно, то была семья: родители Робера Бувэна, Жозеф и Мирейль, Клавель и многие другие, – все, кто не хотел ни на минуту покинуть тело на этом вокзале, где, возможно, бродили убийцы, неузнанные, безнаказанные… Пассажиры смотрели на гроб, на семью, на подушку с военными орденами, на букеты и венки – целое поле цветов… Они торопились и быстро уходили.
Анна-Мария телеграфировала матери Жако. Ответ пришел только через два дня. Мать Жако лежала в параличе и не могла приехать, вместо нее должен был прибыть какой-то родственник.
Все хлопоты, связанные со вскрытием и прочими формальностями, Анна-Мария разделила с Клавелем. Все расходы она взяла на себя; ими хотели заняться ФТП района, но Анна-Мария не допустила этого: драгоценности Женни могли оплатить похороны того, кто создал эти драгоценности.
Родственник, прибывший наконец, чтобы сопровождать тело в Париж, доводился Жако троюродным братом, и, однако, у него с покойным было фамильное сходство: те же широкие сутулые плечи, те же голубые глаза. Он горячо поблагодарил Анну-Марию за все, что она сделала, и было совершенно очевидно, что он ровно ничего не понимал: ни мотивов убийства, ни этой женщины, которой он не мог отвести определенного места в жизни Жако; ничего не понимал ни в том волнении, которое охватило весь этот край, ни в катафалке с горящими вокруг свечами, ни в веренице людей… Он был пчеловодом из провинции Од, и его ничто в жизни не занимало, кроме меда и пчел.
Анна-Мария вернулась в Париж.
XXXV
Лестница. Облупившаяся, желто-фисташковая квартира. Анна-Мария уехала отсюда совсем недавно, потому что скучала, потому что не знала, куда себя девать… Смешно. Так в тридцать лет считаешь себя старом, потому что не знаешь, что тебя ждет в сорок, а в сорок не знаешь, что тебя ждет в пятьдесят… Она тосковала, скажите пожалуйста… Даже смешно. То, что начнется сейчас…
Но не было ли то, что она называла «тоской», на самом деле предчувствием? Чепуха, ничего этого не существует… Какое же это предчувствие, когда у тебя самая настоящая уверенность, уверенность в надвигающейся беде; она чувствовала ее, как чувствуют сырость окутанного туманом болота, где притаились во тьме враги – звери или люди… Стоит ли после того, как несчастье уже стряслось, говорить, что ты его предчувствовала? Не понять вовремя то, что чувствуешь? Да нет, она просто не желала понять – из страха перед реальной опасностью, из отвращения к этой опасности, настолько гнусной, что не хотелось признавать ее существование. Вот когда она начнет скучать… Нет, теперь она будет страдать! А ведь она была такой благоразумной, ведь она сделала все, что могла, чтобы наладить хорошие отношения с жизнью. Она перепробовала все испытанные рецепты: завела любовника, работала, пыталась принимать к сердцу счастье и несчастье людей… Должно быть, эти рецепты хороши, правильны, действенны, когда любишь своего любовника, любишь работу, любишь человечество…
Она не любила Селестена… Работа? Эх, стоит ли говорить! Она казалась себе одноногой калекой, решившей стать велогонщиком. Ей были известны границы ее возможностей, она навсегда останется только рабочей лошадкой. Давать людям счастье насильно, когда они этого не хотят, как детям дают насильно рыбий жир, потому что он им полезен? Она не была уверена, что нужно идти против их желания, и неоткуда поэтому было взяться энтузиазму… Но главное то, что вокруг нее – ни души! Одиночество до самого горизонта. А между тем она сделала все, чтобы вырваться из этой пустыни… Два года протекло с той ночи в гостинице против вокзала, где, ломая руки, она металась в темной комнате, по которой шарили фары джипов. За эти два года ей прибавилось два года, вот и все. Но зато у нее отняли ее единственного, ее великолепного друга. И как отняли! Ах, странный мир оказался опаснее странной войны!
Жако вышел цел и невредим из всех опасностей, кроме мира.
Анна-Мария дотащилась до спальни. Ей казалось, что никогда еще она не испытывала подобной усталости, и это, вероятно, так и было, никогда не была она и такой старой. Она сняла платье, грязное, измятое – уезжая всего на три-четыре дня, она не взяла ничего с собой, – и пошла в ванную. Приходилось все время напрягать память, чтобы не забыть, что нужно делать: зажечь газ, пустить воду, проверить температуру воды… Пока ванна наполнялась, Анна-Мария подобрала письма, через которые она перешагнула, входя в квартиру (как всегда, в ее отсутствие их просовывали под дверь). Ей и в голову не пришло, что письмо с парижским почтовым штемпелем могло быть с Островов, но, распечатав его, она увидела почерк Лилетты. Наверное, опять требует денег. Она посмотрела на дату: июль. А сейчас конец сентября.
Мама, – писала Лилетта, – уже неделя, как умер папа. Билл сказал, что надо телеграфировать тебе, но я подумала – только лишний расход, не так важно, узнаешь ты о его смерти немного раньше или немного позже. Жорж говорит, что теперь ты вызовешь его к себе, в Париж, но, знаешь, он – дрянной мальчишка, и я сказала, что не пущу его. Он спросил, как я это сделаю, а я ответила – очень просто: не говоря уже о том, что он несовершеннолетний, а несовершеннолетних берут на борт только по чьей-нибудь рекомендации, – я не дам ему денег, а так как деньги приходят на мое имя, то для меня все это проще простого. Он мне стал грозить, но я не боюсь, и ты можешь не беспокоиться, он не явится донимать тебя. Итак, посылай деньги по-прежнему.
Целую тебя Лилетта
Вода текла медленно-медленно… Анна-Мария хотела куда-то бежать, взять билет, сесть на пароход, быть уже на Островах, держать Жоржа в объятиях, защитить его, иметь его подле себя… Она листала телефонную книжку, чтобы позвонить в агентство Кука, позвонить Картье, ведь нужно будет продать кое-какие драгоценности, чтобы оплатить похороны Жако и поездку на Острова. Действителен ли еще ее паспорт?.. Она сидела в ванне, когда раздался телефонный звонок: кто бы это мог быть? Она вылезла из ванны, не вытершись, накинула на себя пеньюар и, оставляя на паркете мокрые следы и тихонько ругаясь, сняла трубку… Звонила Колетта. Как назвать этот ее дар появляться в самый неподходящий момент? Предвидением, предчувствием, передачей мыслей на расстоянии, телепатией или как-то еще?
– Я так рада, что вы вернулись, Анна-Мария, – говорила Колетта. – У меня все не клеится, совершенно не клеится!.. Такая тоска!.. Все те же неприятности, невыносимо, мне необходимо вас повидать… Нет, я бы хотела повидаться с вами немедленно… Но я приду и тут же уйду. Прошу вас, Анна-Мария, не будьте такой чудовищной эгоисткой! Ну что ж! Тем хуже. Тем хуже для вас… Да, конечно, до другого раза…
Она повесила трубку.
Анна-Мария снова погрузилась в ванну. Она дрожала от холода. Колетта права: она эгоистка… Горячая вода ласкала ее, успокаивала взбудораженные нервы… Не успела она выйти из ванны, все в том же белом монашеском пеньюаре, как снова зазвонил телефон: мадам де Фонтероль.
– Ив написал мне… Какое страшное несчастье! Но неужели это правда? Кто мог это сделать? Ив очень лаконичен… Я хотела бы повидать вас, дорогое дитя мое, это, конечно, страшный удар для вас… Он был достоин всяческого уважения…
Мадам де Фонтероль была взволнована, ей хотелось поскорее повидать Анну-Марию. И Анна-Мария пообещала – только для того, чтобы отделаться от нее. Нехорошо с ее стороны, но ей надоело без конца придумывать предлоги… Телефон звонил еще неоднократно: Мальчик-с-Пальчик добивался сведений, необходимых ему как журналисту. Нет ли у нее интересных фотографий? Нет? Но она, несомненно, могла бы сообщить неизвестные здесь никому подробности… Не сегодня, нет, не сегодня… Да, позвоните завтра…
Но откуда все эти люди знают, что она вернулась? Словно чайки, летящие вслед за пароходом… Позвонила и мадам Дуайен; удрученная, со слезами в голосе, она говорила обо всем разом: чудовищный случай, если правда то, что рассказывают в Париже… Сперва твердили о скоропостижной смерти, но передававшиеся шепотком слухи об убийстве потом подтвердились… Все были потрясены; стало быть, даже главные магистрали Франции становятся опасными; поговаривали также о политических мотивах убийства; господи, неужели это возможно, у кого же поднялась рука на такого человека, как полковник Вуарон, любимого и уважаемого всеми, даже своими политическими врагами? Конечно, политическая борьба допустима, но в каких-то пределах, преходя их, ты оказываешься просто в стане убийц… Если это в самом деле, как утверждают, политическое убийство, тогда что же с нами будет? Куда катится Франция? Нет, нет, она отказывается этому верить, ведь это значит – война, гражданская война, это – враг в самой стране, это конец всему!..
Волнение мадам Дуайен не трогало Анну-Марию, она слушала ее, ожидая, когда же та кончит… Ничего она не знает и не понимает, эта мадам Дуайен… Анне-Марии самой было известно немногое, ее окутывал сплошной туман, но по сравнению со всеми этими людьми она чувствовала себя чуть ли не ясновидящей!..
– Я с трудом дозвонился к вам, – раздался в трубке мужской голос, после того как Анна-Мария кончила разговор с мадам Дуайен или, вернее, когда та кончила свой монолог… – Вы узнаете меня? Это говорит Роллан, друг Жако… Я еду в П.
– Да, я узнала вас… Вам только что сообщили? Я хотела бы повидаться с вами, – пожалуй, это единственное, чего бы мне хотелось… я уезжаю, да, на Острова… Умер мой муж, и я еду к детям, к сыну… убит не только Жако… С ним вместе убито слишком многое… На что же вы надеетесь? Я больше не надеюсь ни на что. Зачем мне возвращаться, для кого?.. Я ничем не могу помочь… Зачем вы говорите это, Роллан?
Голос Роллана слышался очень ясно, это иногда происходит и с телефоном и с радио – вдруг исчезают все шумы, и голос становится близким, человечным.
– Анна-Мария, – говорил он, – вы не бросите Женни, Рауля, Жако… Убийца один и тот же… Вы не покинете меня… Это беспрерывная цепь, смерть не может оборвать ее. Это династия, которая стоит всех королевских дворов мира! Король умер, да здравствует король! Анна-Мария, пришел ваш черед, вы не бросите то, что вам доверили. Вы вернетесь, я жду вас. Анна-Мария?! Вы слушаете? Анна-Мария! Анна-Мария!.. Я жду вас!
Она положила трубку. Сидя в кресле, она рыдала впервые после смерти Жако, она исходила слезами… Звонят. Нет, она не откроет! Анна-Мария исходила слезами, как исходят кровью. Она открыла дверь, не зажигая света в прихожей: в прямоугольнике дверей, против света, вырисовывалась высокая фигура Селестена.
– Минутку, – сказала Анна-Мария, – я оденусь.
Селестен не успел сказать «не надо…», она уже исчезла. Одеваясь, она слышала, как он кружил по загроможденной мебелью гостиной, двигал стульями. Было незаметно, что она плакала, но румяна не могли скрыть ее бледность. Она взяла в шкафу первое попавшееся платье; она так похудела, что оно висело на ней.
– Вы в трауре? – спросил Селестен, едва она вошла в гостиную.
– Почему? Потому что я в черном? Я в трауре, но не потому, что я в черном. Вам не нравится, что я в трауре?
– Что случилось? Почему ты так говоришь со мной? – Селестен взмахнул руками, словно крыльями.
– Потому что я знаю, отчего вы спрашиваете меня, не в трауре ли я! Вам известно, что Жако убит!
– Да, известно… Да… Ну и что?
– И это все, что вы можете сказать? Вас интересует только: спала я с Жако или нет? Вы даже не падший ангел, вы – лишь статуя его, его изображение, вы весь какой-то неживой!..
– Как вы меня ненавидите… – Селестен свернул свои крылья и сел в углу, у камина. – Анна-Мария, я пришел просить вас сделать из меня все, что вам будет угодно: мужа, любовника, слугу… А вижу, вы хотите лишь одного – никогда больше не видеть меня…
Анна-Мария не проронила ни слова. Селестен, Лоран, Ив, Лебо, Феликс… Сеть, подпольная организация. Труп Жако… Селестен не ошибался: ей ничего не надо – лишь бы никогда больше не видеть его. Никогда больше не видеть этой банды. У баррикад только две стороны, и, возможно, баррикады снова появятся. Но с баррикадами или без них, нужна еще одна победа, и Анне-Марии хотелось дожить до нее: так во время оккупации она боялась одного – умереть прежде, чем уйдут немцы. Новая победа, возможно, тоже окажется ненастоящей, и Анне-Марии опять захочется дожить до новой, уже настоящей, и так еще раз и еще раз. Ибо никогда ничто не завоевывается ни насовсем, ни навсегда.
– Мы – враги, Селестен, – сказала она, – потому что погиб Жако, и это ваша вина, вина ваших людей, даже если лично вы не причастны к его гибели… Я уезжаю. Мне хотелось бы поцеловать вас на прощанье, но я не могу, это выше моих сил.
Селестен плакал, прислонившись головой к мраморному камину.
– Все это ничего не значит, – говорил он, – ровно ничего… Ты не любишь меня… Ты не любишь меня…
– Идите, делайте свое дело. – Анна-Мария, возможно, даже не заметила, что он плакал. – Вы – воин, идите воевать…
Селестен встал.
– Прощай, Анна-Мария, прощай, любимая!
Стоя в дверях, он как бы обнимал ее, обнимал издали.
– Жюльетта, ты…
Он вышел. Анна-Мария услышала, как за ним тихонько закрылась дверь, и принялась лихорадочно перелистывать телефонную книгу: она уже готовилась к отъезду.
И к возвращению.
Париж, декабрь 1946 г.








