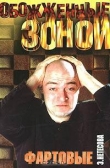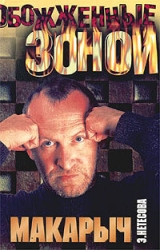
Текст книги "Макарыч"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
Гришка тем временем картошку печеную за обе щеки уплетал. На Макарыча с собачьей верностью смотрел.
– Што, душа нехрищеная, наскучилси?
Медведь мотнул лобастой башкой. Еще картохи попросил.
– Марья, похарчи ево.
– Боюсь я, отец.
– Ведмедя зазря пужаисси. Ен дружок мой. Ну, молодь, што дале удумали?
– Учиться поедем, – ответила Зойка.
– Што ж, Бог с вами. Хочь там друг за дружку держитесь, – попросил лесник.
Через неделю Зоя и Николай уехали.
– Ишь, про деда не поспрашал, не наведал, – сетовал лесник.
– Немудрено. Горькое долго помнится, – вступилась Марья.
– Дед тому не вина. Наведал бы – не убыло б. Злой растеть, оно негоже. На всех серчать не след.
– Израстется – одумается.
– Припоздает. Акимыч не зазря сам про смертушку поминает, знать, кончину чуит, – взгрустнул лесник.
– Кольке Акимыч чужой. Сам говоришь – не вспомнил. Знать, судьба посмеялась. Чужих берег, своего не углядел. Нынче за то расплачивается…
– Што с ево спросу! Ить в лежку судьбина – сука кинула. Ни она, ни люд жалости к ему не поимели. От могилы-то и пововсе не дождет тепла. Так и уйдет к Господу бедолагой.
– Все потому, что и с бородой дитем остался, вздохнула Марья.
Макарыч дрогнул плечами. Себя вспомнил. В ту лихую годину, человеческий язык забыв, шел он в зимовье с неудачной охоты. Лето стояло. Тайга под солнцем кости парила. Пахла духмянно, сыто. У Макарыча в животе черти в лапту играли. Пустое ружье руки еле держали. И только к порогу подоспел, слышит – через завалы кто-то ломится к избе. Глянул туда, и в глазах помутнело.
Медведь шел к Макарычу. Зло рявкнул, на дыбки вскакивал, торопился. Немного не дойдя, приостановился, принюхался. В желтых глазах боль и злость. У Макарыча колени лихую дробь начали выстукивать. Ноги к крыльцу приросли. С испугу не слушались. Зверь все ближе подходил. Лесник кой-как за дверь упрятался. Медведь начал когтями порог драть.
Макарыч сначала Бога призывал, потом, крестясь, глянул из окна. Медведь сидел на крыльце, как человек, и обиженно ревел, выставив перед собой лапу. Из нее кровь струилась. Лесник присмотрелся. Сучок в лапе увидел. Он-то и досаждал зверю.
«Не выйди – ен в избу вломитца, выглянь – угрохаит», – подумал лесник. Но все же высунулся из-за двери. Медведь к нему подался. Лапу показывал. Вспотел Макарыч до самых пят. Покрепче сучок ухватил. Выдернул и мигом в дверь, чтоб плюху в благодарность не получить. Коротко рявкнув, сел зверь перед окном, долго рану зализывал. А на другой день у избы колоду дикого меда Макарыч нашел. От себя зверь оторвал. Поделился. А вот люди… И больно стало.
Сшил он однажды знакомому мужику торбаза [1]1
Торбаза — обувь из оленьих шкур.
[Закрыть]. За них тот посулил порохом поделиться. Лесник в придачу отдал рукавицы камусные [2]2
К а м у с – шкура с голени оленя.
[Закрыть]. Когда за порохом пришел, тот цепного кобеля спустил. Да еще вслед хохотал. Потом Макарыч отквитался, бока ему намял…
А тот – лысый, при сельсовете начальник – выпросил у лесника пять шкур медвежьих. Говорил, для детишек сиротских, дескать. Сам сарай шкурами обил, чтоб куры не померзли. И тоже ни за понюшку. Даже на постой не позвал ни разу Куска хлеба не предложил.
Макарыч от таких думок осерчал на себя: «Вот и силы имеютца, да спробуй приложи. Каталажкой грозятца. Чево уж Акимыча судим».
– Что-то мы про него вспомнили, может, худо старому? – обронила Марья.
– Старое дерево живучее. Ево согнуть мудре но.
– Я вечор яйца во сне видела.
– Каму к нам являтца?
– Может, Потапов-лиходей.
– Не-е-е. Спужаитца.
– Тогда и я не знаю.
А к вечеру в избу привидением Акимыч вошел. На образа перекрестился.
– Легок на помине, – обрадовалась Марья.
– Все не целованай? – подошел к старику Макарыч.
– Не стерпел. Внучка решился наведать. Слыхал, на большой земле война началась. Как ба Колю не забрали.
– В свет уехал, в науку. Припоздал ты малость. Аль баба какая в дороге приветила?
– Кому што, тебе жа про баб побалагурить – медом не потчуй. Ох и кобель ты, Макарыч, прости Господи.
– Какой же ноне с мине кобель? Живу по писанию, с бабой. Ты жа хошь мышу какую обогрел ба.
– Язык твой грязнай. Слухать срамно. Я с болячкой к тебе, а ты, што дите, тешишься.
– Оженить тя хочу. Пора ужо. Доспел до мужика-то.
– Што б те в бельма козел плюнул.
– Я ему плюну! За што ты мине козла сулишь?
– Козлы ноне лучче баб. Те норовят даже эту животину в упрямстве обскакать. Намедни мужики около сельпо собрались. Об войне толковали. Без шуму. Чья-то баба тут подоспела. Свово за рукав потянула. Бездельным лаяла. Помыслить только, скандал учинила на весь свет. Уволокла таки. Мужиков не усовестилась. Чернословьем изошлась.
– Мы те не таку сыщем. Ладную, смирную.
– Холера ты песья. Я уж гроб сготовил. На чердаке сохнет.
– Пошто загодя?
– Запас карман не сушит. Впрок сладил. Потом со мной не морочиться.
– Ты ить и не жил. Сладостев, утех не изведал. Без их помирать досадно.
– Век мой отошел. Ништо не в радость. Внучок разве, да и то оплошал.
– Свидитесь, даст Бог.
– Какой он нынче?
– Ого! Мужик толковай, скажу тибе. И уже не промах. В девках не засидитца.
– В родителя удался, бесенок.
– То не грех.
– Ежели ко времени, то по-путевому.
– Ишь че схотел, – рассмеялся Макарыч.
– Ты ево не балуй.
– То не от мине. Што внутрях вложено, то и сбудитца.
– Не про то я толкую. Коль ноне бабы в науке завелись, могет сбаловаться. Ты б втолковал ему, што баба, ровно крест нательный, единай должна быть.
– Ты што! Ишо мине то во не доставало, штоб парню мозги марать. Нехай ен единым у бабы ста– нить. А она для ево – как похочитца. Ему в подоле не носить.
– Поспеит ли ту науку одолеть? Не то, може, на войну затребуют. В селе всех мужиков подчистили. Детных взяли. Пожилых. Сказывают, силен ерманец. Люду много губит. Заместо Кольки хотел попроситься. Ружье умею держать. Глаза не подводят. Нехай он живет. Мне нынче все одно. Не знаю вот, куды объявиться.
– Не срамись. Тибе на войну не загребуть. Кому такой лешак сдалси? Поди, ужо дохлая сука не
обвернетца на тибе. Там ить мужики надобны дюжин.
– От беда-то мне!
– Ништо. Верно, заваруха та недолгая. Не боись. От страху давай к мине перебирайси. Станем вдвух, што сычи. Кольку дожидатца. Марья – третья.
– Ужо и собралси было. Да надысь добрый человек собаку подарил. Щенок покудова. Молошна. Сиську резиновую пользуит. Подрастет – дружком станит. Глядишь, в своем углу довекую.
– А ты со шшенком к мине.
– По гляну…
– Воля твоя…
– Ты ба мне што-нибудь Колькино дал. В память.
Макарыч посмотрел на старика, понятливо кивнул, молча отдал рубаху парня. Акимыч бережно свернул ее. За пазуху упрятал.
– Рассказал бы про нево, – попросил Макарыча.
– Со мной ен недолго был нынче. Все в тайге, с теми. С геолухами. Благодарствовали за ево. Несмотря, што молодше их. Смекалистай. Рыжий гам был. Сказывал, Колька от смертушки уберег. Всю канпанию.
Акимыч слушал с закрытыми глазами: во на какой внук-то! Людям в радость.
Макарыч знал, каково сейчас Акимычу. И все же говорил. Хвастался Колькой, словно кровным сыном своим. Еще бы! Нелегко он дался. Рос настырным. Боялся Макарыч за него. Чуть что, малец, обидевшись, замыкался в себе, как лиса в засаде. Подолгу не разговаривал. Однажды даже сбежать грозился. А всего лишь поругал и раздетым из избы не пускал. Об этом Макарыч никогда не расскажет Акимычу. Не сознается, как в первый же день, жарко натопив избу, всю ночь отмывал мальчишку, вычесывал его волосы, стирал бельишко. Как ломило спину, руки от постирушек. Их, как назло, не убывало. Сам-то ладно. Кольке каждую неделю чистую простынь стелил. Теперь это прошло. Вырос Колька. Акимыч, конечно, изболелся по нем. Но Макарычу он дороже, родной стал. Помнит, как за Марьей доглядывал, чтоб ненароком али с умыслом Кольку не забидела. Один раз приметил, как варенье малиновое, что от простуды ей дал, мальчишке скормила. Макарычу солгала, будто с чаем испила. А у Кольки-то, проглядела, все губы в малине вымазаны. И глаза хитрющие, что у котенка шкодливого. Знала баба слабину малую. Любил Колька малину. Варенье из нее ложками ел. Однажды, проснувшись ночью, увидел, как она из теплого платка мальчишке рубашку шила. Старалась лакомый кусок от себя отдать.
И стыдно стало леснику за свое неверие. Ругал себя по-нехорошему. Вот и сейчас она Кольке обнову вяжет. Узор – не оторвешь глаз. Придет парень – в новое враз обрядит. Порадует.
Макарыч посмотрел на жену. Три года… На лице Марьи обозначились новые морщинки. Признак прибавившихся забот и тревог. Вон и голова побелела. Не от добра такое. Никогда не слышал он от Марьи жалоб, сожалений о прожитом. Смирно несет баба свой крест.
…А засобирался Акимыч на другой день.
— Што мало гостюишь? Куды торописси? Аль не поспеишь в свою нору, чево бегишь, —
обиделся н а него Макарыч.
– Поплетусь, ужо пора.
– Погоди, на Сером отвезу.
– Ни к чему ноги баловать. Едучи – тело помирает.
– Мине в село заодно надоть.
– Не придумляй. Всю жисть пехом ходил. Дойду и нынче. Воздушку глотну.
– Ну, смотри.
Прощались молча. Неловко ткнулись носами трижды в небритые заросшие щеки. Вздохнули каждый о своем. Акимыч низко поклонился Марье и, держась за пазуху, вышел из избы.
И снова медленным осенним дождем поплелось время. Оно, как больное, то совсем останавливалось, то по кочкам бежало.
И вот к Макарычу в зимовье снова гость заявился. Вежливо спросился в дверь. Сапоги обтер.
– Привет, старик, – поздоровался непривычно.
– Здравия тибе, человече, – ответил лесник. Пришлый сказал, откуда и зачем пожаловал.
Имени не назвал. Должность его Макарыч запамятовал. Понял, для войны сбирает деньги и одежду теплую. Сказал, что теперь все фронту помогают. Лесник открыл сундук. Половину Марьиного вязанья отдал. Носки, рубахи, Кольке сготовленные. Насчет денег руками развел: «Излишков, мол, не бывает. Сына учу. Мяса, рыбы могу дать». Тот не отказался. Все, что брал, в книжечку записывал. В ней Макарыч потом крестик поставил, расписался. Так приезжий велел. Понял лесник, – война затянется.
Вскоре и почтарь пожаловал. От Кольки весточку привез.
Макарыч тогда пожалел, что в грамоте не разумеет. Взял то письмо, повертел в руках. Попросил прочесть. Почтарь разорвал конверт. Лесник прищурил глаза, приготовился слушать. Поначалу головой кивал. Соглашался. Молодец, Колька! Все-то ладно у него сложилось. В весну домой обещаются отпустить. С Зойкой. Та тоже учится уже. Но вот лесник нахмурился: «Не бранись, отец, я с ребятами хочу на фронт пойти добровольцем. Согласия твоего прошу. Техникум обождет. Вернусь – закончу. Ты за меня не бойся. Ну, а если и приключится что – не ругай. У нас половина ребят заявления в военкомат написали. Жду, что скажешь. Поклон вам от меня и Зои. Ваш сын Николай».
– Не ругай, ежели што? Каво мине тады бранить! Сибе, дурака старова, за дозволение? Удумал тож! На хронт! Черт сопливай! Мужиком не исделалси, а туды ж под пули! Я те дам хронт! Ососок неумытай! Нешто жисть опостылила? Я те пропишу в тот, куды ты навострился. Ишь, как подъехал! Науку порешил бросить. За зря, што ль, две зимы штаны в ей тер? – ругался лесник. И, повернувшись к почтарю, попросил: – Отпиши Кольке. Я ить не ученай.
Тот согласился.
«За што ты мине огорчаишь? Неужто в твоей голове ладным думкам места не сыскалось? Зачем тибе хронт? Там мужики надобны, а ни дети неразумный. Сгинишь ни за што. На каво мине кинишь? Аль забижал тибе крепко, раз про мине позабыл? Ты у нас едина радость и утеха. Остынь, одумайся, благословить на войну не могу. Посамовол ьни чаишь – дело твое, забыть такова не смогу», – диктовал лесник.
…Ночь показалась вечной. Словно утро никогда не просыпалось над избой лесника. Он знал: Колька не послушается. От задумки не отступит.
Синие, красные, желтые круги закачались перед глазами. В груди закололо. Будто кто шило воткнул. Во рту пересохло. А боль все сильнее. Словно злые мозолистые руки душу давили. Вздохнуть бы хоть разок. Но горло воздух не пропускает. «Верно, тулово ужо таво… сдохло», – подумал лесник. От этого липкий пот прошиб. А круги в глазах искрами замельтешили. Макарыч пытался позвать Марью. Но голоса нет. В ушах звон. Будто церковные колокола заутреннюю отзванивают. Да нет. Это береза. Та. Над обрывом. Цепями звенит. К себе кличет. А может, каторжники покойные к себе зовут. А звон растет. От него голова вспухла. Что тесто в горшке. «По нем гож круги. Вот они, вот. Штой-то с ним? То не круги. То пожар. Все горит. И Колька… Как ен там очутилси?»
– Сынок! Колюшка! – просипел Макарыч.
Теряя сознание, он сгреб огрубелыми руками рубашку, саваном сдавившую грудь.
Марья вскочила испуганно.
– Отец, что с тобой?
К груди прильнула. Бьется сердце бабье. Ошалелой птицей наружу просится.
– Отец! Очнись, миленький.
А руки дрожали, плакали руки. В бессильные кулаки сжимались. Вот так бы свое сердце вставила. Да руки ослабли.
Марья к ведру метнулась. В нем вода на донышке. И та теплая, как слезы.
– За что ты меня мучаешь? – Кинулась к иконе. Да тут же про настой вспомнила. Нагнулась, а разогнуться не смогла. Коромыслом к мужу протащилась: – Испей, отец.
А зубы у него стиснуты накрепко. Еле разжав, настой влила. Что б не отдала, лишь глаза его увидеть открытые. Словечка дождаться. И воет баба у мужней постели. Жизнь ей не мила.
Очнулся лесник не скоро. Будто после болезни тяжкой. Едва глаза открыл.
Марья с горя извелась.
– Ну што, спужалась? – тихо спросил Макарыч. И погладил руку жены. Щекой к ней прижался: – Горемыка моя невенчанная. Мине за грехи воздаетца. Тибе-то за што?
– Будет, отец. На что душу свою рвешь? Разве мне с тобой худо? Ведь что я без тебя…
– Бог мине тибе послал, Марьюшка. Зазря сибе не хай.
– Успокойся, отец.
– Да ноне не спокоишься. Колька-то…
– Может, обойдется.
– Настырнай, козел. Тот от свово не отступит.
– Не всех же убивают. Глядишь, живехонек останется, – смахнула баба непрошенные слезы.
– Для таво я ево растил? Эх, видать, прогневил я Бога.
– А я что? Никому зла не сделала. А жизнь, как сука. Ни разу не радовала. Нет-нет да и подсолит.
– Не ропщи, мать. Знать, дала иде оплошку.
– Колька-то при чем? За что с него спрос?
– За дурь ево, – отвернулся Макарыч.
…Марья уже собрала было посылку Кольке. Ве щи теплые переслать решила. А тут опять почт а рь нагрянул.
– Письмо тебе, Макарыч! От сына.
– А ну-ко! Читай!
«Отец, уж было совсем нас на фронт отправи ли , весь курс хотели под Москву послать. Да оттуда приказ пришел – отставить. Говорят, мы тут нужнее. Думали сами сбежать. Не дали. Обещают программу ускорить. Техникум закончу раньше. Летом на практику отправят. Обещают на участок Потапова послать. Так что скоро увидимся. Привет вам от Зои».
Макарыч, не веря услышанному, заставил почтаря прочесть письмо еще раз. Хмурое лицо его засветилось улыбкой.
– Ну, утешил ты мине нонче. Мать, потчуй гостя.
Мать торопко накрывала на стол.
– Слава тибе, Господи, – перекрестился лесник.
На душе у Макарыча стало спокойнее. По ночам его не тревожили кошмары. Редкая улыбка снова появлялась на лице. Теперь он охотнее на зв еря ходил. Пушнину промышлял. Сдавал ее для фронта. Возил он мясо медвежье и оленье. Знал: гак делают нынче. Однажды вернувшись, рассказал жене, как начальник, тот, кто принимает привезенное, похвалил его. Сказал, что «много еро п ланов фронту дал». Больше всех.
– Я ему и сказываю, мол, не суком деланай. Я, чай, охотник покуда. Ну, тот сулил мине дать чево-то. Мядаль. Как хронтовику. За подмогу, – улыбался лесник.
– Ты б спросил его, скоро ль она закончится.
– Неловко мине. Там бабы про то пытають. В их мужики воюють. Детва безотцовская растет. Надысь, слышу в одному дворе плач. Бабы воют. Мужики их погибли. Бумагу про его получили. Самому неловко стало. Навроде как виноват в чем. Как им нынче жить-то? Ребят полон дом, а кормильца нету.
– Слыхала, многие уже без мужиков остались.
– Да, вдовым легко ли. И когда же она, проклятущая, покончитца? Сколь сирот ишо понаоставляит…
Макарыч долго, задумчиво курил. В селе только и разговоров о войне. Не сказал Марье, как однажды мальчонка ухватил его за руку. Белоголовый. Глазищи большие. И спросил:
– Дед, а мой папка скоро придет?
– Не знаю, сердешнай.
– Вот и мамка не знает.
– Верно, скоро.
– Отвези меня к нему.
– На што?
– Надо так. Я к нему хочу.
– Погоди, подрасти маленько. Небось, мамки дома ты тожа нужон.
– Не-е-ет. Сказывает, ртов много, как прокормлю? И сиротами называет. А что это такое – не говорит.
– Сироты?
– Ну да.
Макарыч засмеялся. Не нашелся враз. Мальчишка ждал. Он ни за что не поверил бы в гибель отца. Да и как сказать ему такое? Язык не поворачивался.
– Ну что это? – спросил пацан.
– Ето те, в каво отцы на хронти.
– Врешь ты, дед, – не поверил мальчишка и, не сказав больше ничего, убежал от Макарыча.
Леснику долго тот мальчишка виделся. Хотел узнать, чей он. Да таких по селу много.
В зимовье лесник к весне порядок навел. Сына поджидал. Марья ночами над вязаньем корпела. Зойке материал на кофту взяла. Может, невесткой будет. К приезду заранее готовилась. А пришли они неожиданно. В самую ночь.
Зойка, правда, отговаривалась. Еле упросил ее Колька поехать вместе. Но, согласившись, не медлила. Радовалась предстоящей встрече не меньше Кольки.
Макарыч сразу шаги заслышал. Сна как не бывало.
– Встать человек пять, остальные сидите! – пошутил Колька, осветив избу фонарем.
– Задуй ты енту холеру, – щурился Макарыч, ища свечу.
Зойка подошла сзади, закрыла ему глаза руками.
– Угадай, кто? – потребовала она, едва сдерживая смех.
Макарыч, изловчившись, за ногу ее из-за спины вытащил.
– Ну, коза, покажись, какая ты у нас стала? Марья от радости то смеялась, то плакала.
– Колюшка, приехал, сынок. Не забыл! Макарыч с Колькой оценивающе осмотрели друг друга. Рассмеялись. Обнялись. И лесник, пряча набрякшие глаза, шмыгал носом.
– Ну, как вы здесь? – спросил Колька.
– Мы што, тибе все ждали.
– С Зоей, – вставила Марья.
– Сколь жа нонча те в науке быть осталося?
– Еще зиму.
– Скореича б.
– Так я дома все равно не буду. Все время в тайге. Там каникулы не дадут.
Макарыч будто поперхнулся Колькиным ответом. Сказал обидчиво:
– Попривык, поди, к чужим людям? От дому навовси отбилси. Н авроди и изведывать не станишь.
– Не обижайся, отец. Может, ни на день не разлучимся.
Марья уже обрядила Зойку в теплые носки, кофту. Оглядывала девчонку, попутно расспрашивала о жизни в техникуме. Макарыч с Колькой говорили о своем.
– Акимыч был здеся. Тибе поглянуть хотел. Рубаху я твою ему в память дал. Просил.
Колька молча слушал.
– Наведал ба ты старова. Ить тяжко смотреть на ево. Изболелси весь. С тибе жа не убудить.
Парень прикусил губу, уставился в угол.
– Злитца всяк могеть. То и зверю дано. А вот понять и простить, на то не каждай способнай. Ты– то хочь сумей. Свому простить не грех. Чужому не стоит.
– Какой он мне свой?
– Отца твово, хочь и непутнаво, на свет произвел.
– Хм, это и медведь сумеет. Дурное дело не хитрое.
– Старость почитать надоть.
– Смотря чью.
– Акимычеву.
– Не за что!
– Цыть! Лягушонок! Не об старике те эдакое говорить. Грамотнай шибко. Проживи с ево поначалу.
– Что цыкаешь? Не кошка я. Душа у меня не лежит к старику. Вспомнил, когда вырос. Раньше где был?
– Так ты от всево отрекесси?
– Не от тебя. Акимыча не упоминай.
– За свое старик давно поплатилси.
– Мне эта расплата чуть жизни не стоила. Вспомни. Так ты меня и к Потапову пошлешь мириться.
– Типун на язык, паршивец! За эдакое тибе высечь не грех. Я ни ворог тибе!
– Зачем ругаетесь? Сколько не виделись, а по-хорошему не можете столковаться, – подошла Марья.
– Погоди, мать!
– Зачем ты Колю силуешь?
– Не твово ума забота!
– Охолонь, отец. По-божески разумей. Колюшка наш. Ить што подумает?
– Не лезь, – отстранил лесник жену.
Марья отошла к растерявшейся Зойке, заплакала.
– Зачем ее обидел? Чужого пожалел, свою огорчил. Когда ты таким успел стать?
– Дед пешком дотопал. В ево леты путь не ближнай до нас. Думаитца мине, в злобе и про нас с Марьей эдакое забалаболишь. Мине ить такое заведома чуища.
– Не равняй.
– Наведаишь аль нет?
– Не знаю. Там видно будет. Нам завтра в тайгу с утра.
– Батюшки! – охнула Марья.
Сконфуженно кашлянул Макарыч.
Не так хотелось парню поговорить с приемным отцом своим. Думал, по душам получится. По-мужичьи. Тут же свара затеялась. Хорошо хоть про письмо не вспомнил. Иначе не такой скандал закатил бы. Колька достал пачку папирос. Решил закурить открыто.
– Дай-ко и мине, – потянулся Макарыч и, сделав затяжку, сморщился: – Табак трухлявай. Скусу в ем нет.
– Коля, зачем ты себя губишь? Брось, – из угла попросила Марья.
– По бабьему разумению мужик ни курить, ни пить не должон. А уж о соседке и думать не моги. На кой ляд и жисть эдакая? Таких в пору на икону сажать. Кури, Колька, коль охота имеетца. На том свете не дадут. И баб не слухай, – мирился Макарыч.
Пар ню хотелось поговорить с ним один на один. Посоветоваться. И лесник, словно угадав его мысли, предложил:
– Пошли наружу. Покурим.
Вдвоем они уселись на оплаканное росой бревно. Молчали. Каждый думал о своем. И почему-то Кольке вдруг вспомнилась Полина. Она ждала его возвращения. Даже встречать пришла к самолету. Улыбалась, как ни в чем не бывало. Он сделал вид, что не заметил. Стал Зое помогать из самолета выйти. Когда оглянулся, Польки не было: убежала в город. Весь год на Зойку рысью смотрела. Вроде та ее кровно обидела. А весной, перед отъездом, вдруг решилась, к Кольке подошла.
– Поздравляю, – насильно растянула в улыбке морковные губы.
Они-то и выдали. Задрожали. Растянулись, как у лягушки. Колька тогда промолчал. А Полька, сдерживая завистливые слезы, выдавила:
– Все вы сволочи.
Он не дал ей договорить. Как-то сама по себе рука сорвалась. Пощечина отрезвила обоих. Колька после этого даже здороваться с Полькой перестал. Противно было.
Кольку все больше тянуло к Зое. Отчаянную, ее часто принимали за мальчишку. С девчонками она не дружила. В своей комнате со всеми передралась. Потому нередко ночевала у Кольки. Приходила, теснила к стенке и, отвернувшись к сонному спиной, тут же засыпала. Ребята вскоре привыкли к Зойке. Как-то, не спросившись у нее, перетащили чемодан девчонки в свою комнату, поставили раскладушку и прописали прочно, заверив коменданта, что Зойка – Колькина сестра, а они, мол, друг без дружки не могут.
Зойка убирала в комнате, стирала, гладила, варила на всех. Когда ребята из других комнат спрашивали, удобно ли ей здесь, отвечала всегда одинаково:
– Я так в отряде привыкла.
Зойку любили преподаватели. К Кольке девчонка была придирчива, даже бранила иногда. Знай же, что творится в душе его, не поверила б.
Колька затянулся папиросой. На душе у него спокойно. Из зимовья слышался голос девчонки.
– Ну, дак как ты ноиче мерекаишь? — внезапно спросил Макарыч.
– О чем?
– С Зойкой-то лад?
– Конечно.
– Она при тибе?
– В одной комнате.
– Ты, таво, коль внук объявитца, не мешкай. Нам вези. Подымем. Сами поживите покудова.
– Уху, – ответил парень.
Разве он мог сознаться, что ни разу не взял ее за руку. Какой там внук? А правду скажи, – Макарыч осмеет. Лопухом облает.
– Ты Зойку не забижай. В тайге береги. Ника– во нет у девки. Кругом одна. С тибе за ее спрос пред Богом.
А в избе Марья наставляла, как беречься от хвори. Зойка слушала и не перебивала.
Макарыч с Колькой еще долго курили на бревне.
«Може, напоследок сидим рядком. Доведетца– то вдругорядь не скоро. Обмужаит парень, не до посиделок со мной будит. А хто ж, окромя мине, ево на разум наставит? Други заботы одолеють Кольку-то. Вот ить, черт. Времечко споро ушло. Не приметил, как ей изрос. Хошь и телом в мужика вымахал – разумом дите малое. Ни хитрости, ни нахальства. Тяжко ему жить доведетпа», – думал Макарыч.
Невесело, будто понимая лесника, смотрели с высоты опечаленные звезды. Макарыч вспоминал, как учил мальчишку находить по ним дорогу домой. Нынче эта наука сгодится. Лесник уперся ладонью в бревно, скрипнув спиной, встал.
– Денек-то отменнай взавтре будит. Пошли в избу. Приготовитца надобно.
– Подожди еще, – удержал Колька.
– Пошли, пошли, – зябко передернул плечами лесник.
Чуть свет Марья печь затопила, чугунами загремела. Макарыч, кряхтя, пошел к ульям за медом. Колька побежал к реке сбросить в ней остатки сна. Зоя помогала Марье.
Утро, как и предсказали успокоившиеся ревматические барометры лесника, выдалось румяным. Солнце будто тоже в реке умывалось. Выкатило из-за сопки жирное, довольное, как свежий круг масла.
– Чему оскалилось? Паскуда! Завсегда эдак, кады внутрях обмарано, ты, как в зло, выкатисси в полную морду. Што баба бокастая, – ругался лесник.
Ребята уходили… Солнце еще не успело высушить росу на траве, не высушило оно и горечь лесника. Она свербила злой занозой. Жалила душу.
Макарыч в растерянности смотрел им вслед. Вот Зойка нагнулась. Что-то сорвала. Наверное, ромашку, что вдовицей под пихтой пригорюнилась. Лепестки от слез побледнели. Только в середке желтый уголек тлел. Тайной надеждой горел. На слезы вдовьи эти девки гадают издавна. Любит, не любит – обрывают лепестки. Кому правду скажет цветок, кому нет. С него, слабого, спрос малый. За погибель свою обманом накажет. Поверь ему, а судьба по-другому завернет. На счастье гадать не след. Оно как подарок. Ему в зубы по заглянешь.
А девчонка гадала. Не часто встречалась ромашка в тайге. Среди разноцветья не всякому покажется. Неброской былкой подальше от других запрячется. Никому не скажет об одиночестве. Не пожалуется на скорбь свою. Зато как обрадует видом своим того, кто случайно взгляд на ней задержит! Трепетна – словно девка перед брачной ночью. Одинока – будто покойник в гробу. Зойка оборвала последний лепесток. Стебель к ногам бросила.
«Э-х-х-х, чертовка, и к чему жизнюшку загубила?» – рассердился лесник.
А ребята уже одолевали почерневшее громадное бревно, которое лесник вторую неделю на дрова изводит, и скрылись из виду.
Лесник знал: сейчас они пойдут спокойно. Из– под нахмуренных пихт будут глазеть на них лохматые кустики брусники. Сейчас они в полном цвету. Лишь осенью кровяные ягоды покажут.
Слыхал он одну байку про эти ягоды. Акимыч сказывал, когда брусничный лист собирали от простуды.
– Ты полегше топчись, не губи зазря, – оттолкнул тогда Акимыч лесника.
– Чево скряжисси, мало ль брусники?
– Не в том соль. Особливая ягода эта. Сурьезная. Не для баловства, как морошка. В ей все годится.
– Ну и што? Можа, и я на все годнай. А мине нутро портишь. Шипишь тут змеюкой. Аль я травы етой худче?
– Шельма ты, вот хто, на балагурство только и способнай. Равняисся с благодатью божией. Колесо тележное. Куды уж тебе?
– Чево расходилси, ровно ведмедь при запоре?
Сам ты пень трухлявай. Побалаболь мине! Живо в рог укручу, – ругался Макарыч.
– Дурной ты, право, слухай, про што я скажу. Ягода эта из крови человечьей сделана. В ней даже цвет такой. Помрет хто добрай, а Господь ево силы и здоровьюшко в ягоды эти определит. Они нас земных и грешных лечут ноне. В них кровушка тех, хто в тайге безвременно, по случайности сгинул. Любить бруснику-то надо. А ты шальным ведмедем елозишь по ней. За эдакое воздается опосля, – сказал Акимыч.
– Ништо! Брусника, она, можа, и особливая, а живой души в ей нет. Зазря стращаишь. Не то видывал. Ан жив и поныне. Сдаетца, и тут Бог ни при чем.
– Креста на тебе нет. Глянь, как та ягода на могилах лепится. Жизшошкой алеит.
– На твоей могиле она не вызреит.
– ?..
– Дерьма в твоей утроби нет. Усохло. Весь ты байками набитый. В мужиках до гробовой доски силушка играть должна. А ты дитем малоумным проканителил. Досыта, поди, не пожрал ни разу. С чево на твоей могиле чемуй-то взятца? Во што корни дать?
– Об чем завелся? Мертвым могилы Бог украшает.
И хотя Макарыч тогда осмеял Акимыча, но переменил отношение к бруснике.
Колька с Зоей давно скрылись из виду. Макарыч все еще стоял на крыльце. По короткому разговору понял, что Колька будет собирать образцы. Это камни такие, с площади, которую изучать надо. Их Макарыч тоже знает, носил, когда в проводниках хаживал. Еще тогда диву давался: «Эвон мудрено закрутили! Камни образцами величать удумали. По-ученому все обзывают».
И Макарычу вспомнилось вчерашнее. Вот заспорил он с сыном, что наука гольная без силушки да привычки к тайге ломаного пятака не стоит. Парень озлился. Макарыч и скажи:
– А што ученай делать станит, коли рысь ево зачуит? По следам пойдеть? К ружжу наука непривычная. А рысь – она што? Зверь. С ей книжками дратца не можно. Речей ученых не уразумеит. Безграмотная потому как. Ей одно, с каво кровушку выпить, с каторжника аль с геолога. Ее ить надобно не токмо заслышать, а и углядеть сдалека. Эдакое особливым чутьем даетца. Неученым.
– Испугал нас, – рассмеялся Колька и, порывшись в рюкзаке, вытащил что-то непонятное, черное, сунул в руки Макарыча.
– Чевой-та?
– Бинокль. В него всю округу на десять верст рассмотришь, как на своей ладони.
– Бреши больше.
– Смотри, – сказал Колька и подставил ту штуку к Макарычевым глазам.
– Батюшки светы! – покрепче ухватился лесник за бинокль.
Свечка, что на столе стояла, толщиной с бревно на глазах вымахала. А бутылка! Из такой можно неделю всыто п ить.
– От то глаза. Всяку хреновину снортют. Эдак свою Марью в их и не узнаишь. Сдуру-то спужаисси, – хохотнул Макарыч так, что стекла в окнах мелким бесом дрогнули. И добавил: – В их рысь тигрой покажетца. Ученай-то, человек слабай, нутром изведетца. Никакой черемухой опосля не отпоишь.
– По-твоему, я слабый? – разозлился Колька.
– Тибе до ученово, как мине до неба. Грамотний и ученай, по-моему разуменью, што кисель от спирту различаютца. Можа, кады и станишь им. Но кады? Да и на што те канителитца попусту. Тайга, кали сердце к ей иметь, всех прокормить. Можа, тя, неученава, слаще попотчует…
– Почему же?
– Любит она тибе крепко. Сызмальства голубила. Сам таво не ведаишь. Мине – в душу въелось, Свой ты ей. Помнишь, заблукал ты по первому году в тайге? Я по воду вышел в ту пору. Ты и стреканул с избы. Побегать смекнул без надзору. Вернулси в лесовье – тя нетути. Покликал – не отозвалси. Тож в тайгу и навострился. Весна зачалась. Следы замыло. Глотку, думал, порву кричамши. Видать, и тибе разморило. К вечеру в лежку сыграл. На проталине в комок скрутилси. Уснул. А подле медмежьи лапы с мою голову. Знать, матуха была. К дите сердце поимела. Не тронула. Хоть пробка еешная неподалеку выскочила. Вприскочку тибе домой принес. Понял, бабы любить зачнут, коль ведмсдица душу твою не сгубила. Оне эдакое в титеш ни х чують, – покосился Макарыч на Зойку и добавил: – Хочь зверья она баба, а мужика и человечьева почитаит. Бабу изорвала ба, слыхивал про ето. Сам в глухомани порванное женочье тряпье видывал. Матухи их душу не выносят. Колька молча улыбался.