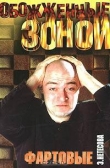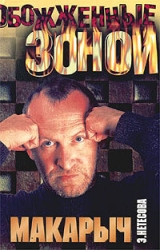
Текст книги "Макарыч"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
– А как же брусника, клюква? Одна с умом, другая нет? Бабы ить тож? – спросил Акимыч.
– Баба бабе рознь и тут. Одна с умом, друга нет. Вроде как Марья с Авдотьей. Нутро одинаково, мозги разные. Но и те ж. Возьми-ко клюкву аль бруснику: хороши опосля снега. А до таво? Морда пригожая, нутро кислое, незрелое.
– Я и шикшей детву лечу.
– От запоров? Дак любая баба лучче шикши до поносу мужика свово доведеть. Чево доброво, а ентово с избытком всяка знаит.
Акимыч замолчал.
– Ты спробовал коды бабу бабой-ягодой выходить?
– Ко н ешно.
– Ну и што?
– Не легшало.
– То-то. Баба бабу завсегда не терпить. А мужик всем выходитца. Все ему впрок.
– Но рябиновку ныне бабы уважают.
– То редко.
– Да нет. В селе ее делают сами многие.
– Не с добра. Эдак дешевле. А бабы на деньгу падкие. Што муха на дерьмо.
– А вот перцовку не сдолеют. Даже казенную.
– Куды им?
– Пошто так-то?
– Рябина, она чисто бабья ягода. А перцовка – в ей ягод нет. Потому не к каждой утробе угодна. Да и делаитца с чево? Спирт и перец. Опять жа мужики. Вот и помысли. Ты-то што боле всяково любишь?
– Перцовку.
– А я спирт гольнай. От те и задумка. Почему так-то? Мине все чистое. Без примесев. Добро – как по нутру. Голова не шумить от таво. Хочь и перцовку не откажусь. Особливо при хворобе. Деручая она, што девка занозистая.
– Ноне мужики в селе боле вино нор о вят пить. Сказывают, што спирт на здоровье вреднай.
– Эх, трепачи. Нутро им бабы да жадность спортили. На што добро лают?
– То не жадность.
– А че?
– С хронту оне.
– Нехай злое на хмель не плетут.
– Сказывают, контузии не велят им пить ево.
– Дак опять жа, нутро виноватое!
– Не по своей же воле стряслось.
– Ну и што? Спирт при чем?
– То ты зазря на них.
– Нет. Видывал я, как и не хронтовики вино ноне хлешшут. На крепкое не годны стали. То мужикам самим над тем помозговать пора.
– А и не стоит. Не гож и не надо. Нам от таво не худо, – налил Акимыч перцовки.
– Тож верно. Всякому своя утеха, – подсел к столу Макарыч.
– За што? – подняв кружку, спросил Акимыч.
– За мужиков, тех, што званье свое на слабое не разменяли. В каво мозги ни черта, ни спирта не убоятца, – он выпил, подморгнул покрасневшему Акимычу.
– Эх, пошло. Вроде младость возвернулась.
– С кой стороны? – хохотнул Макарыч.
– Со всех. Хочь в пляс ударьси.
– А ты и врежь. Не томи натуру.
– Куда мне?
– Чево?
– Не вводи в грех. И так единожды бес попутал. Сраму на всю округу было. По сей опомниться не могу, – конфузливо заерзал Акимыч.
– Ништяк. Че там с тобой приключилось-то?
– Ехал я в сельпо. Ну и порешил завернуть к одним. Коня оставил на корм. Сам дале. Глядь – во дворе детва скачит друг через дружку. Да не по– людски. Ноги заплетаются. Я и загляделся, как они томшатся. Самому похотелось. Ну и сиганул я. Ну, а борода опрежь меня. Ну и вертанулся вверх дыбками. Мальцы со смеху чуть не померли. Козлом кликать зачали. Иду, а они орут, бесята: «Дед, иди сигать с нами!» Бабы и по ионе на меня пальцем тычут. Скалются. Я и сам не знаю, кой бес меня попутал. Осрамился на старости. Худше и не выдумать.
Макарыч бороду жевал, чтоб со смеху не свалиться.
– Ты вдругорядь-то бороду за пазуху прячь. Мало ли какая прыть ишо на тибе наскочить. Да порты потуже вяжи. Ить могло и худче быть.
– Куды уж тут… Паскудней быть не могет, – махнул рукой Акимыч.
– Не тушуйси. Тож в тибе мужичье вскипело.
– На то малодшие находились. Я-то ровно опупел, – сокрушался Акимыч.
– Со мной тож не легше было. – сознался Макарыч. – Помыслил я как-то в селе поужинать у одних перед дорогой. Кишки горячим побаловать. Зашел. Хозяина, как на грех, дома не оказалось. Я было в обрат попятился. Ну и с хозяином-то столкнись. Тот на карачках вползал. Мине узрел. Враз тверезым стал. Стал на мослы и к топору – шасть. Кобелем лаит. Я ево и поприжал малость. Образумить пытался. Куды там. Ну и я из сибе вскипел. Говорю, мол, твою Машку собаки оббрехивать перестали. Тут она взвилась. Што сдеялось! Еле вырвали, баба-то по-дурному блажит.
Мужик ее колотит. В обчем, наелси я от пуза. С той поры зарекси я в людях вечерить.
– То и к лучшему. Чужая ложка завсегда горло дерет. Своя, хочь какая, все в рот пропихнет, – поддакнул Акимыч.
В окно зимовья робко проглянул неумытый рассвет. Акимыч вышел из избы подышать свежестью. Макарыч готовился в дорогу. Заложил теле гу ; положил коню овса, напоил его.
– Может, меня возьмешь с собой? — попросила внезапно Марья.
– Тибе на што маятца?
– Давненько в селе не была.
– Радоватца тому надо. Меду там нет. А путь, сама ведаишь, не близкай.
– И ладно. Выдюжу.
– Пошто взъегозилась, каво не видывала?
– Хочу с тобой, отец.
– Ладно, сбирайси. Да живо.
– Я так и поеду. Куды сбираться? Чай, не девка, чего красоваться?
– Не артачься. Сбирайси путем.
– Зачем так-то?
– При мужике живешь. Не срами.
Марья, закрасневшись рябиново, в избу пошла. Там долго в сундуке копалась. Доставала нажитое. Примеряла перед конопатым зеркалом. Вытащила подаренный Макарычем платок, который еще не носила. Долго смотрела на него. Потом отложила в сторону.
Увидев ее, собранную в дорогу, Макарыч даже опешил. Он не узнал свою жену.
– Марьюшка, дак ты у мине самая красуля! Вона ты какая. Впервой эдакой увидел!
– Поди, в гробу лишь и поймешь, какая она у тебя была. Живое мы не ценим. Мудрые сказывают, что смертные завсегда так-то. Есть – убил бы. Нет – купил бы.
– Смерть не кликай, Акимыч. Я свое не отлюбил. Вишь, жена у мине – писаная красавица.
Марья смутилась. Заторопилась к столу.
Ели наскоро. Обжигались. Авдотья даже смолчала, когда мужики выпили. И вскоре две повозки с грохотом выехали на дорогу.
Прикорнув на плече мужа, досматривала потревоженный сон Марья. Макарыч заботливо укутал ее тулупом. Сдерживал коня, чтоб не разбудить жену.
Акимыч тоже не торопился. О н удобно лег в телеге. Вполголоса переговаривался с Авдотьей. Ее не переборол сон. И старуха, внимательно поглядывая по сторонам, подталкивала лесника.
– Ты ба поживее погонял. Можа, седни в свое село поспеим.
– Нынче не поспеим – взавтре там будем.
– Чую, от Мити весточка есть.
– Есть – так есть.
– Погони скорей.
– Помереть поспеем. И Митьку узришь ишо. Не поспешай. Што суждено, то сбудется. Все от Бога. Не схочет он – не обхитришь судьбу.
– Скорей ба домой.
– Ты сии. Не егози в телеге-то.
– Чево бранисси?
– Не докучай.
– Слухай, Акимыч, занедужил ты ай што?
– Не бери худое в голову.
– Поспрашать тибя хочу.
– Об чем?
– Про Митьку. – Ну?
– Коли скоро вернетца с хронту, как быть тогда?
– Кому?
– Мине.
– Сама порешишь. Обмозгуй заведомо.
– Баба я, могу глупостев сотворить.
– Нехай к нам Митька идет. При тебе жить станет. Лесовать научится.
– Схочит ли?
– То мне неведомо.
– Головушка моя горькая, непокойная! И вертатца к той змее нет моей волюшки, – заголосила Авдотья.
– Тебя не гонят.
– Сыночка свово куды дену?
– Не малец. Мужик, чай, мы ему не помеха.
– Можа, заедим? Внучат наведаим.
– Так бы и сказывала.
– Про Митю спросим.
– Заедим, што с тобой сделаишь? Успокоенная, Авдотья вскоре уснула. А дорога
пошла все накатистей, говорливей.
Макарыч иногда оглядывался. И, убедившись, что Акимыч не отстал, ехал дальше.
В селе они расстались. Макарыч к сельсовету свернул. Помог выбраться из телеги Марье.
– Пошли. Поди, вконец измерзлась?
– Не-ет, отец, – выстукивала та зубами.
– Погоди-ко. Дай я тибе от сена отряхну. Марья, заслышав это, обняла мужа за шею:
– Вона какой ты!
– Ладно, ладно, а то и пововсе мине разлюбишь. Сиволапова. Разе те такой нужон? Ты ж што рябина, а я, прости Господи, пень гнилой.
– С чево ты, отец, себя хулишь?
– Не хулю. Единай раз тибе правду сказываю, а ты и не веришь.
– По мне пригожей тебя и в свете нет.
В сельсовете Макарычу обрадовались. Председатель с ним по рукам поздоровался. Лесник даже вспотел от такого внимания.
– Слыхал, наши-то на фронте дают немцу! – улыбался председатель.
– До мово угла разе ворона слух какой донесеть?
– Ничто, Макарыч, война закончится, мы в твою избу проведем и свет, и радио, – обещал однорукий председатель.
Макарыч слышал от мужиков, что он фронтовик. В селе его даже древние старики по отчеству уважительно называли. Потому с ним лесник держался почтительно. И не потому, что власть. Слыхал от баб-солдаток: мужик он с совестью. Вдовым помогает. За детву беспокоится. Не п ью щнй. Не шалый. На слово, что самому себе, верить можно.
– А скоро ли немца совсем порешат? — спросил Макарыч.
– Теперь недолго ждать.
– Много кровушки испил. Пора бы ево, как шатуна, навовси порешить.
– Все победы ждем, Макарыч.
– Ты ба мине подмог не с радивом, без ево я вона сколь прожил. Поди, и дале обойдусь. А в сельпо приказал ба, штоб шарамыга-продавец пороху мине отпущал поболе. Да не сырова, а какова положено. Да ружьишко ба поновей. Мое вконец сносилось. Осечку стало давать. Пора сменить. С худым жа, сам ведаишь, проку не будит.
– С этим мы тебе поможем. К продавцу вместе сходим. Поговорим. Но звал я тебя не за тем. Подсчитали мы тут, что за все эти годы, с самого начала войны, ты, Макарыч, сдал пушнины, на которую было построено больше двадцати самолетов– бомбардировщиков. Большое тебе спасибо от народа, от фронтовиков за помощь.
– Не единай хронту подмогал. Люд там покалечился, головы полишилси.
Председатель отвернулся к окну. Неуклюже закурил. Долго стоял так. Макарыч шагнул к нему:
– Ты уж не обессудь, сынок. Тибе-то там лютей приходилось. Всю остатню жисть расплачиватца станешь. А я-то, я-то што? Разе большое исделал? Харчи, какие ни на есть, завсегда были. И крыша над головой, слава тибе Господи, цела. Самово руки-ноги кормют. Чево не жить? Ты извиняй, коль не так. Сказываю, как могу. Токо мине награды не надобно. Ружьишко вот помоги справить. Век Бога за тибе молить стану.
– Эх, Макарыч! За доброту да понятие твое, да за сделанное – цены тебе нет. Верно ты говоришь. Но тебе-то награда не так уж просто далась.
Уехал Макарыч из села, как никогда, довольный. В кармане, чтоб не потерять, медаль на булавку заколол. При ней бумагу, что награда за труды выдана. И не кому-нибудь, а ему, Макарычу. В ней все прописано было. Вспомнилось и то, как заюлил в сельпо продавец-мужичонка, когда они с председателем туда пришли. Заговорил не своим голосом. Бегом пороху принес. Отборного. Без дымного. И новехонькую двустволку. Какую часто во сне видел Макарыч. Вот она в чехле лежит. Своя. Лесник погладил ее.
В магазине же приглядел он Марье валенки, рубаху. Та краснела, отказывалась. Но Макарыч видел: нравится ей все. Купил, не спросясь. На дорогу, чтоб не скучно было, пряников взял. Ешь. Никто ведь о тебе не заботился.
Марья даже заплакала. Макарыч знал: то от радости. Мало тепла баба видела. А помрет он, кто о ней вспомнит, позаботится?
Успел послать Кольке денег и телеграмму ругательную. Наказал, чтоб в науке себя берег, денег чтоб на харчи не жалел. Мол, здоровье опосля не купишь. Просил весточки чаще присылать. Хоть короткие. Абы знать, что жив Колька и здоров. Пусть напишет, чего надо.
Все успел сделать Макарыч. Потому теперь ему было спокойно. Он привычно укрыл ноги, плечи жены. Притянул ее к себе.
– Спи, Марьюшка. Спи, моя зоренька.
Та прильнула к его груди.
– Намаялась?
– Нет, отец.
– Все ты терпишь, И молчишь. Хоть и не легко. И не сладко тибе живетца.
– Пошто ты так, отец? Мне-то куда с добром.
– Иде ты ево видела?
Марья прижалась к Макарычу еще плотнее.
А над тайгой уже повисла ночь. Непроглядная, как омут. В ней слышался лишь скрип телеги. Цоканье конских копыт. Да ровное спокойное дыхание Марьи, гревшее душу Макарыча.
А дорога бежала вдаль, и не было ей конца.
Лесник, бережно придерживая жену, погонял Орла.
Отчего-то вспомнилось ему прощание с Акимычем. В этот раз они долго были вместе. Может, потому расставались труднее. Все что-то не могли досказать друг другу.
Макарыч знал: в этот раз Акимычу совсем не хотелось уезжать. Да Авдотья торопила. А куда? Не даст передохнуть старому. Нет в ней жалости, нет понятия о кротости бабьей. Видать, только то и умеет – едой ублажить, А разве единым брюхом жив человек? Тепла же она не подарит, эдакая карга. Все по-своему норовит. Да не просто. А на мужичий характер ногами сучит. Вот забрать бы Акимыча. Втроем как ладно б жили. Без ворчания. Марья-то, она вон какая! Домовитая, ласковая. На ругню неспособная. Не то что другие. И руки у ней добрые. Все умеют. Если где и сорвется на слезу, так не от злобы. От прошлого. От судьбины бабьей.
Он наклонился к жене. Та спала.
…В зимовье осенью прибавилось забот. Чтобы забыть об одиночестве, он целыми днями готовил дрова. Коптил рыбу. Вместе с Марьей ходил за ягодами и грибами.
Женщина с годами не полюбила, не стала меньше бояться тайги. Иногда сама заготавливала веники для бани. Но от избы далеко не уходила. Каждый скрип и шорох настораживали ее. Макарыч, зная это, частенько подтрунивал над нею:
– Ты у мине огонь-баба. Чуть писк, ты пулей в хату. – Однажды, перебирая грибы, разговорился: – С тибе, мать, чево возьмешь? Не в тайге родилась. Понять ее тяжко. Такое в кровушку даетца.
Да бабе-то тайгу шибко знать и не надо. Вот мужику воистину необходимо ето. Только, скажу я тибе, доведись ослабнуть, не знаю, каво ба и на охоту с собой взял. Мужики ноне пошли хлипкие. За хату в потемках выйти трусятца, разе с эдакими мозгляками можно на дело порешитца? Один мине надысь жалилси – чушку, мол, съели, а боле мяса нет.
На единой рыбе детва маетца. Я-то ему и предложил: сходи, мол, на ведмедя. Дак семья с лихвой едовом будит довольна. Поверишь, ен мине за добрый слова по-черному крыл. Мол, иди сам подставляй хребет под убой. А я из-за жратвы сгинуть не желаю. Говорил, навроде мине подавно сгинуть черед настал. Ему жа жисть ишо не в тягость.
– Ты, отец, не серчай на их. Глупое мелят, но не с добра. Детву-то и впрямь кто за него на ноги постави т? Кому чужие надобны? Может, из-за них мужик так балаболит.
– Как жа ен об ребятне пекетца, кады у ребят брюхи пустые? Разе то отец-кормилец? Чем такова вспомянуть, как не худым словом? Он на зайца пойтить пужаитца. А их в тайге видимо-невидимо развелось. За войну вконец осмелели. Непуганай зверь растеть. Охотников не было.
– На фронте бились…
– Не все жа.
– Бабы – не охотники.
– А фершал-то? Разе ен баба?
– К тайге, поди, несвычный.
– Сколь в селе – все не приноровитца к ружью. Хочь ба на куропаток сходил для утехи. Не то ишь, вместях с хворыми эдакий лоб из единаво котлу жрать приноровилси. Чево уж постыдней? А ему хочь бы че. Харчи легкия, готоваи.
– Не все ж, поди, такия?
– А продавец? Тот чем краше? Цельными днями селедку торгуить, сам селедкой стал. Хвостом ровно баба крутить наловчилси. Стребовал я у ево капсюли, а ен гляделки по-дурному на мине вылупил, мышью заметалси. В ящики полез. В их с час рылси. Потом признался, мол, не ведаю, чево ето такое. Зато испроси бабий хлам – всему званье поудумал. Каналья! Все бесстыдное на вид развесил. Мужики плюютца, бабы совестятца. А ен, гад, ишо и предлагаить: мол, возьмите, дамочка, прямо на вас сшито. Эдакая вошь, а мужичий род похабит.
– Говорят, будто у него бабы нет. Может, и приглядывает себе какую.
– Ему бабу? Што с ей делать станет эдакий хорек? Кака путня за ево порешитца?
– Ох, отец, али позабыл? Ноне не до спросу. Война-то как мужиков повыкосила! Беда. Бабы-то в цвету, а вдовые? Годы же идут. Тут хоть какой– никакой – мужик. Чихнет где и то отрадно – хозяин голос подал. Сам знаешь, при мужике, пускай срамном, каждая баба путевая. Вон в селе нашем что делается?
– А-а-а, в прошлый приезд выпить с хронтовиком порешил. Сам в хату зазвал. По две рюмки вдарили, а с третьей чертовщину понес. Аж невтерпеж стало. Надо жа! Поначалу бахвалилси, што немца воровал. Я выведывать стал – зачем жа? Нешто ево, поганца, воровать надоть? Ить не золото. Враз уразумел, што брешить. Ен сказывать – для языку. Тут я пововсе чуть не опупел. Хронтовик тот дале брешит: мол, для сведений, значит, язык тот понадобился. А я ему и сказываю: дурное дело не хитрое, покаместа германца бить надобно стало, ты, олух непутнай, ево воровать удумал, ровно казну бесценную. И не как-нибудь, а на своих кровных закорках волок эдакую невидаль. Вот ужо сдурел! А ен молвыть – не простова ерманца, енерала спер. А по мине – так хочь сам ихний Бог. Ташшить не стал ба.
– Не богохуль, отец.
– А и не грешу.
– Не то сказываешь.
– Пошто?
– Всякому люду свой Бог. Он ни при чем в войнах. Люд их сеит.
– Ну я жа про ево. Хронтовик тот, вот идол, имя запамятовал, не Бога, хрица нес и не зашиб насмерть окаяново. Тот, поди, на спине едучи, хохотал. Ить не единаво нашево мужика, поди, сгубил. Настоящево.
– Генералы, верно, не стреляют?
– Оне зачинщики всиму. От их вся пропасть.
– Как знать…
– Так председатель сельсовета сказывал! Уж ентот хронтовик. При наградах. Всамделишнай. На планере с немцем билси. Врать не станет. Сказывают, ен рассейскай герой. На то у ево награда большая, с золоту, имеитца. А уж немцев бил – несть числа. И не просто – с умом. Только не повезло ему. Подшибли иде-то сво планер. Рука и обгорела. Отрезали. Эх, мине ба ево. Выходил ба! И рука целехонька осталась ба! Такой мужик калекой сделался, ить с им поговорить – единое удовольствие. Все по-путнему обскажет.
– Такой же смертный.
– Все мы Божьи. Но одни век с анчихристом в душе живут, а председатель им не ровня.
– Куда там!
– И не кудычь.
– Не святой, поди.
– Може, и не святой, а можа статца, и так.
– Не схож на святого.
– Дела святые. То ведомо.
– Ну и что?
– Эх, Марья, разе не разумеишь?
– Запрет ему на хмельное дажа есть.
– Сам сказывал, даже батюшки пьют.
– Ему неможно.
– Выходит, он попов почище?
– Не потому. Ежли выпьет власть рюмку, люд смертнай, на ево глядя, и по-вовсе обалдеит. Без просыпу и ума пить зачнет. А ево за то из начальства скинут. Ему жа, калеке, куды опосля? Были ба обей руки. Об единай не шибко наработаишь.
– Ох, не сладко же ему.
– Конешно.
– Поди, на многое запрет у ево?
– Ишо ба! Отлаять за дело и то не смоги. За то н а ево пожалитца могут. А самово, бывало, и забижали.
– Кто же?
– Хочь тот хронтовик, с коим я выпивал.?
– Просил у председателя чевой-та. Нетверезай пришел. Тот и послал ево проспатца. Ну… А, чево гам… Слухать паскудно. Хронтовик тот бабой кричал. Председателя тыльным звал. Я подзатыльника дал дурному. Ен же при руках, при ногах побиратца насмелился. Ему и на хронте делом не довелось занятца. Не зря жа ево оттель погнали Помехой, знать, был. Путние и поныне там. Ентот и не калека, а выгнатай. Морду ево и ведмедь не облапит.
– Может, снутри негож?
– Ия про то сказываю, оттуда гниль. По выпивке бахвалился, што наград много есть. А не ка– зал. Коли были ба – похвастал.
– Кто знает.
– В доме были. Я-то ведаю эдаких героев. Не промедлют цену сибе набить. Истинный мужик наградами не станить похвалятца. Смолчит, как пить дать.
– А и показать не грех.
– Не грех, но и не дело. Ноне многие их будуть иметь. Токо награда мужику званья не прибавит, ума тож. Иной и без наград возвернетца, а на хронте не мене других проку дал. В рюмке водки ум и честь свою не потопил.
– То верно, отец, – поддакнула Марья.
– Ты жа поштаря знаишь. Он тож с хроиту. Вер н утай. Поспрошал как-то, за што ево с войны сослали.
– Не томи.
– Погоди маленько. Перекурю.
– Сказывай заодно.
– Ну, слухай. Поштарь наш на хронте кашеваром был, заместо бабы. Ну, ерманец в ево котел бонбу и закинул. В котле том шши были, с огню. Ево и обшпарило. Весь перед. Шкура рубахой слезла. Аж мослы видать было. Лекарили долго. Опосля ен той кухни пушше огню боялси. Все на небо смотрел. Немного погодя за страх наказан был. Ерманец шибко стрелял. Поштаря сразу и откинуло. Сказывал – волной какой-то. Можа, и впрямь, а можа, и брешит, сказывал, с ума соскочил. За негодность, как бешенова сослали назад.
– То-то лихо.
– Чево лихо?
– Ведь помешанный. Худо ему.
– Со страху и с ведмедем худо стрясетца. Небось на коровники главнай не спужалси. На саму танку ходил. Жег их, окаянных.
– Тот? С лицом горелым?
– Ну да. Сказывают, и ноне на хронт просился. Дажа ездил куды-то. Председателя просил за ето похлопотать. Вот то мужик!
– А танка – что?
– Сказывают, машина. Навроде той фырчалки, што с Колькой приезжала.
– Батюшки светы, она же сатана безглазая!
– Дак там она, поди, не единая была.
– А задавила б? Тогда?
– А, мать, про то и толкую! Истый мужик ничево не пужаитца.
– У нево же дети…
– Шесть душ.
– Об их думал?
– Нешто нет?
– Зачем же на смерть шел?
– Штоб дети ево ерманцу не достались.
– На что они ему?
– Вот то-то и оно. Сколь малых перебил за войну! Норовил все семя под корень поизвести.
– Господи, Господи, сбереги невинных. Накажи окаянство, – зашептала Марья.
– Тот мужик, как выпьет, набычитца и молчит. Иной раз горелой лапой собьет слезу, уставитца на бутылку и зубами заскрежещить. В сорок годов голова вся в снег. И не смотри, што такой ране– тай, в руках ево все крутитца. Ровно и на хронте не был. Жаднай до работы. Как конь работает. Слыхивал, председателю ен первая подмога.
– Дай Бог ему здравия и долголетия.
– Дай Бог!
– Сказывают, у ево родителев немцы повешали, старых вовсе. И братов постреляли. Мужик попервах на рожон лез без толку. Потом стал по уму битца. Много ранет был.
– Ну где же его так покорежило?
– Под танку близко подлез.
– Зачем?
– Промахнутца не схотел. Танка над им и загорелась.
– Хоть бы скорей война кончилась!
– Слыхала ж в сельсовете, што ворога погнали из Рассей? Нам с тобой в избу сулили радиву про– весть.
– На что морока, мы – старые, и так проживем.
– Свет дадутъ, свечей не надоть станить.
– Як ним свычная.
– Можа, с харчами полегшаит?
– Твои б слова да Богу в уши.
– Не мои, властей.
– Скорей бы.
– Я вот думаю, председатель шибко просил детве подмочь, на охоте доле побыть нынче. Ребятня без мясу сидить. Схудала вконец.
– Куда тебе нынче!
– Малым помочь – Божье дело.
– Один-то как же?
– Ас кем?
– В селе подмогу испросил бы.
– Не до таво им.
– Тебе до всего.
– Ладно, мать, не причитай. Ты, давай, по дому правь свое. Ить покудова ведмеди в берлоги не полегли, мерекаю, схожу с толком.
– Ох, отец, не стоило б, – вздохнула Марья. Но отговаривать мужа больше не стала. Поняла – неспроста весь разговор затеял. Про мужиков, про званье их. Враз-то и не почуяла. А теперь знала – отговорить Макарыча она не сможет. Ничто его не остановит.
Лесник поглядывал на жену. Понял – встревожилась, хотел успокоить:
– Не впервой, чево спужалась?
– А чему радоваться? Сколько ходишь – покою мне нет. Глаз сомкнуть не могу.
– Зря эдак.
– Не все ж обходится ладом.
– И худова не было.
– В тайге-то болел сколь раз? Как же худа не было?
– От таво и в избе не убережесси. Домой-то я завсегда своим ходом верталси.
– В избе догляд.
– Там сам сибе выхожу.
– Коль на больного тебя зверь наскочит?
– И то от судьбы.
– Господи, сколько мужиков в селе, а как что, в раз тебя в помощь.
– Не вой. Осерчаю.
– Надолго хоть собраться порешил?
– На неделю, не боле.
– А куда пойдешь?
– К Мачехе.
– О Господи! – уронила голову Марья.
В эту ночь она снова не спала. Вскакивала с лавки, подходила к мужу. Смотрела на пего, боялась разбудить своим дыханием. А сердце, ошалелое сердце билось так, что вискам было больно.
Знала она, что не только из-за председателевой просьбы уйдет муж на охоту. Чуяла ее душа, – тоскует он в дому. Не хватает ему внуков. Чтоб радовали они его своим смехом, играми. Без них, как ни смейся, себя не обрадуешь. Просила Марья Бога сделать эту ночь подлиннее, а если можно, не пустить мужа в тайгу на медведя.
– Не след ему в такие леты Божью тварь губить. Пускай в избе делом займется.
Но иконы смотрели на нее холодно, непонимающе. В слезах села она у постели мужа. Слушала, как бормочет он. Всхрапывает во сне.
– Сохрани тебя Бог, – шептали ее губы.
Марья не заметила, когда рассвело. Макарыч проснулся внезапно. Понял: жена не спала. Хотел отругать, да увидел, той не до этого. Сдвинув бров и , засобирался. Марья помогала.
– Вот ить скажи тебе правду – измаисси, вдругорядь промолчу, – пробурчал лесник.
– Меня проведешь, а душу-то как?
– Твоя душа – ровно заячья.
– Ох нет, отец.
– Не майси. Отдыхни.
Когда мешок уложили, Макарыч подошел к жене:
– Не поминай лихом, Марьюшка.
– Ворочайся скорей.
– Как повезеть.
Он шагнул к двери.
– С Богом, – перекрестила его вслед Марья.
В окно она видела, как с непокрытой головой подходил Макарыч к тайге. Размашисто перекрестился. И, натянув шапку, скрылся за деревьями.
– Спаси и сохрани его, – шептала Марья у иконы.
Лесник уходил все дальше в тайгу. Она теперь совсем оголилась, посерела. Сдала, что вдова солдатская. И тоже никого уж не ждала. Ни на что не надеялась. Тянулись над ее головой пухлые, как талый снег, облака. Мокрые, холодные. Даже бамбук поник, почернел. Ждал своей участи.
Невдалеке дятел выискивал кормежку. Стучат по дереву монотонно. На ветке березы вздремнул по-стариковски бурундук. Наверное, бездомный. А может, решил перед снегом на воздухе побыть. Сидел, закрыв глаза. Лето вспоминал. Вымок, дрожит. Низко, низко над деревьями вороны летали. Харч высматривали. Да только кто отважится в такую погоду высунуться из норы? Зверье заботливое давно кормом запаслось. Теперь и в спячку можно.
Макарыч пошел к ближней берлоге, которую давно заприметил. Еще когда к Кольке ходил на вышку. Видел там свежие следы. Медведь в той берлоге не первый год зимовал. Знал лесник: зверь этот матерый. Не меньше шести зим от роду. Лапы в две Макарычевых ступни.
Лесник не думал о встрече с ним. Не играл в нем азарт. Убивать он не любил. А бояться не умел. Шел, полагаясь на судьбу и на Бога. Верил – от их решения не уйти никому. До берлоги еще было далеко. Макарыч торопился успеть засветло. Оглядеться, а уж потом и встретиться. В глубине души сам над собой посмеивался.
«Поди, с ума сживаюсь. То цацки ребячьи готовлю не впрок. То на ведмедя настропалилси. Путни мужики на то не горазды. В их все ладом. По-писаному. Живуть, как все хрещенаи. В церкву по праздникам ходют, банютца кажну неделю. В будни баб колотют, коды время есть. Пироги жрут от брюха. И бороды имеют холенаи. У мине жа все не по-людски. От таво, знать, приходитца под плешь, глаза не продрамши, по тайге блукать. А че я ей дал? Оставил ей што? Мыкаюсь шатуном. Сказ ыв ають, эдак смерть свою бездольнаи ищут. Сами таво не ведая. Верно и я… Хотя свое ужо пожил. Леты нималые. Толку в их нет. За то сам повинен. Ежли и доведетца помереть иде, жалковать особливо не об чем. Так дажа неплохо. Не на лавке в избе. Не при Марье, штоб не маялась. Кончусь сам по сибе», – думал лесник. И поневоле вспомнился ему разговор с Колькой, когда в отряд к нему приходил, больного его выхаживал. Парень смерти боялся. Все спрашивал – не умрет ли он от этой напасти-простуды?
– Така беда даже зайца не гробила. А со страху, точно ведаю, ведмеди мерли. Почудитца ему спросонок несусветное и все. Жидким дербалызнет – и готов. Поганая та смерть ишо и потому, што такой зверь, как ведмедь, ей кончилси, я ба по-другому издохнуть хотел. На своих ногах, не в койке. И штоб не ревели по мине. Слез не терплю. Нехай ба на моей кончине веселились до обмороку, пили до упаду, плясали до синевы. Мине и отходить так-то легше ба стало. Я смех люблю. Мало ево слыхивал. От таво шибко ен мине по душе. А слезы – зряшное. Бабье. Им дай волю. Бабы всех в их утопять. Да только не из души оне. От мокроты, от дурнова званья. Коль при жисти жали не видывал, мертвому на што такая ноша? Хочь ба грехи осилить уволочь. Под смех-то проще обделать.
– Неужели ты и вправду смерти не боишься? – удивился Колька.
– Ей-богу! Не брешу.
– И жить не хочется?
– Почиму жа? То дело другое. Жить кажной твари охота. Я ж те про кончину толковал. А она придет – не спросит. Мине к ей уж не готовитца. Давно сговоренай.
– Плохо тебе жить?
– Ни от таво! Однако ж година моя настанит. Усе мы грешнаи смертны.
– А я боюсь умирать.
– Раненько, погоди. Поспеишь на погост.
– Интересно, сколько я проживу?
– То от Господа. Сколь положит ен, так и будит. День в день.
– Мне подольше хочется.
– Эх, Колька, иной годов сорок протянет едва, маетца. Все хворает, смертушку кличит. А она ровно оглохла. Другой век цельнай живеть и хочь ба што! Тут не угадаишь. Кажному свои и планиды, и кончины…
Макарыч шел торопко, также бежали торопко мысли в его голове. Но вот он совсем неподалеку от себя след увидел. Тот самый. Еще свежий. Теплый.
– Знать, я тибе, а ты мине следишь, – шепнул Макарыч и медленно пошел по следу.
Он знал: до берлоги еще добрый десяток верст. Слышал раньше, что медведи заранее чуют своего убийцу. Знают день. Нередко навстречу выходят.
Или засаду устраивают. И уж тогда кто кого… Бывало, сделает медведь петлю, вернется на прежний след. Тут и подкараулит преследователя. Рассчитается с ним сполна.
Лесник отошел в сторону, прислушался, пригляделся. Тихо пошел дальше. Снял ружье с плеча,
проверил заряды. Нож поближе сдернул, под руку. И, глянув вперед, заметил: следы повернули за стланик. Как знать – роковая ли то петля? Или зверь двинулся дальше? Макарыч решил передохнуть. Он отошел па несколько шагов. Ему захотелось закурить. Но словно кто удерживал руку, что потянулась за кисетом. А тайга напряглась, выжидала.
Даже ветер утих, угомонился, наблюдая за человеком. Тоже ждал. Треск сучьев послышался внезапно. Макарыч вскочил. Медведь появился тут же. Да, он шел по следу. Лесник выстрелил, почти не целясь. Потом снова. Туда, где по его предположению была голова медведя. Сам в сторону метнулся. Ни звука вокруг. Только кровавый след уводил в тайгу. Макарыч зарядил ружье. Чертыхнулся. Решил пойти по следу. Хотя знал: подранок лют. Теперь ему лучше не попадаться. Выследит, отомстит. Но сейчас он бессилен. Разве только последнее соберет или нападет сзади.
– Э-э, была не была, – махнул рукой лесник.
Медведь не мог уйти далеко. Это он сразу понял. Левая передняя лапа едва касалась земли. «Значит, коло серца прошил», – сообразил Макарыч. И снова с оглядкой двинулся вперед.
Зверь лежал, перевалившись через корягу. Судорожно греб под себя землю.
– Прости, голубчик, и не мучьси, — выстрелил в него лесник.
Медведь обмяк, перевалился на землю.
– Все мы смертны. Седня я тибе, взавтре мине твой сын разделаить, – вздохнул Макарыч.
Он быстро освежевал медведя. Повесил шкуру на дерево, мясо укрыл палаткой. Сам за костер принялся.
– Слава тибе, Господи, не думал скоро воротища, ан ишь как пофартило, – шептал он небу.
Марья даже глазам не поверила, когда на другой день муж вернулся за конем.
– Я спала, думала, не скоро придешь. Знать, добыча легко далась, ништо не грозила? – спрашивала она.