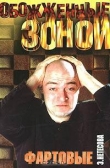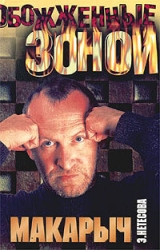
Текст книги "Макарыч"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
Незаметно обшила, обстирала. На окна цветастые занавески приладила. Теперь Макарыча все больше из тайги домой тянуло. К жене, к теплу, ровно и не жил иначе. По вечерам вдвоем с Колькой шкурки выделывал. Марье на шубу. Хотелось порадовать ее. Сам себе не раз дивился, как так скоро привязался к ней. Следил, чтоб ноги не промочила. Не застыла. Беря с собой за грибами, за ягодами, требовал, чтоб теплей одевалась. Душегрейку на нее напяливал, что сам пошил. И говорил при том:
– Береги себя. Здоровьишко твое надорвано. Коли худо – не п еремогайси. Ты ведь у нас одна утеха.
Колька за лето здорово вытянулся: долговязый, нескладный, большие не по годам руки его все что-то делали. Он охотно помогал Марье по хозяйству. Ходил в тайгу на обход вместо Мака– рыча. Старался заготовить впрок на зиму рыбы, мяса, грибов, ягод, орехов. А потом до звезд пилил дрова. Чтоб зимой с ними забот не было.
Марья уже давно уговорила Макарыча и продала дом в селе. Сейчас она готовила Кольку в школу. Варила ему варенья, солила грибы. Пеклась, словно о сыне своем. Каждую мелочь углядела.
– Ты на свободные дни приезжай, Коля. Нам отрадней станет, – просила она парнишку перед отъездом.
– Ладно, буду, – пообещал тот.
Он не называл ее никак. Тетей Машей – язык не поворачивался. Мамой – и того боле. Что-то среднее меж тем и другим, но подходящего слова не находилось. От этого Колька мучился. Тетка Марья? Но слишком много заботится она о Кольке. Ночами встает укрыть одеялом, чтоб не застудился. Сама не поест, пока его не накормит. Вон и простыни у мальчишки белые, как снег. Все ее забота. А когда однажды он промок под дождем и простыл, она ни на шаг от него не отходила. Четыре ночи не спала. С лица даже спала. Плакала тихонько, чтоб никто не слышал.
Колька, конечно, не сказал никому, что подслушал ее молитву. Она стоила перед иконой на коленях в одной рубашке и просила:
– Чем прогневила тебя, Господи! Разве замужеством? Так за счастье мое не наказывай раба твоего невинного. Пошли ему здоровье и долголетие. За маяту и горе награди своей благодатью. Отгони болесть. Отдай мое здравие ему. Млад еще он. С него будет. Мой век бабий, равно короткий. Нехай же Николай, сын мой неутробный, побольше радостей изведает. Не гневись, Боже, на него…
У Кольки тогда даже комок к горлу подкатил. Колючий. И глаза зачесались. Так о нем еще никто не молился. А Мария, совсем простоволосая, уже тихо склонилась над ним. Ощупала лоб. Поправила подушку. Вытерла потное лицо мальчишки и прошептала:
– Спи с Богом. Во сне здравие приходит.
Мама… Но так он называл только свою мать.
Ту, что любила его больше, чем себя. Откуда было знать мальчишке, что умерла она с голоду, отдав сыну все, что могла? Вот и ушла безвременно. Он любил ее по-своему требовательно. Продолжал любить и мертвую. Видел ее во снах, когда говорил с нею, как с живой. Эту память он боялся омрачить. Назвать этим словом другую? Мальчишке это казалось предательством.
Макарыч понимал состояние Кольки, а потому сказал однажды, когда они были в тайге вдвоем:
– Ты, сынок, таво, не шибко мозгуй. Все перемелетца. Душу слухайси, она сама подскажит, стребуить. Всему свой черед. Усек? То я насчет Маши…
Но и это не успокоило. Потому, прощаясь с нею даже перед отъездом в школу, он не мог вымолвить ни слова. Ткнулся по-щенячьи в теплое плечо. Шмыгнул мокрым носом и отскочил, неловко задев Макарыча мослатыми ногами.
Колька учился легко. Не корпел подолгу над уроками. Быстро решал задачи. Пристрастился к шахматам. У него не было трудных предметов: учителя считали его способным. Только уж слишком взрослым, не по годам понятливым. Макарыч на эти их замечания рукой махнул. Дескать, разум парню Бог дал. Ежели не обделил, на том благодарствие ему.
Незаметно прошел год. И Колька решил поступить в техникум. Чтоб скорей стать геологом. Макарыч не стал противиться. И Колька, пробыв дома совсем немного, поехал поступать.
Макарыч ничего не сказал парню о том, как занедужила Марья в минувшую зиму. Как зачастую боялся оставлять ее одну, уходя на обход участка.
Марья заболела тогда неожиданно. Нагнулась достать банку из-под стола, а разогнуться не смогла. В спину словно гвоздь вбили. Макарыч долго выхаживал ее. Натирал спину отварами. Но несмотря на его старания Марья слегла надолго. Стало прихватывать сердце.
– Што ж так, Марьюшка? Не уберегла сибе? Эх, силы ваши, бабьи, – куриные. Сорвать их легше легкаво.
А про себя думал: «Нынче выдюжит, знать, обойдетца. Вот токо без Кольки-то вовсе худо. Приглядеть за ей и то некому. Што, коли к сердцу паралик подкрадетца?»
Тут еще пурга поднялась. Выла в трубе истошно, голодно. Ну прямо середку наизнанку выкручивала. Волком в дверь скреблась. И не было ей угомону. Будто небо кто прострелил по шалости. Оно и взялось сыпать, как из худого мешка. Пошел Макарыч от двери отгрести. А ветер как хряснул дверью! В глазах поначалу даже розово стало. Словно в облако, подогретое солнцем, попал. И так легко ему в нем было! Но вот облако будто черт на спину повернул: все почернело. И показалось Макарычу: Дарья тянет его. Не в карьер, в могилу. И прикован он к ней прямо за голову. Словно к самой макушке цепь припаяна.
«Знать, крышка. Отжил», – подумал тогда Макарыч. И, помянув жизнь по-черному, полетел в пропасть.
Очнулся не скоро. Руки, ноги судорога свела от холода. Макарыч сел, как чумной. Спохватившись, перекрестился. Хотел встать. Ветер сбил. На карачках в п олз в избу.
Марья лежала без сознания.
– Отбедоватца ба навовси, – не поняв, что с нею, пожелал себе смерти Макарыч. Пока отхаживал, какая чепуха только не думалась! Чуть женщина оклемалась, то открыла глаза и испугалась:
– Что это с тобой?
Голова и лицо Макарыча были в крови.
– Эвот нашла об чем… На мине, што на кобыле, все зарастеть. Ты не печальси.
На другой день пурга осела. Гуднув, как медведь спросонок, промеж берез исчезла, словно растаяла. Макарыч выглянул в окно.
Белыми медведями прилегли к ногам сосен сугробы. В крепкие лапы стволы захватили. Прижались по-родному, деревьям от тех объятий не дышится.
«Гля-ко, кому какое испытание судьбина посылает. Наказаньем никово не обойдет», – подумалось леснику.
Невольно вспомнил об Акимыче – как-то он там? Одному ему и вовсе тяжко. Сам себе единая душа.
К вечеру на лыжах Колька пришел. О невзгодах позабылось.
А вот теперь уехал в город. Когда воротится? Только летом. А до него попробуй дожить…
«Не ближний свет. Оттудова на лыжах не проскочишь. Еропланом надо лететь. Сказывают, штука эта больно интересная. Хвост и крылья имеютца, ну чисто птица! Только как же Господь проглядел такую оказию? Как допустил, штоб люд смертный небо испоганил? Оно, конеш н о, хорошо, што Кольке не мучитца в пути. Но разе так надо? Ить раз человек в небо влез, иде ж ноне Бог живеть? И куды ноне молитца?»
И припомнился леснику случай. Поехал он тогда в село за покупками. Там, как на грех, покойник случился. Родня и Макарыча затянула помянуть усопшего. Вошел он в избу, перекрестился на икону. Тут и соседи подоспели. Вошли шумно. Кое-как лоб перекрестили. Да не на икону, совсем в другой угол, где на картинке баба голая лежала. Другие не легше, скоту сподобились, шапки не стянув перед покойным, на водку навалились. Лесник, чтоб до греха не дойти, из хаты опрометью выскочил.
Память не по-всякому живет. Это знал Макарыч. И все ж свербило внутри, когда люди забывали обычаи. «Память… А кто мине вспомнить? Марья. Може, и Колька. Да надолго ли? Память…
как снег. Была да вышла. Стаяла. Мине она ни к чему. Хочь в земли лежать стану, при гробе, как человек. Не то што», – вспомнились те, что сгинули в морозилке. И пожалел Акимыча. Кто о нем подумает и навестит? «Вон сколь добра люду исделал, а все без проку. Мучеником жил, мучеником и помреть». И больно стало Макарычу, будто родителя своего кровного обидел. Не пригрел вовремя. Отнял последнее. Все собирался приехать к нему, да никак не мог выбрать время. Все что-то мешало.
Без Кольки зима показалась вдвое длиннее. Не с кем сходить на обход, охоту. Марья – плохая подмога в мужичьем деле. Глядя на Макарыча, она тоже заскучнела. Лесник иногда места себе не находил. То мерещилось – топотнули на крыльце Колькины шаги. То во сне видел. Бывало, от его голоса просыпался. Едва дождался весны. По дням, по снам пытался угадать приезд мальчишки. Но однажды, махнув рукой на сон, такое часто грезилось, ушел в дальнее урочище. Вернулся – глазам не поверил. Колька, вымахавший в мужика, сидел за столом вместе с Марьей и уплетал варенье.
– Приехал!
– Да я с утра тебя жду, – взросло ответил Колька.
– Гля-ко, вымахал, пострел. Ведмедя на кулачки побить смогешь нынче, – смеялся лесник.
Прошло несколько дней, прежде чем Макарыч с Колькой ушли на обход. Парень решил поговорить обо всем откровенно. Дома Марьи стеснялся.
– Слышь, отец! У меня Полька есть.
– Хто? – присел Макарыч от неожиданности.
– Полька, говорю. Девчонка такая, – Колька полез в карман, достал фото, Макарычу протянул. Тот, всмотревшись, поперхнулся:
– Девка, сказываишь? Ты ето черт в перьях. Пакли на башке, ровно у старой козы на лыске. А лоб-то, лоб – ума в ем ни на понюшку. У бурундука и то поболе будит. Да и косая. Бона глаза у ей по разным сторонам разбеглись. Чую – шельма. Непутная. А ишо – Полька. Срамота единая.
Колька вспотел.
– Сам говорил – не с рожи воду пить.
– Такая напоит. Так напоит – не токмо я, никакой хвершал не подможить.
– Нравится она мне. Добрая.
– С какой стороны. Може, пригрела ужо?
Колька молчал.
– Враз видать, хваткая. Ета все когти в ход пустить. Иначе девкой в гроб сойдеть. Ты и ухи развесил.
– Привезти хотел, чтоб сам глянул.
– Упаси тибе Бог. Избу мине не марай. Век твой долгай, дасть Господь, добрая баба сыщетца.
– Вот и поговорили, – уныло буркнул Колька.
Макарыч, продираясь через стланик, матерился по-черному. Парень знал – виной всему Полька. Но что делать? В техникуме многие ребята дружили с девчонками. У кого ее не было – осмеивали. Все считали себя взрослыми.
С Полькой он познакомился на вечере в техникуме. Она стояла одна. В глазах слезы. Все девчонки танцевали, а ее никто не приглашал. Даже на кофту никто не посмотрел, что купила с первой стипендии. И уж совсем была готова девка разрыдаться от злости, как вдруг услышала:
– Станцуем?
– Конечно, – не скрывая радости, кинулась она к Кольке.
Поздним вечером шла по улице медленно. Пусть все видят, что с парнем Полька идет. Хотелось завизжать от радости, когда мимо подружки проходили. Не веря глазам, удивленно останавливались. Если б это не первый вечер, велела б под руку себя взять. Пусть девчонки с зависти мрут. То-то теперь пугалом никто ее не назовет. Она смотрела на Кольку. Симпатичный, ничего не скажешь. Внимательный такой. Морсом угостил. Пальто помогал надеть. Эх, жаль, что дорога к общежитию короткая. Уходить не хотелось. Сердце мячиком прыгало. А Колька недогадливый. Протянул на прощание руку и исчез в темноте. Даже свиданья не назначил. Полька успокаивала себя. Мол, сам найдет. И нашел. На другой день.
Колька не понимал, почему ребята так недолюбливали девчонку. Обзывали совсем скверно.
– Что она вам далась? Не всем же красивыми быть, – взвихрился парень. Даже стукнул кого-то в ухо.
– Дурак! Да она, она вконец дрянь, наших девчонок, знаешь, как опозорила?
– Фискалка.
– Скряга!
– Дура, – загалдели парни.
Колька хотел было выскочить из комнаты, но его удержали.
– Стой! Послушай!
– Моя Наташа с этой в одной комнате жила. Мы с Наткой давно встречаемся. Как-то на вечере были. Ну и та тоже. Увязалась с нами. Одной,
мол, страшно. Плелась следом. Мне, как на грех, шарф на Натке в глаза бросился. Похвалил, что идет он ей. Так та сзади кинулась. Шарф тот с Наткиной головы содрала. Оказалось, что она его ей на вечер дала. А мне неловко. Люди идут, оглядываются. Натка чуть не ревет. Зима. Холодно. До общежития далеко. А тут еще Полька идет рядом и орет. Нечего, мол, чужое носить. Свое иметь надо. Дал я ей тогда по зубам, наутро она к директору. Чуть из техникума не выгнали из-за той твари.
– Это что. Вот как она трояк пожалела для Танькиной матери…
– Как?
– У девчонки мать умерла. Отец на пенсии. Решили с похоронами помочь. Собраться по трояку. Так Полька при всех скандал закатила. А что, говорит, как на дармовщину всем умирать понравится? Не хочу из-за них голодом сидеть!
– Это она с виду тихая. В душе у нее черт сидит. Не из-за лица с нею не дружат. У нас тоже не красавицы. Но хоть что-то ценное, да есть. С твоей не то на профиль, за ягодой нельзя пойти. Ненадежная она. Злая. И что ты с ней встречаешься? – удивлялись ребята.
Но Кольку уже тянуло к ней. Не верил разговорам. Да и зачем? Не может его Полька быть такой. Она вон какая смешная. Все в стороне держится. Жалуется парню, что худеет сильно из боязни, что он с другой дружить станет. Однажды целый пузырек одеколона на себя вылила, чтоб Кольке больше понравиться. Парню даже плохо от этого стало. Он не любил одеколонов. Она же губы стала красить под морковку и волосы на тряпочки крутить. Такую вот в рожках он увидел ее и перепугался. Чуть не ушел от злости.
– Будь самой собой, – просил парень Польку.
И уж совсем было повез ее домой к Макарычу.
Билеты взял загодя. А вечером перед отъездом решили на кладбище сходить за черемухой. Большие букеты нарвали. Колька влез на дерево еще несколько веток добавить да вдруг шаги услышал. Глянул, кто-то через могилы ломится. Прямо к ним. Полька мигом через забор перемахнула. Букет бросила.
– Коль, это я, Женька. Сорви и мне, – попросил парень.
– Черт тебя поднес! Откуда выведал?
– Полька похвасталась.
Вдвоем они тогда молча перекурили под обломанной черемухой.
Он не пришел за нею. Улетел домой один. Молча, уже совсем по-мужски, проводили его ребята.
Колька знал, что больше не придет к ней. Понял: значит, не зря вот так говорили ребята. И все же теперь, сам не зная зачем, ляпнул о ней невпопад Макарычу, поделиться хотел, рассказать. Тот и слушать не стал. Вон уже и до зимовья рукой подать, а он молчит, будто с соленым матом язык проглотил. Лишь подойдя к порогу, сказал, как обрезал:
– Человеком стань, а уж потом дело вольное. При бабе што имел – потеряешь. Весь ум высушит, ровно проказа.
Не знал Колька, что ждет его утром.
А оно народилось теплым, солнечным. Умытым небом в окошко глянуло. Макарыч за избу пошел доглядеть, как там пчелы приручаются. Перед сыновним приездом два улья смастерил. Хотел Кольку медком побаловать. Свою затею в большом секрете берег. И только было кусты смородины разгреб, где улья прятал, как вдруг услышал:
– Здравствуйте, дедушка!
Лесника будто шмель в зад ужалил. Взвихрился от неожиданности. Да так и остался на месте с открытым ртом. А девчонка засмеялась заливисто. Ну вот хохочет и хохочет! Аж слезы у нее на глаза навернулись.
Макарыч, опомнившись, тоже рассмеялся. Незадачливо поскреб затылок.
– Напужала ты мине.
– Вижу.
– Ну, здравия тибе. Откудова ж эдакую махонькую к нам Господь послал?
– Да я тут неподалеку с геологами работаю.
– То-то я не догодалей, – указал Макарыч на брюки и рубашку девчонки. И спросил: – Давно здеся?
– Вчера пришли. Да только начальник нас бросил. Одних. Сам уехал ученость защищать.
– Хто у вас главнай-то?
– Потапов… Может, слыхали?
– Как жа! Тому сына бросить не жаль. Мать родную запродаст. А вас-то и подавно…
– Есть хочется, – потерла живот девчонка.
– Давай в избу, – скомандовал Макарыч. Немного опередив, икнул: – Марья! Встречай гостью!
Колька ничего не знал. Возвращался с речки. Он успел искупаться, а потому шел в трусах, босиком. Макарыч, завидев его, улыбнулся и не предупредил.
Парень опешил, стоя у косяка. Потом, как ни в чем не бывало, подошел:
– Здравствуй, – протянул руку.
– Ну весь в мине. Не посрамил, — обрадовался лесник.
Зоя понравилась всем.
Полька, Полька… Лицо забылось. Все, что было с ней, ушло безвозвратно.
А Зоя – вот она. Чай пьет с покряхтываньем, как Макарыч. Картошку печеную ест почти нечищенную. Некогда. Вначале Кольке захотелось, чтобы у него вот такая же сестра была. Такая же ловкая, как мальчишка.
Макарыч любовался девчонкой. А та, поев, на иконы уставилась. Смотрела, будто впервые увидела.
– Много-то как и все красивые! – восхищалась девчонка.
– Разе впервой видишь?
– Ага.
– Огчево жа? – удивился Макарыч.
– У нас в доме таких не было.
– Тьфу, идол. Выходит, тож анчихрист?
– Нет. Чеченка я.
-Што?
– Ну, национальность моя такая. С Кавказа сюда приехала.
– Вот пропасть. И как только Господь людей не обзоветь? Ровно по празднику тешилси, всяких понастрогал. Они жа, супостаты, ево не ведают. Не по-людски так, – буркнул Макарыч.
– Ты не сердись на него, он у нас хороший. Правда, с характером, – сказал Колька.
Зойка помрачнела.
– Я на одном сердитом воду вожу, – встрял Макарыч.
– Ну, ладно тебе, – оборвал парень.
– Я не анчихрист. Просто наша вера и обычаи мне многое покалечили.
– Пошто эдак?
– Из дому из-за них сбежала.
– Вона как!
– Чуть замуж не отдали.
– Так то разе худо?
– Еще бы! Силком-то. Да и к чему мне такое?
– Што ж родители оплошали?
– Я тому парню чуть не с пеленок обещана. Старики подарки за меня получили.
– От оказия. Што ж ныче-то сталось?
– Ничего. Поначалу искали. Потом надоело. Вернули, наверно, подарки. Мне, правда, семь разведок сменить пришлось.
– Ух ты, молодчага. Как же сбечь смекнула?
– На лошади. Лесник чертом крутнулся.
– Вот девка! Мине б тя по молодости. Ужо не упустил ба!
Зойка, глянув на Макарыча, снова засмеялась. Туча прошла стороной.
– Сколь годков-то тебе? – спросила Марья.
– Семнадцать.
Макарыч отчего-то задумчиво посмотрел на нее. Горькие, глубокие, как раны, морщины пролегли вдоль лба. Да глаза его поземкой затянуло. То ли припомнил свои семнадцать, то ли чужие тягостные пожалел. От того весь сник, сгорбился. Жизнь пыталась его в рог скрутить. А он ей рога ломал. Так на кулачки и тягались.
– Спасибо вам, мне пора, – встала Зойка,
– Отчего так скоро? – всплеснула руками хозяйка.
Да меня, наверное, ищут.
– Как жа вы теперича без главново начальника? – удерживал Макарыч.
– А какой толк от него. Мы себе проводника ищем.
– Куда свово дели?
– Я же сказала. За ученостью уехал. Он и за проводника был. Места, говорил, знакомые. И правда, не блудили.
– Обнюхалси, знать. Попривык.
– Нам от того не легче. Без проводника мы что без головы. Вот и ждем Потапова. Ни профиля, ни заработка нет. Запрашивать продукты и то неловко. Мне-то ладно. У ребят семьи. И время идет.
– Работы надолго запланировали? – спросил Колька.
– На три месяца.
– Где последний репер ставить будете?
– В верховьях Каторжанки.
– Ну что, отец, может, я к ним пойду проводником. Как думаешь?
– Да Бог с тобой, Коля! Что мы тебе плохого сделали? Не успел дома побыть, нас порадовать, а уж и бегишь? – заплакала Марья.
– Выручил бы ты нас, – тихо, будто сама себе, сказала Зоя.
Макарыч теребил бороду. Ему очень не хотелось отпускать парня. Наскучался по нем. Вон уже какой подмогой в доме стал. На работе заменяет. Туго без него в избе. Да и потолковать-то по-мужичьи не с кем. Колька вон какой башковитый. Годов хоть и мало, но соображенье, что у матерого мужика. Годы свои давно перерос. Макарыч даже советуется с парнем иногда. С другой стороны – пора Кольке себя на людях показать. Может, к Зойке потянуло, дай-то Бог. Хоть ту забудет, что на бумажке в кармане сидит. Эта девка куда с добром. Отчаянная голова. Хорошей бабой будет. То не беда, что оба молоды. Смолоду всякая ягода вкусная. Там, где что оботрется, обомнется, перемелется. Глядишь, еще внуков поняньчить доведется. И Макарыч, глянув на Кольку, сказал:
– Поперед пути не стану. Коли хошь, чуешь, што надо – иди.
Марья побледнела. Залилась слезами пуще прежнего. Запричитала:
– Одумайся, отец! Вдруг сгинет. Единый он у нас. Не пускай. Млад еще. Голова горячая. Рано ему в тайжищу-то. Нехай дома. Около нас. Все сердце по нем изведется. Каждый день слезы душить станут. Не терял он там уголь этот, распроклятый, золото не закапывал, зачем искать станет? Кто его накормит, обстирает там? Да неужто ему девчонка нас заменит? – обиделась она на Зойку.
– Не из-за себя зову, – вспыхнула та.
– Хошь бы из-за сибе. Так то не зазорно. Баба за свое щ асте руками ухватитца должна. Ить такия, как наш, на тышшу единай, – похвалился Макарыч и добавил: – Чай, в науке уже цельный год отбыл. Через три зимы сам начальником сделаитца.
– Зачем ты, отец, такое вот зря говоришь? – перебил его Колька.
Макарыч хитро подморгнул ему.
– Так я сегодня и пойду, – решил парень.
Довольная Зоя улыбнулась.
Макарыч вышел на крыльцо проводить Кольку. Не целовал. Ни о чем не просил. Только слегка стукнул парня по плечу. Подтолкнул к Зойке и сказал:
– Ступай! Да не оплошай там.
Он долго смотрел, как все дальше в тайгу уходили Николай и Зойка. Вот они и совсем скрылись с глаз. Лишь легкое потрескиванье сучьев жгучим эхом отдавалось в сердце лесника.
– Што ж мине н онче осталось-та? С Марьей носки вязать? Али тараканов на печке пужать? Вот идол. Внутрях пусто. Ровно мыши там попировали.
Знал лесник, что, отпустив Кольку, снова будет изводиться по нем. Но как иначе? Ведь вон и старые деревья подолгу поросль от себя не отпускают. Под крышу прячут, как наседка цыплят. А молодь настырная. Чуть на ноги покрепче встанет и – прощай мамкина юбка. Пусть снег на неприкрытую голову, пусть мороз жжет до печенок, сладок ей горький урок. На молодом теле синяки да ушибы скоро заживают. Коя шишка и посвербит, так и то на пользу.
Марья смотрела в окно:
«И зачем только Макарыч отпустил Кольку с какой-то пришлой? Ну кто она им? Разве так деется. К моей просьбе не прислушался, отмахнулся, ровно от мухи назойливой. Ровно уж и никто я тут. А уж третий год живем. Видать, все мужики такие. Лишь бы свою задумку сполнить».
Макарыч… С ним ей легко. Домовитый, спокойный. На нее почти не лается. Разве иногда оборвет. И то чаще взглядом. От какого у самой сварливой бабы язык, что хвост у испуганной собаки, подожмется. Редко он балует Марью словом ласковым. Улыбкой скупо дарит. Но уж коль случаетс я такое, помнит это Марья подолгу. Улыбнется лесник ей, и глаза его становятся, ровно у мальчишки: добрые, с чертиками посередке, смешные. И морщины, лоб прорезавшие, разглаживаются. Глянет на него в такую минуту и жить хочется, и невзгоды забываются. А Макарыч обнимет ее и спросит еще эдак душевно:
– Чай, не сладко тибе со мной, Марьюшка? Не люб я тибе? Разе такова ведмедя хотела? Ни тепла от мине, ни ласки. Мороки лишь прибавил.
– Да Бог с тобой, отец! Ты что это? Бабе-то много ли надо? Защита есть, кров тоже, сыта, в тепле, чего боле желать?
– Бери, што могу тибе дать. Да только вот чую – что-то точит тебя. Молчишь. Может, поперек души я тибе?
– Будет, отец. Шуткуешь худо. Люб ты мне.
– То-то, – сиганет козлом на радостях Макарыч.
«И с чего в ем сумленья берутся?» – думалось Марье. Не знала она, что никогда он не сомневался в ней. Просто хотелось ему иногда еще раз услышать, что люб ей. Эти слова он повсюду с собой носил. Далеко, далеко прятал их, словно от стужи, от сглаза берег. Жизнь много раз кидала его с обрыва. Никто никогда не помог на ноги встать. Вставал – валили. Силе, здоровью, смека л ке завидовали. Бывало, бабы на него оглядывались. Видный мужик. Но любить не любили. Так, для баловства глазами зазывали. Иногда такое им удавалось. Но чуял Макарыч жар в теле и холод в душе.
Уходил, не порадовав. Плоть на озорство не менял. «Не из таковских, – как сам говорил: – Не кот я шкодливый. Штоб семя мое беспризорным росло. Коль бабе нужон, нехай не на ночь, навек моя станит. Всево нехай признать, вместях с промашками. Баба она хто? Она тень свово мужика. И уж какой я зародилси, такой и помру. Пущай она и мое нескладное любит».
Марье подчас казалось, что она всю жизнь жила с Макарычем. Что до него у нее никого и ничего не было. И самой не было. Женщина жила его заботами и тревогами. Вот и теперь Макарыч стоял на крыльце, а Марья видела, как вздрагивают его плечи, горбится спина. Знала: он не повернется, пока не обсохнут слезы, а вернувшись в избу, как ни в чем не бывало, скажет что-нибудь хорошее, забыв, что в морщинах долго не высыхают слезы. Она лишь вздохнет где-нибудь у печки. Сошлется на какую-нибудь болячку.
И долгим, долгим станет вечер у стариков. Они будут молчать про то, что не дает покоя и рвется с губ. Но зачем бередить и без того больное?
Макарыч долго стоял неподвижна. Смотрел на тайгу, куда ушел Колька. Убережет ли она его? Почему-то некстати вспомнилось свое, неказистое. Те пятнадцать лет.
Ко многому были приспособлены его руки. Но вот к тайге… К ней нужно было сердце. Руки она познала всякие. Многих наказала. Не пустила других. В топях задушила, в пожарах сожгла, не уберегла от зверья. Иные люди сами в ней зверели. Смеялась тайга, оскалив черную пасть над двуногими, что, не найдя выхода, друг дружку ели. До такого ее зверье не доходило даже в самую лютую годину. Забавляясь, тешилась над утопающими и ее глубоких коварных речках. Знала крики их никто не услышит. Ни старого, ни малого не щадила тайга, коль не взлюбятся. Сама приговор выносила. Никого не миловала, не прощала. Только избранных любила тайга. Щадила, баловала. А потом приковывала к себе навсегда. Кого приютила, тот не смог вырваться. Колдовкой присушивала. Даже мертвых не выпускала. Могильными стражами хмурые печальные ели ставила. Да кресты березовые. Белые, как утренний ленивый туман.
Макарыча тайга встретила настороженно. На каждом шагу проверяла. За оплошки больно била. Знал лесник, что нельзя лебедей стрелять. Да однажды не выдержал. Счет дням голодным потерял. А тут лебеди. Осенил себя крестом. К ружью приложился. Пальнул. Лебедку срезал. Лебедь-то долго над подружкой кружил. Звал так нежно, что у Макарыча лоб вспотел. Как человек, убитую оплакивал, а потом взмыл высоко. Лесник даже из виду его потерял. Но не успел опомниться, как тот кровавым комком около лебедки упал замертво. Макарыч вначале порадовался: вот, мол, и поем. Да только куски в горло не лезли. Вроде не мясо, а куст шиповника в рот запихал. Мокрота глаза одолела. Положил Макарыч добычу в мешок и было дальше двинулся. Осенний перелет шел. Думал гусей пострелять. Сел под кедрач. Запрятался. Как вдруг услышал крик вороний. Выглянул. А ворон над ним, как над падалью, кружит. Кружит, родичей на пир скликает.
– Ужо я-те, стерва, накричу! Чертова задница! Ишь, лешак, ослеп. На живово заритца, анафема!
Вскинул ружье старик. Да вдруг из глаз искры полетели. Тело обмякло, осело гнилой копной. В ушах звон погребальный. И туман поплыл перед глазами, черной сажей вымазанный. Вот туман в клубок скрутился. Обернулся котом: глазищи зеленые пялит на Макарыча и облизывается.
Лесник ему кулак показал. А кот хвостом крутнул. Зубы оскалил. К человеку подкрадываться стал. А сам в глаза смотрел и улыбался. Прямо на горло целился. Вот замер, прижался к земле. Только хвостом, что палкой, молотил. Макарыч его обозвал паскудно. Тот даже не сморгнул. Тогда, собрав последние силы, лесник перекрестился. Кот как взвыл. Закрутился бешено. Исчез. Только закричал по-вороньи.
Очнулся Макарыч, глядь – ворон над ним сидит. Орет базарно.
– Цыть!
Ворон, испуганно поперхнувшись, тяжело отскочил. Макарыч сел. Тяжело гудело в голове. Огляделся и понял, что сел он под кедрач, у которого сучище отгнил. Как только он пошевелил дерево, сук и огладил его по башке. Чуть и навовсе не пристукнул.
– Прости мине. Господи. Не стану боле заритца на лебедей. Но не с жадности грех содеял. Прости раба свово, – шептал лесник, уходя от страшного места.
Вспомнилось и то, как однажды, тоже по голоду, куропатку с выводком подловил. Последний-то птенец шибко шустрым оказался. Далеко убежал. Казалось, вот-вот поймает его лесник. А тот – раз в сторону. Хоть птица малая, а ум имела. Бросил было погоню, да приметил – уставать начал птенец. Снова погнался. Птенец на кочку, Макарыч за ним. Да только кочка обманной была. Провалилась под ногами. По колени в трясине увяз. Вокруг ни деревца, ни кустика, под руками трясина. Чует, как ноги все больше затягивает. Изо всех сил стал выкарабкиваться. Да нешто трясина выпустит? Закричал во всю глотку. Никто не откликнулся. И только тут заметил почерневший сук, неведомо как сюда попавший. Еле дотянулся до него. Он и выручил.
Продрогнув то ли от холода, то ли от воспоминаний, Макарыч вернулся в избу. Долго вился над трубкой задумчивый дым. Оседал на белых висках, путался в седой, как облако, бороде.
Марья вязала носки.
– Кому ты их? И так вона неношеных сундук полон.
– Да этой, что приходила.
– То верно.
– Может, в утро сходим к ним?
– К Акимычу надоть. Давненько изведать сбиралси.
– Надо. Кабы не он…
– Я ба выходил…
– Тоже так.
– Взавтре поедем.
– А что? Поедем!
У Акимыча в стылой избушке холодная сумрачная тишина.
– В селе, верно.
– То ба ладно. Абы не окочурился.
– Типун те на язык! – одернула Марья и пошептала на икону.
– Иде жа? Кабы в селе – просказали ба…
– За травой или за корешками пошел.
– Ты поглянь! Печь-то дроглая. Почитай, с неделю не топлена.
– К нему никто не приходил.
– То-то и оно. Старик, покуда ноги носили,
нужон был. Как што – позабыли.
– Давай заночуем. Там видно станет, — предложила Марья.
Макарыч затопил печь. Марья принялась домовничать. Когда в окна заглянули сумерки, за избушкой шаги послышались. Тонко взлаяла дверь.
Акимыч вошел трудно. Прищурился. Узнав, заплакал.
– Не ждал? – грохнул Макарыч.
– Думал, и вы позабыли про меня.
– Доброе не забывают, – подошла Марья.
– Внучок-то с вами?
– Ого! Да тот внучок мужиком сделался. В тайге-матушке типерь. Уголь ишшеть.
– На кой ляд он ему сдался?
– С геолухами ушел.
– А што им боле дела не сыскалось? Ох худо. С шалапугами связался. Так и мой выродок забавлялся.
– Я сам с такими работал. В проводниках.
– А это што?
– Ну, заместно собаки дорогу показывал. Што б не блукали.
– Чево ж кобеля не завели? Ево и харчить не так накладно.
– У ево удержу нету. Нам жа и голодовать доводилось.
– Внучок нешто толе за кобеля с ими умотался?
– Тож в проводники.
– Вот супостат. Как жа ты отпустил? Не пристало ему темным делом баловаться. Оженить стоило б. К дому привязать.
– С девкой ушел, – тонко пожалилась Марья.
– Она тож из блукащих?
– Ихняя.
– Вовсе худо. От рук отобьется вконец. За виски оттаскал ба.
– Ох-х… Так и оттаскаишь. Колька то с мине вымахал.
– Поглянуть ба.
– В науке год был.
– Ии к чему. Наша наука мужичья – дом,
баба, дети. Обжился б. Как люди. С чево не усидел? Те науки умы с панталыку сбивают.