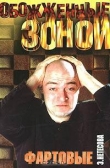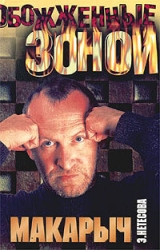
Текст книги "Макарыч"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
– Ну, разошелся. Уймись. Всех хулить грех, – не вытерпела Марья.
– А што? Коль за крепким мужиком да в добрых рукавицах держать, любая скотина послушная. Ежли ее хлебом с розгой наполам потчевать, – не унимался Макарыч.
– Ты б про Кольку Акимычу просказал.
– Чево говорить-то? С облезлой козы и клок шерсти не взыщешь. Так и с им. Одно слово – от– резанай ломоть, с краюхой не срастетца.
– Чево ж так?
– Намедни поехал я с етими анчихристами в их логово. Всякаво натерпелси. На сопку влезли, вышку узрели. Прости Боже, срамней не доводилося сустревать. Распялена на все стороны, а на верху заместо крыши – рогульки торчать. Вкруг стой вышки по долгому яшшику несусветное тикеть. Думал – вода. Ан, Господи, дерьма худче. Грязь, да ишо и вонючая. Колька ж вкруг ей петухом кружить. Нюхаить. Рукой биреть и глядить.
– На што в науке ево держали? – горько выдохнул Акимыч. – Вконец малый умом тронулся. С грязью смешался.
– Да не смешалси. Слюбилси. С грязи я б выволок. Душу-то как от ей оторвать?
– Нешто управы на Кольку не имеишь?
– Припоздали. Спортился вконец.
– К тебе-то как?
– Навроди опамятовался. Вилси вокруг. Ну да я забыл про паскудство. Отлегло.
– То-то и оно. Прощаитца ему много.
– В отряди ихнем б ы л. Добрый там ребяты. На хронти бились. Нонче с Колькой Андрей работать. По вахтам разделились. За начальников сделались. Мине звали остатца, – задрал Макарыч бороду.
– Зачем же? – удивился Акимыч.
– За главнава хотели произвести. Да я не стал. К чему ето типерь?
– Может, зазря отрекся? Сгодился б им. Подмог. И Колька все ж на виду стал бы.
– А Марью на каво поручу?
– С ей бы ехал к им.
– Ого! Бабе там и вовсе несподручно. К тому жа там, окромя кошки, бабы в жисть не бывало. Че делать стала б?
– Едово варить зачала. Ей-то легше, чем нашему брату.
– Мужиков обиходить лишь с виду легко, – вставила Авдотья.
– Нехай дома будить. Нече серед мужиков толчись.
– А я и не согласная б туда ехать. Хоть и просил бы. Не лежит моя душа к тайжи щ е. Тут ровно нечисть маемся, еще куда-то в самую глушь не доставало забраться. После слышанного моя нога там не будет.
– Марьюшка, касатка, не зарекайся. Хто знаит, как в жисти получитца? Оно, ить знаишь, Бог свое, а черт свое. Нешто наперед узреть? Я тож сказывал – не надо мне бабу. А судьба взяла и по– своему.
– Не жалкуешь ноне-то?
– За доброе на судьбину не серчают. Все от ее да от Бога. Вона седни селом ехали, глядь – детва во дворе орет. Слезами умывается. Сошел я с телеги и к ним. А ребятишки и сказать ничево путнево не могут. Оказалось, отец с войны возвернулся и бабу за шкоду колотит. Детва в рев и вдарилась. Покуда суть да дело, вошел в избу. К мужику тому кинулся. Бабу отнял. Говорю – што творишь, пес?! Детва во дворе ревом ревет, изошлась кричамши, ты ж с бабой расправу чинишь. Нашел с кем тягаться. Покудова я его вразумлял, ево баба на меня с кулаками кинулась. На што, говорит, старой злыдня, в чужу хату не спросимшись всу н улси? Мой мужик, мы и разберемся. Иди отсюдова, покуда не покалечила. Ну я и ушел. Иду двором, а они, слышу, хохочут. Тьфу ты, думаю, опять в окаянство влез.
– Ну и глупой мужик-то, коль бабе повадку дал. Оне, што кошки, повадютца по чужу сметану, кольем не вышибишь с их спесь.
– Я ж усмирить хотел. Ребят пожалел.
– Ништо. Ети с ню хаютца опять.
– То опосля докумекал.
– Так ты завсегда в зад умен.
– Пошто ты эдак на меня?
– То долго те припоминать. Сколь раз тибе сказывал – идешь куда, али едешь, не сворачивай на крик. Ить вся борода с таво заплевана. Нетто позабыл?
– Дак разе худова хотел?
– Кажному своя судьбина. Свои радости и свои наказанья. Все от Бога, так хочь ему не перечь. За то битой да охульнай был. Про сибе заботься да про Авдотью. Тута мужиком становись, коль нужда будит. С ума соскочил. Мужа с бабой разнимать удумал. Оне б вдвух из тя, худосочнава, дух могли ба выпустить.
– Ныне жисть с меня не просто выбить.
– То-то зрю петушисси.
– Вдругоряд умней буду, – пообещал Акимыч.
Женщины накрывали на стол. Двигались тихо, бесшумно. Умолкли и лесники, а в окно, споря со светом свечи, вползла румяная, будто в бане отпаренная, луна. Она высветила бороду Акимыча, та вспыхнула серебром, заискрилась. Темные губы старика ожили. Зашевелились волосато. Поди узнай, что шептал Акимыч. Долгое одиночество приучило его разговаривать с самим собой. Может, и сейчас старая привычка сказалась. Дала знать о себе. А может, в неверном свете виделся ему Колька, его внук. Его последняя родная кровинка, близкая и далекая. Может, с ним и говорил старик, рассказывал обо всем, о чем не довелось побеседовать с глазу на глаз. А парень в это время… Эх, никто не видел, да и сам он не мог предугадать такой оказии. И надо же было сменить верхового в не ровен час. Тот простыл. Колька влез в его люльку. Спуск инструмента в скважину подходил к концу. Все шло хорошо. Как вдруг крюк, тот, чем ловят трубы, заклинил. Колька потянул на себя канат посильнее. А тот, лопнув, ожег плечо. Да так, что парень уронил обрывки троса на площадку. Рукав рубашки вздулся, побагровел. Рука не шевелилась. «Не рассчитал», – мелькнуло в голове.
Не слыша команды сверху, насторожилась вахта. Пока вызывали врача из города, Кольке становилось хуже.
– Не глянул я тогда на него. Рванул, а канат и захлестнул. Так ведь мог совсем руки лишиться, – то ли винился, то ли оправдывался бурильщик.
Но его не слушали.
– Езжай за стариком. Он, может, и вылечит. Врача пока дождемся! Вон ветер какой. Полетит ли? На вездеходе верней. Да жми на всю катушку, – просил Андрей водителя.
Врач уже прилетел, когда вспотевший упаренный вездеход развернулся перед будкой. Из него пулей выскочил лесник.
Колька лежал в постели. Желтый, словно кусок воска, он слабо улыбнулся Макарычу.
Врач готовился сделать укол. Шприц в его руках пускал фонтанчик.
– Чево ты тут удумал? – подошел к нему лесник.
– Видите сами.
– Каво вливать порешил?
– Морфий.
– Че такое?
– От боли. Сестра, рука обработана? – не обращая внимания на лесника, спросил врач.
– Нет, еще кровь не остановили.
– Куды вы годный, клистоправы! А ну, сторонись! – Лесник подошел к Кольке, оглядел похолодевшую руку и рану. И вдруг закрутил ее вверх так, что парень застонал от боли.
– Ништо, сынок, малость стерпи.
Кровь быстро перестала сочиться из раны.
– Сестра, марганцовку!
– Подь с ей знаешь куды? Моя марганцовка завсегда при сибе, – похлопал себя лесник пониже живота, повернувшись к медсестре, сказал: – Ты ба, краля, на воздух вышла. Чево при мужиках торчишь? Иди, иди, касатка, ишо наглядисси на мужичью голь, коли Бог дасть.
Та, покраснев, вышла. А Макарыч помочился на рану. Врач, ошеломленный, ничего не мог понять. Придя в себя, возмутился:
– Что тут происходит? Кто вам позволил прикасаться к больному? Вы даже руки не мыли.
– Нече глотку рвать! Не то заткну, – двинулся на врача лесник.
– Кто меня вызывал? – продолжал возмущаться врач.
– Ну вызвали, да не стоило, – не выдержал Андрей.
– Возьмите спирт. Протрите рану. Заражение может получиться.
– О! То ладно! Спирт завсегда гож, – взял Макарыч пузырек и стал искать кружку.
– Вы что?
– Ты дал! А уж куды ево приспособлю, не твово мозга забота. Нетто мужика снаружи спиртом
трут? Ево внутря льют. То и от болев и для сна. Ты ж, шут холощенай, умом свихнулси.
Макарыч угостил спиртом Кольку. Тот вскоре уснул. Притащив теплого пепла от костра, лесник присыпал им руку парня. Обвязал полотенцем.
Как ни артачился врач, Макарыч так и не подпустил его к Кольке. Пришлось улетать. А лесник, оглядывая утром руку парня, довольно улыбался:
– То-то чисто сработано. Заживеть, што на кобеле.
Макарыч не скрывал своей радости. Рука у Кольки заживала. И Андрей все настойчивее уговаривал лесника остаться на буровой.
– Идол ты малахольнай! Не блазни. Куды я старуху-то подеваю?
– А пусть там живет.
– Ишь, шустрай. Не чужая она мине. Да и как я без ей? Без сугреву ноне не едина тварь не живеть.
– Приезжать будешь.
– Велика отрада к своей кровной, ровно к полюбовнице, ездить. Ить покудова добересси в мою берлогу, свет не ближний, заместо мужика мочал кой в дом вопресси. Не-е, упаси Бог от ентово.
– Тогда и ее сюда перетягивай.
– Ого! Удумал? Она дикая!
– А нам-то что? Будет при деле, как и все. Мы тут друг на друга не больно-то смотрим.
– Какое дело ей сьпцишь? Она в грамоте не боле курицы кумекаить.
– У кастрюль грамота не нужна. А то у нас мужики в поварском деле совсем не смыслят. Запарились. Женщине у печи куда сподручней.
– А что, отец, верно ведь Андрей говорит. Давай, соглашайся. Хватит тебе там маяться. Здесь все вместе будем. Все на глазах, – вставил Колька.
– Погоди, обмозговать надо. С места обжитова едины птахи без жали срыватца могут. А вот в обрат вживе не все вертаютца. Не всяко место человека взлюбит. Мине ж в зимовье кажен бурундук по нюху признаить. Как роднова. Много там всякава перебыло. Потому оторватца оттель не можно.
И вспомнилось леснику свое зимовье. Окривелое, черное от дождей, оно еще пыжилось смотреть на мир задиристо. Хотя из рассохшихся пазов давно уже лез клочьями мох, а на прогнутой крыше лебеда выросла. Редкая, жухлая, она – что волосы на голове у старика. Не надо им гребня. Подул верховой ветер – раскудрявит, пригладит их дождь. Зато на солнце кажется, что крыша жила сама по себе и даже д ышал а. Горбатая труба насмешливым хохолком лениво пускала в небо кольца, дымила, значит, жила.
Загорелые плечи зимовья в последние годы все чаще потрескивали от жары. И от холода. Дом, как и люди, к старости врастал в землю. Покореженная завалинка еще исправно держала тепло. Но уже сочились меж досок на землю опилки, словно кровушка бежала из жил зимовья. Да окна не весело, как ранее, встречали хозяина. Смотрели на мир придирчиво, по-стариковски. От частой простуды охрип порог. Под шагами он давно не смеялся звонко. Пружинил под ногами, стонал. Будто на годы жаловался.
Откуда было знать Макарычу, что сейчас сидел на нем Акимыч. Ждал лесника, к о гда тот вернется. Ведь всполошили их ночью. Сорвали Макарыча с лавки парой слов: «Кольке плохо». Нет, не Аки– мыча, хоть он и родной, Макарыча позвал. А ведь лечить-то старик мог не хуже. О нем, поди, внук и не вспомнил. Помянет ли, случись смертный час?
Помянет… А что и вспомнить? Благо, хоть изредка, и навещал. Макарычевы наставления помогли. А то бы… И трудный стон вырвался сам по себе. Где Колька? Что с ним? Выходится или нет? Дни шли. Они казались вечностью. Ночью вслушивался Акимыч в тайгу: не гуднет ли где машина с тупой, как у быка, рожей? Не подаст ли голос Макарыч, возвращаясь в избу? Но тайга спала. От того ночи казались наказанием, а дни тянулись настоем полыни.
Авдотья с Марьей, проснувшись среди ночи, тянули его в избу. Он решил не уезжать до возвращения Макарыча.
– Однажды в непроглядную темь защемило на душе у Акимыча. Пошел он, куда ноги понесут. Подальше от избы. От баб, которые в любую минуту могли хватиться его. Сам того не желая, к березке пришел. Нащупал цепи, глянул вниз…
Нет, такого еще никогда не доводилось видеть. Далеко под обрывом ходил кто-то белый. Натыкался на кусты, шел сквозь них прямо к Акимычу. Взбирался по крутизне без шума. Без дыхания. Так мог идти только покойник. Он то сгибался, то, выпрямившись во весь рост, торопился, подгоняемый чем-то. Акимыч похолодел. А белое росло, надвигалось неумолимо. Старик хотел, но не мог разжать захолоделые пальцы, сжавшие ствол березы. Они онемели. Многое слышал он об этом месте. Но о таком никто не сказывал. Старик вглядывался в приближающуюся фигуру. Она светилась, как Млечный Путь. Да, это была тень. Но чья? Уж так похожая на Василинку! Вот она раскинула руки, как давно в молодости, когда приходила на тайную свиданку. Головой тряхнула, с нее волосы рассыпались.
– По мою душу, Василинушка?
Но тень молчала. Только остановилась совсем рядом, точно в лицо смотрела. По спине холодом потянуло. В коленях заныло тонко.
Тень шелохнулась. Акимыч перекрестился. Закрыл глаза. Будь что будет. Он больше ничего не мог сказать. Зубы сжались до боли. Будто их кто сдавил.
– Аки-и-имыч! – послышалось от зимовья.
Старик открыл глаза. Белая тень согнулась. Потом осела, растаяла под деревом. Будто и не было ее. Уходя, он перекрестился на то место и сказал:
– Не тужи. Чую, свидимся скоро.
– Аки-и-имыч! – раздались два испуганных бабьих голоса от зимовья.
Перекрестившись еще, отозвался:
– Иду!
Навстречу ему бежали Марья и Авдотья.
– Куды шастаишь, лунатик? Нет на тебя угомона. Што в избе не сидится? Ай тошно с нами? А кабы зверь какой? Тайга жа эта клятая чево не подсунет. До беды долго ли? Не пугай нас. Не блукай по ночам, – серчала Марья.
Но Акимыч ничего не отвечал. Ему все виделась белая тень у дерева, прозрачные руки Василинки, ее облик светлый, как память. Она жила в нем всегда. В холод, мертвая, грела улыбкой. В горе плакала вместе с ним. Ей одной жаловался на сына. И тогда они вместе грустили. Ей признавался в любви. Живой о таком сказать не успел. Рано отняла Василинку жестокая судьбина.
Макарыч возвращался домой утром. Вездеход бежал резво, как отдохнувший конь. Тайга уже проснулась. Потягивалась на солнце ленивой бабой. Машина рявкала на кочках, пугая птах громким чихом. Лесник поторапливал водителя.
Акимыч сразу услыхал долгожданное гудение. Вышел на порог спозаранку. Все караулил. И теперь блаженно улыбался. Хотя тревога темнила настроение. Что, ежели Кольке не полегчало? Но гнал сомненья прочь.
Заслышав голос вездехода, ожили и Авдотья с Марьей. Печь мигом растопили. Вздули самовар. Засуетились клушками. Акимыча не трогали. Не звали. Знали: не пойдет в избу, ничем его не заманишь в зимовье. Вон как стал на пороге, не сорвать. Рубаху застегнуть и то забыл. Благо, борода голое прикрыла. Глаза в улыбке щурил. Радовался. А брови насуплены. Попробуй, пойми этих мужиков. На языке слова их скудны. А в душу разве влезешь. Да и там бабьим умом ничего не понять.
Макарыч подпрыгивал на сиденье. Не терпелось скорее домой попасть. Водитель смотрел на него и смеялся:
– Ты, дед, как будто на свидание торопишься. Как молодой. Откуда столько прыти в тебе?
– Потому лото жил не так, как нонешние. Мужика в сибе не транжирил. От и ноне старым сибе не чую.
Акимыч в это время от нетерпения ногами сучил. Шею тянул, словно поверх деревьев хотел глянуть, далеко ли Макарыч, скоро ль приедет? А тот знай свое:
– Да погоняй ты поживей окаянную! Лихоманка ее затруси. На коне скорей добралси б.
Водитель, не сдержавшись, рассмеялся во весь голос.
– И как тебя бабка одного пускает?
– Дурак, прости Господи. Вдале завсегда и старуха девкой кажитца. И нет ее родней.
Вездеход, крутнувшись, выскочил из-за деревьев. Макарыч увидел Акимыча, заулыбался.
– Ну, што с ним? – подскочил старик, едва машина остановилась.
– Живой пострел! Што с им станетца? Малось руку ободрал.
– Ништо, до свадьбы заживет.
– Женишь эдакую шалапугу.
– Плоть взыграет – оженится.
– Иде ен на своей вышке бабу-то возьметь? Там недолго в бобылях статься. Хочь Колька-то не засидитца. С-под земи бабу выищет. Пес такой.
– То рано ишо судачить какой! Зеленай ишо. Неспелай. Карахтер – глина, лепи, што хошь. Хоть – беса, хошь – ангела.
– Ето у Кольки? – рассмеялся Макарыч.
– А то нет?
– Ну загнул! Ен сам с каво хошь черта слепит. Ни такой ен слабай, как ты помыслил. Норов будто у коня незаузданова.
– То от младости.
– Ен хитрей тибе, хочь и годами не вышел. Они вошли в избу. Марья, глянув на довольное
лицо мужа, поняла, что все обошлось.
– Ты сказываишь – зеленай? Колька ж смальства шельма. Ежли што порешит, не мытьем, так катаньем сполнит.
– Настырной, видать. В нашу породу.
– Про породу закинь. Ен от ей далеко.
Акимыч, понурив голову, засопел обиженно.
– Не бычси. Послухай-ка сюды. Поведаю тибе кой-чево. Приехал я на ту вышку, ну, с ходу к
Кольке. Выхаживал. Наладил. Хотел вертатца. А Колька-то и сказывает, мол, останьси на вовси тут.
Акимыч понурил голову.
– Мать! Колька нас навовси к сибе звал, — повернулся к жене лесник.
«Вишь, их зовет и не впервой», – подумал Акимыч.
Марья, повернувшись к мужу, удивленно посмотрела на него.
– Чево, не веришь?
– Мне то ни к чему. Ты завсигда понадобишься ему. А я-то на што? Лишняя обуза, да и только.
– Сказывали, заместо кашевара станишь.
– Дай Бог себя да тебя управить. На людей век не готовила.
– А я ужо согласилси.
– Отец, на што? Чево без тебя делать стану?
– Вместях поедем.
– Экий ты горячий. Насиженный угол покидать на старости. Чаяла, еще хоть зиму ладом пожить. Ты же извечно по тайге блукаешь. Нынче и вовсе худое удумал.
– Ладно. Пошутковал. Не сымемси.
«Я, ежели к Авдотье сын возвернется, раздумывать не стал бы. Так не покличет Колька. Эх, Господи! За какие грехи так тяжко наказать порешил? Ведаю, позови сын старуху, пойдет, не оглянувшись. Хто я ей? Обо мне пекчись, – едина маята. Там ведь, што ни говори, родные. А кому я нужон? Хочь бы смерть меня прибрала в тот же день, как Авдотья покинуть вздумает. Надоело все», – горевал Акимыч.
– Чево нахохлилси, лешак? Ай по девкам скучилси? Поглянь, бороду оттопчишь, сивой. На наш век баб хватит. Не горюнь.
– Забрось пустое. Ноне Кольку повидать хотца. Ты ж про срамное.
– Свидисси. На рычалку посадим и повезем. На том свет клином не сшелси. Гляжу, посоловел ты с чево?
– Ужель не разумеешь? – отвернулся Акимыч.
– Поди, боисси Авдотья к сыну сойдеть?
– И тово тож.
– Мы ж молодайку приглянем. На какую укажишь, ту и сосватаим.
– Могила, кажись, скоро сосватаит.
– Закинь, Акимыч, худое мыслить. Сын придет, погляжусь, а уйти мне с им некуда. Отрезанай ломоть он. Ить молчала все. Невестка и при ем надо мной изгалялась. Всяко было. С ей ли станетца, с другой ли – мине от таво не легше. Боле не хочу с-под рук кусок выглядать. Суха корка, да наша. И попрекать некому. Свел нас Бог, людям не развести. Почитай, тот с нас счастливым станит, хто первым помрет. Остатнему завсегда худче, – заплакала Авдотья.
– Охолонь, старая. Меня утешила, сама изводишься. Мокрить ныне не про што. Не бередь душу. Не мало перенесла. На што тебе на стари было ворошить? Не к добру эдакое, – успокаивал Акимыч.
– Нече, бабка, сырь лить. Ай жисть те не в радость? Протолкла леты в ступе. Надоть стало ране к лешаку притить. Сголубились ба. Детву наплодили б. Не то тужите зазря. Уточное не оборотишь. Не конь. Радуйся тому, што Бог послал на седний день.
– И то верно, – поддержала Марья, – за мужиком оно и худое к добру. Много ль нам, бабам, надобно? Мужик же и дому хозяин, и бабе заступник. Послал ево Господь, радуйся, што подарку.
– А я и радуюсь. По сей час не верю, што подвезло. Ить издохла б под забором, кабы не Акимыч, – всхлипывала Авдотья.
Акимыч подсел поближе к печке. К поющему огню. В глазах его то ли звезды, то ли слезы вспыхивали.
Макарыч, оторвавшись от дум, сопя, под стол полез. Вытащил за горло бутыль рябиновки. Кашлянул.
– А не согнать ли нам тоску едучую чаркой жаркою? Нехай хочь она души наши мужичьи гре и т. Коль боле обласкать да понять их некому, — п редложил Акимычу.
Тот послушно, скрипнув спиной, встал.
– Вино не то люду, всему живому Богом не воспрещено. Куды нам, слабым да грешным, от ево удержатца?
– А и на што?
И вспомнилось Макарычу, как однажды, обходя участок, наткнулся он на оленью свадьбу. Поевшие мухомора, одуревшие от веселья, олени заигрывали с важенками. Обычно осторожные, в тот момент, забыв обо всем, самцы отдались жизни, ее позывам. Взыгравшим в крови вином мухоморным.
Знал Макарыч, что иные считали, будто зверь этот запродал свою волюшку за мочу человечью . Вроде за то, что она в себе соль имела. И ругал лесник охальников последними словами. Да разве той соли на морском берегу мало? А ведь олени там чаще люду бывали. Да только море солью их. не купило. Ни один не остался там жить навсегда. Воду пили. Вместе с солью. Но душу там свою зверью в ней не потопили. Знал Макарыч, в человечьей моче не соль сыскал олень. А неуловимый дух, который пьянил почище, чем мухомор. За тем духом и шел он по следам человечьим. Каждому зверю свою радость судьба отпустила. Свое веселье и похмелье свое. Веселиться оленю не часто приходилось. А похмелье – когда что сослужило. Одного, спящего, пуля подстерегла, другой к важенке своей не вернулся. Вместе с весельем неволю нашел. Из-за того с человеком в одну лямку впрягся.
Вино… Не будь его, не было б потомства у всего земного. Вон и медведь силен, а тож к хмельному слабину имеет. Углядит шельмец, куда лесные пчелы мед носят, и, улучив минуту, упрет колоду с находкой. Пчелы за воровство всего его покусают. Бежит лохматый от них через кусты, бурелом. Мчится так, что пятки к ушам прилипают. А погоня слабеет. Куда им за мишкой-то? А тот упрячет сворованное подальше от собратьев. Чтоб мед перебродил, колоду ту ветками прикроет. Забросает землей. К утайке лишь осенью вернется. Выпьет до дна вино ядреное и тож к медведице в женихи пойдет. По веселью все бабы ягодами кажутся. Пока на зуб не испробуешь. Другой ввек бы на них не смотрел. Да вино медовое взбаламутило. Оженило. Вмиг семейным сделало.
А потом… Хочешь, не хочешь – рой берлогу попросторнее, семейную. А жить в ней или нет, то как судьба положит. Медведицы лишь до поры покладистые. Нагуляет жир за спиной хозяина, потомство, а уж потом и зубы покажет. Что ей до него? Жиру на всю зиму наела. Медведь позаботился. Берлога есть. Самая пора себя хозяйкой в ней почуять. Беда, если хозяин ее старый или увечный окажется. Зимовать ему в шатунах, коли не хватит сил сердешному на вторую избу. Весь-то год от досады сам на себя выть станет. Каждой травинке, муравью закажет, чтоб не женились. Себе зарок даст. Но, испив медовухи, забудет про горький урок.
– Надысь на заимке потеху узрел, – ожил покрасневший от рябиновки Акимыч. – Иду я эдак неторопко, глядь, бурундук винной ягодой балуется. Клюквой, што с-под снегу уцелела. Натрескался ей, бес, и сигает, хвост задрамши, по кочке. Харю-то в грязь отделал чище, чем пропойца. Спьяну не собразимши, на кроншпиля кинулся, што тож ягодой харчился. Тот, недолго помышляя, в темечко бурундука тюкнул. Так и помер рыжий, не отверезев. Зато и кроншпиля лиса уловила, оставила от ево единый клюв убойный. Чем тот бурундука сгубил.
– То-то все от хмельнова проклятущева, – недовольно буркнула Авдотья.
– Ты, коромысло старое, на што вино хаишь? Гво ить попы в церквах за кровь Христову проповедают. Зато от баб, как от блуда, от грязи удерживают. Загранишным попам так и вовсе запрет на баб вышел. Знать, не в вине, а в их грех. А ты хмельное хулишь, оглобля ломаная, прости мине, Господи. Бога не боисси. Поди, натура твоя жидкая не ведаит, какая сила в вине. От таво зряшное несешь. Разе гожа жисть клясть? Али твой Митька хмельным не баловалси?
– Был грех. Кабы не то, не было б той пропасти. Не оженился б на этой…
– С вина и доброе сеится. Внуки объявились. Семя зазря не сгинуло, – не выдержал Акимыч.
– Мой Макарыч в нем отказу в жисть не знал. Дурнова от таво не приключилось. Коль мужик с разумом – вино не помеха. А глупому – ни пропить, ни пенять не на што, – тихо вставила Марья…
Акимыч посмотрел на нее с умилением. Уж он– то знал, как много перенесла Марья из-за первого мужика. А уж тот пил без удержу. Без меры. Сколько обид перетерпела баба за то. Слезами горючими умывалась, ан вино не хаяла. Хотя сама капли в рот не брала. Не потому, что не терпела. Не хворала от него. Знала Марья свое место, потому не раз слыхал от нее Акимыч: «Бабе Бог и так не щедро ума отпустил. Чуть побольше курячьего. Так зачем последний в вине топить? Да и на што оно ей? Хмельную ее не то мужик, родные дети не взлюбят. Так уж пускай каждая свой шесток знает».
Макарыч меж тем налил еще по стакану.
– Давай-ка, Акимыч, за Кольку! Нехай ему жисть ни в чем не откажет, – не ожидая согласья, хозяин единым духом выпил и, чмокнув стакан в дно, сказал: – Дай Бог, штоб не последний.
Акимыч, погладив стакан, бережно, до капли выпил рябиновку. Раскрасневшийся, что ягода, блаженно заулыбался, разговорился:
– Когда же это мы с тобой в последний пили?
Макарыч рассмеялся.
– Помнишь, Марыо я у тебя высватал? Тому уж много годов. Боле как-то не приходилось. Не до таво было.
– То верно. Я-то один не могу. Не привык. Авдотья вовсе хмельново не терпит.
– Ну и дура, – рубанул Макарыч. – Моя хочь не выпьит сама, мине завсегда сблазнит. То от простуды уговорит выпить, то с устатку. Для аппетиту тож. То Колька приедет.
– Батюшки! Неужто малец пьет?
– Нешто за шиворот льет? Чево кудахчишь? В том ли беда? Покуда нутро примает, на што си– бе в малой радости отказывать? Здоровья не станит и вспомнить будет нечево. Вино дурнова губит, – вскипятился хозяин.
– Да будет, отец, чево ты зашелся? Неужто больше и поговорить-то вам не о чем? – всплеснула руками Марья.
На время в зимовье все притихли, словно пробуя на вкус слова хозяйки.
– Ежель по уму, то Марья верно сказывает. Но вобче мужику баб и й сказ, што дятлу лапти. Едина помеха от их. Хто она, баба-то? Вон, поглянь, Акимыч, в тайге-матушке кое ей место Господь положил? Возьми хочь пчел. И за што ето мужиков трутнями лают? Навроде ба за лень. Хто то ведал? Ужель потомство в свет пустить легко? Да и не единой утехой мужики те живы. Молодь от напасти стерегут. Дом от ворогов сберега ю ть. Бабы разе стануть мужика зазря кормить? Да ить оне вместях с ими, проклятушшими, мед в соты носют. Баб тому делу обучають. Оне ж ето сами не приловчились ба ни в жисть. А слыхал я – навроде пчелы те, што бабы, опосля всево мужиков своих губять. Вот уж удумал кой– то бес окаянство! И не доглядел, што оне, пчелинаи мужики, отдав семя, мрут сами. Без душегубства. Как отметавшая горбуша. Дала жисть другим и будя. Поди, про пчел дурную байку злая баба удумала. Сама-то, никак, до стари в девках пробыла. На мужичий род эдакий срам напустила. А што она такое, баба? Да ишо без мужика? Та ж пчела сгинит, отдав жало, и от ворогов дом не оборонит. Жало-то она без проку пущаит. Абы куда. А ежель ба мужик эдак жа семя раскидывал? Што сделалось ба? То-то.
– Оно и верно. Вот шел я по участку, глядь – медведицы промеж собой подрались. Ну точно бабы! Вцепились друг дружке в шерсть и таскают одна другую. Все ухи порваны. Лохма клочьями летят. Вой до небеси. А за што? Да за мужика подрались. С одной ен жил, потом кинул. Не с добра, видать. Молодшую сыскал. Прежняя сустрела, спробовала мужичью заботу с ево стребовать, заботу об потомстве возвернуть. Молодуха-то и взвилась. Покуда бабы дрались, медвежата-то из берлоги и утекнули. На оказию нарвались. В сеть запутались, кою мужики в реке поставили, чуть не захлебнулись… Тонуть стали. Кабы не отец – не бегали б они нынче по тайге.
– Ети шалапуги завсегда такия. Бабы… Надысь видел, медведь матуху тузил люто. Дите прижала в берлоге. Совсем малое. Мужик с горя на всю тайгу кричал. Видать, первенца сгубила.
– Давай за мужиков! Всех, какие носют штаны и не носют, – предложил Акимыч.
Марья подала мужу бутыль, потрепала по плечу. Улыбнулась Акимычу.
– Ты, мать, не примай на сибе сказанное. Ты у мине лучче всех. Што белка. Та сама умная серед зверьих баб. Рознь лишь, што тайги она не боитца да от мужа свово на шаг не отойдеть. И ево от сибе не пустить. Голубить всю жисть, – смеялся Макарыч.
После третьей чарки на душе у них потеплело. Растаяли обиды, горечь от прожитого. Разогнулись, расправились плечи, а глаза хотели видеть лишь доброе. А язык-то, язык, что незаузданная лошадь… Вдруг возьмет да и приоткроет частицу души мужичьей, по-детски бесхитростной, что запуталась в буреломе добрым растерявшимся медведем. Уж кто только не пытался наступить ему, большому, на лапы. Он отмахивался незло. А выводили из себя – плохо приходилось обидчикам. Так и эти двое. Ни с чего, казалось бы… ан нет. Воспоминания у каждого свои, нахлынули – не отогнать.
– Я кады на каторгу упекси, помышлял сибе в дороге порешить. Да как такое справить, ежли от железа живова места на теле не оставили. Иду, бывалоче, а цепи на ногах дзинь, дзинь, ровно колокола малый отпевают. С макушки пот, от пяток холод бежит. Нутро – будто заяц в силке подкидышем плачетца. И только я руку к зубам, штоб вены порвать, конвойный бабах над головой! Знать, не судьба была без времени сгинуть, – умолк Макарыч.
– Мне, напротив твоево, легше довелось. На каторге помене был. Да только судьбина не жаловала тож. На всем крест ставила. Самово во зло живым оставила. Бывало, кажной белке в тайге, кажной зверушке завидовал. Ить всяка тварь божия парой живеть. С радостями. Я ж кончины своей всю жисть вымаливал у Бога. Ен не сжалился. Сделал с меня колоду неживую. Лишь душа чуть теплится. Остатнее давненько на том свете. На што я вживе, сам таво не ведаю. Навроде бы кнутом не секли. Кусок хлеба завсегда имел. Крыша над головой своя – не в долг взятая. А все чево-то не хватает, – жаловался Акимыч.
И Макарычу припомнилось, как однажды увидел его возвращавшимся с обхода. Руки Акимыча. потемневшие от горя, тогда бережно прижимали к голой груди шевелившийся комок в телогрейке. Грели его своим угасающим теплом. Будто силились отдать ему самого себя. А пальцы лихорадило. Они плакали. И хотя глаза смеялись от радости: ведь вот нашел Акимыч отраду себе – сиротку олененка, будет с кем время коротать. Пусть и зверье, а все ж дите, есть о ком печься. Сердце старика в тоске зашлось. Сколько тепла отцовского нерастраченного сохранилось в нем! Сколько заботы! Вон ведь со зверушкой малой по-человечьи говорил. Будто тот понял бы. Даже баюкал. Как дите свое кровное. И уж на что язык Макарыча был с перцем, тут отвернулся. Слова застыли. Не радость – горе старика в лицо увидел. В руках, ногах, что босые, с вывертом торопко к избе спешили. Холодной, одинокой, как могила.
Там они лежанку олененку смастерили. У печи. Теплую. Мягкую. И Макарыч вспомнил слышанную когда-то колыбельную. Отчасти чтоб Акимыча встряхнуть, заодно свою тоску сродни этой забыть. Он пел зверушке:
Спи, мой котик, мой коток,
Сизокрылый голубок. Я сидю и тут пою
– Баю, баюшки, баю.
Спи, тибе грызеть блоха и доводить до греха.
И зачем святитель Бог Создаеть на свете блох?
Не дите, а урагант, Настоящий медный крант.
И откуда што бирет, Ровно твой водопровод.
– На што дите срамишь? – засмеялся Акимыч.
Но Макарыч только вошел во вкус:
Не дите, а просто грех.
Что ты ножки тянешь вверх?
Ай на сердце припекло?
Опять на пол потекло…
– Креста на те нет! – хватался за живот хозяин.
Папка твой в тюрьме сидить,
Мамка с чужим дядьком спить,
Етот дядька обещал
Купить мамке матерьял.