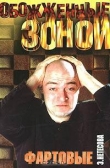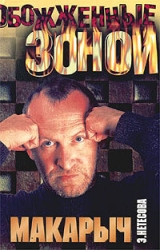
Текст книги "Макарыч"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
– Ты, Марьюшка, забудь про то, што намолол я. С устатку то. Можа, не то сказывал. Можа, сама ослышалась.
От этих слов в глаза Марьи уже не тревога, страх вселился. Леснику и вовсе не по себе. Заерзал на табуретке. Не хотел говорить. Ведь тогда спросит, давно ли эдак-то? Как скажешь ей, что худо с ним бывает часто. Тогда она в тайгу не пустит. Или на время обходов напрочь изведется.
Макарыч сказал первое, что пришло в голову:
– Ноги отказали. Видать, сапоги енти портють их. Вот и сел. Покудова отошли малость.
Марья заплакала.
– Коля-то разе то не узрел?
– Сбег, окаяннай, и не оглянулся.
– Где ж душа-то в нем?
– Душа? Хм! Бумагу мине в нюх совал! В ей, сказывал, званье ево и всяко разно прописано. Знать, и душа там. А с бумаги нешто спросишь?
– Бумага?
– Ага! Колька ее по-другому обозвал. По-ученому. Мине и не сказать эдак-то.
– В ей душа?
– Не токмо! Ее – сукин сын, пушше Бога почитаить. В сморкалке прячит, в стираной. А крест нательный снял. И нету ево при ем, – сплюнул лесник.
– Да как же без Бога жить-то станет?
– Оне ноне и хр ещ енаи нехристями поделались. Заместо Бога и родителев всяку хреновину поудумали. Одне, прости мине Господь, не перекреститца за едой, кажну ложку супу с матюгом заглатывають. На стенах срамное понавешали. И на ночь, што пред иконой, на ту гадость глазеють.
– И наш?
– В науке над койкой бабу прилепил. Бумажную. Гольная и без рук. Будто путевой не сыскал. Калеку разглядывал. Убогаю. Спытал я. Мол, на хронте она была? А ен хохочить. Аж закатываитца. Сказывал, ровно то и не баба вовсе. А што-то мудренае. Мине за ишака по щ итал. Я ему и сказал: мол, не втирай пыль в мозги. Поди, на своем веку умел отличить бабу от кобылы. Токмо ни в какой мудрава не сыскать. И на стенки голь не вешал. А ен мине и перечить. Мол, я вроде што кот. А сам Колька пошти святой. Мол, не на бабу смотрит, на тело, а на што-то ишо. А што в той картинке есть, так про то кажному мужику ведомо. Туды ен, кобель, и з ы ркал. И надо ж! На убогаю!
– Батюшки светы, неужто на ей женится удумал?
– Хто ево ведаит, паскудника.
– Ой, Боженьки, неужто такую в дом приведет?
Побурчав еще на непутную молодь, Макарыч на колени перед Спасом встал, прогудев молитву, испросил пощадить в тайге матушке душу заблудшего раба Николая. Здоровья умолял не лишать. За грехи не наказывать.
Подслушав мужнино, Марья рядом на колени плюхнулась. Тонко, слезливо заохала. В лад мужу благ Кольке выпрашивала.
Помолившись, оба встали. Вздохнули согласно. Поев, спать легли.
Но Макарыч не мог уснуть. Он слышал, как стегануло по стеклу дождем. Окна зимовья затренькали, зазвенели. По крыше загудел ветер. Нагнал поближе дождевую тучу. Та оглушила дом. Забарабанила по стенам. Где-то в тайге испуганно закричали птахи. Знать, дождь холодный нагрянул. Лесник, потерев ноющие руки, встал, присел к столу. Голова его устало клонилась на грудь.
В избе бледнела ночь. Макарыч слышал, как похрапывала во сне успокоенная Марья. Она не чуяла дождя. Что-то другое виделось ей. Может, Колька, а может… Нет… Ведь Макарыч рядом. Зачем ей тревожиться сейчас? Но отчего же нахмурилась, сдвинула брови и вдруг: «Колюшка! Я-то маяться недолго буду! Ты же отца не обижай! Я скоро уйду от вас…»
Макарыч кинулся к Марье. Та спала. Сжимала рукой около сердца. Обрывок разговора при встрече с Колькой вспомнился Марье или задуманное вылетело невзначай. Только Макарыч враз опешил. Стал будить жену. Та стонала, но не просыпалась, будто уходила уже от него туда, где холод и мрак.
И только тогда лесник понял. Он кинулся к бутыли. Разжав зубы, влил Марье лекарство. Через некоторое время та пришла в себя. Увидев испуганного Макарыча, улыбнулась вымученно. Попыталась встать.
– Куды тя? Лежи. Ишь одыбалась!
– А што?
– Не думала ба ты про тяжкое на ночь. Худыи сны видютца от таво. Аль у нас доброе извелось?
– Откудова доброму взяться ноне?
– Погоди, мы ишо не отпетый.
– И то ладно.
– Сколь к а мы с тобой вместях-то?
Марья улыбнулась:
– То считать не надо.
– Пошто?
– Акимыч говорил – как сочтешь, так и помрешь.
– Типун ему на трепоча, шельмецу. Сам свое подщитывает, а скрипит, колодка осиновая.
– Бог с ним. Уходящее не поминай. Годы-то наши растут. Тому счет не нужен. Чего теперь-то ждать? Разве смерти.
– Хватит, мать. Не зови кончину. Али худо тибе со мной?
Марья не ответила. Вздохнула.
И впервые лесник промолчал. Он не обиделся, что его вопрос остался без ответа. Да и что могла сказать Марья? Он и сам знал: тяжко ей. Зачастую по неделям одна в зимовье мается. Может, и худо ей приходилось. Молчала. Никогда ни словом не упрекнула мужа. Смирилась с одиночеством. Ей не то что выплакаться, словом обмолвиться подолгу не с кем было. Потому неразговорчивой стала. Лицо ее морщины посекли.
– Невезучий мы с тобой, мать?
– Да нет. Нам что? Живем, слава Богу. Харчи есть. Крыша над головой – тоже. Меж собой ладим. Чего еще?
– Ты вот прихвариваешь.
– Не вечно здоровье. Крутит лихоманка, не спрашивая.
– Я вот скоро опять в тайгу пойду. Как ты тут? Управишьси?
– Свыклась.
– Можа, недолго буду. Молодь рассадить надоть.
– Управляйся. Д вот, в селе была. Говорят, что нам коня отпишут.
– То дело. Знать, на хронте полегшало, коль и нам подсоблять стали.
– Бабы все мужиков своих ждуть с войны.
– Оне што? Детва бы ожила. При отцах-то.
– Дай-то Бог. Скорей война закончилась бы. Слыхала, что на материке уже землю в порядок приводят. Хлеб сеют.
– Надоть в село наведатца. Можа, и впрям конягу нам отпишут. Все подмога б была.
– Тяжко мне одной тут.
– Ужо с участком разделаюсь, с тобой буду. При избе.
– Про то я уже слыхала.
– Ну будя, мать! Зачнешь теперича все мои грехи, што исподнее выкручивать. В изнанку, – и, оборвав разговор, лесник закурил трубку.
Весь этот день он провозился по дому. Подрубил дров, истопил баню. Навел порядок в сарае. К вечеру отпаренный и красный потел у самовара. Пил настой. Крепкий, задиристый. От него внутри все взыграло. Ершилось. На столе исходила паром картошка. Дразнилась открытой пастью жареная горбуша. Заваренный березовой корой и маховкой чай дохнул таежной глухоманью: туманными распадками, кручеными спусками, холодными до судороги речками, криком оленей, жаркими кровянистыми углями пионов. Вдыхая запах чая, Макарыч оглаживал отмытую в бане бороду, сытно вскрякивал. Вспоминал недавнее.
Подошел он как-то к распадку. К Мачехе. Впервой сюда по весне добрался. Глянул вниз. Туман трауром стлался. Аж до пяток колотье пробрало от сырости. Пошел по-над распадком по кромке. Внизу шорох, писки, скрипы, будто и впрямь нечистые в разгул ударились. Свадьбы правят. С криками, шипеньем. И вздумалось Макарычу отдохнуть тут неподалеку. Отыскал открытое небу место. Присел. И только за трубку взялся, заслышал свист. Огляделся – никого. Только топот по спуску торопкий. Взялся за трубку – снова свист. Снял лесник шапку, перекрестился. Призвал на помощь Богородицу. И только хотел встать, перед глазами тень метнулась человеческая. У Макарыча по спине холодный пот липкими струйками побежал. Борода к груди словно приросла. Глянул Макарыч, куда тень сиганула, ничего не увидел в мертвом молчании, все стыло вокруг. Оттого еще тяжелее стало. Начал молитвы шептать. Из распадка вдруг по-ребеночьи что-то завизжало.
У лесника дрогнуло внутри. Решил уйти от проклятого места. Он встал. Повернулся спиной к распадку и вдруг услышал топот. Кто-то догонял его. Макарыч резко повернулся.
Прямо на него, ошалев со страха, выскочила из распадка зайчиха: в крови, с ободранным ухом, она спасалась от лисы. По-видимому, съевшей всех ее зайчат. Знать, матуха крепко дралась за детей. Вон и лиса потрепанная. Даже хвост перекушен. Подран бок. Хромала. Но от жертвы не отстала. Мимо Макарыча зайчиха проскочила. А лису он пугнул так, что рыжуха, через хвост перекувыркнувшись, в распадок метнулась. Оттуда тонко, по-бабьи лесника облаяла. Тот нагнулся к земле – чем бы в лису бросить, и замер. Под рукой оказался человеческий череп. Удивленно уставив пустые глазницы на лесника, он будто спрашивал его: что, мол, тебе от меня надо?
Макарыч перекрестился дрогнувшей рукой на чьи-то неприкаянные останки. Собрал их в кучку, закрыл ветками стланика, присел помянуть неизвестного тихой минутой. Кто он был? Теперь это все равно. Мертвец – самый беззащитный и беспомощный из всего, что есть на земле. Вот даже кости-то его засыпать землей некому. Некому о кончине сказать. Пожаловаться – своей ли волею или злой рок укоротил век.
Лесник только теперь понял свои прежние страхи. Слыхивал от стариков: коль всякое мерещится в тайге, знай, рядом труп несхороненный лежит. Коль останки эти не уважишь, сам ляжешь костьми. А если не отнимет тайга жизнь у человека, труп перешагнувшего, счастья напрочь лишит. И пройдет оно, проплывет облаком мимолетным. В стороне от солнца, от радостей. Не жизнь, а скулеж подзаборной собачонки наступит у нарушившего закон тайги.
Знал Макарыч много тому примеров. Еще на каторге наслушался – почему останки человеческие хоронить надобно. Ведь в них, неприкаянных, душа чья-то мучится. Предай прах земле, душа эта свое место враз найдет. Переселится в кого-либо. Переступившего эту душу призраки замучают. По ночам душить станут. Холодом, голодом изводить удумают. Все хорошее отнимут, удачу отведут. Потому даже останки ворогов своих в тайге не оставляли неприкаянными. Хоронили честь по чести. В изголовье крест ставили. Чтоб на том свете лихом не ругал. Худым умершего не поминали.
Тогда Макарыч вырыл яму, сложил в нее все, что осталось от человека. Закопал. Поставил крест. И, пожелав усопшему землю пухом, перекрестясь, пошел подальше от Мачехи.
На душе было тяжело. Когда отошел уже далеко, решил перекурить. Присел на старый пень. И вдруг прямо перед собой пион увидел, светившийся алым румянцем, как девка на смотринах. Лесник усмехнулся невесело. Жизнь цветка короче брачной утехи. Вот красуется. Алый рот ветру подставляет. На всех свысока смотрит. Нет ему равных, один он такой. Но не весь же век собой любоваться. Другие-то, что вокруг, смеются над пионом. И заступиться некому. Друзей нет. Подруги – гоже. И заболеет пион тоскою. Так и умрет не согретый, не любимый. Один. Без друзей. Но даже мертвому не простят кусты, деревья, трава хвастовства его безмерного. И над останками его будет шелестеть их злой непримиримый шепот.
Макарыч оглядел цветок. Почему-то на ум пришло воспоминание о своей молодости. Ведь тоже друзей не было. И теперь, разве Марья…
Он стряхнул воспоминания. Жена тронула за плечо. Заставляла поесть. А леснику тяжко даже в мыслях вот так скоро уйти из тайги. Глянув на Марью, он улыбнулся, на душе потеплело, полегчало.
– Уж не уснул ли ты, думаю, ан нет. Руки шевелятся. Да сидячим вроде не примечала, чтоб засыпал. А ты все чего-то молчишь. Ровно одервенел. Я аж напугалась.
– Бедолага ты моя. Все-то ты пужаисси. Смогешь ли хочь день без страхов прожить? За мине не боись, я мужик. Сибе береги.
Пожурив друг дружку, спать улеглись. Макарыч, чтоб не проспать рассвет, а с ним в село отправиться, откинул подушку от себя. И, чуть приклонив голову, тут же уснул.
В эту ночь ничто не тревожило. Наутро он встал раньше обычного. Над зимовьем еще не рас– светлело. Деревья, окутанные мглой, казались черными. Стояла тишина. Та, которая бывает перед рассветом. Когда все вокруг нежится в крепком предутреннем сне. Даже тонкие молодые побеги, те, что днем высовывали свои макушки под дождь, теперь прижались к родителям Ухватившись за их ноги, крепко, безмятежно спали. Чуть вздрагивая от прилива сил, даваемых землею. Ночью они росли.
Сейчас в тайге все были равны. И спящие в своей крепости муравьи, видевшие во сне теплые, недоступные зверью муравейники, а в них свои семена – белые крохотные яйца. Которые не сможет поесть медведь. Видевший в это время свои, далекие от муравьиных, сны. Все спало. Набиралось сил к предстоящему дню.
Макарыч с хрустом потянулся. Запихал подальше за пазуху краюху хлеба, шагнул с порога. Он не оглянулся на темное окно, уверенный в том, что Марья спит. Она же смотрела ему вслед. Крестя удаляющуюся фигуру мужа. По щекам ее текли слезы, Макарыч ушел, не разбудив жену. И, вспомнив несколько фраз о том, что в тайге ему бывает худо, шептала:
– Пресвятая матерь Божия, сбереги его. Смилуйся.
Макарыч все быстрее уходил от зимовья. А вскоре он совсем слился с сумерками. Лишь приглушенные шаги лесника нет-нет да и вспугивали сонное зверье. Трепыхнулся от них на ветке кроншпиль. И, долбанув со сна ветку своим клювом-шилом, полетел вниз.
– Эх, ты! Шут безмозглай. Со страху пупеишь. А ишо птица! Только от етова званья нос коромыслом и есть у тибе. В башке и пылинки ума нету. Тож мине таежник, – ругался Макарыч. И тут же из-под ног с писком потрусила мышь. Озиралась на человека заспанными щелками глаз: – Тож мине зверь. Пигалица, едрить твою в калено. Сапоги изгадила, паскудница!
Лесник глядел на бледнеющее небо над тайгой и шел, шел… Вот прямо перед ним на кедрач уселась желтобрюшка. Залилась трелью. Говоря Макарычу о том, что день сегодня будет погожий. «Ну, благодарствую за доброе, птаха», – сказал ей лесник. Пичужка, довольная похвалой, долго еще провожала Макарыча. Щебетала ему о тайнах тайги, а может, просто желала удачи.
В селе ему и вправду повезло. Встретили приветливо в сельсовете. Дали бумажку на получение коня, которого он вскоре держал в уздечке.
– Получай, дед! Это тебе за труды твои причитается. Да за помощь фронту, – говорил председатель сельсовета.
А Макарыч, все еще не веря, поглаживал коричневую холку коня, совал ему щепотку соли.
– Свыкайси, голубчик. Ноне нам век вместях коротать. Скореича принюхивайся. Ить много с тибе не стребую. Ни я тибе, ни ты мине не приглядали. Все от судьбы, – поглаживал он своего
нового друга.
Конь доверчиво положил ему на плечо голову. Тихо, успокоенно задышал.
В этот день лесник на радостях решил к Акимычу наведаться.
Подарок показать. Поговорить. Втайне надеялся выведать что-нибудь о Кольке.
Макарыч купил в магазине гостинцев. Забрался в старенькое седло и потрусил по знакомой дороге. Конь весело екал селезенкой. Макарыч на радостях, что мальчишка, причмокивал губами, поторапливал его. Подталкивал легонько в бока.
К зимовью Акимыча он подъехал затемно. Завидев свет в окнах, довольно улыбнулся.
Акимыч пил чай, отирая вспотевший лоб. Увидев Макарыча, сорвался с лавки и, ковыляя по– утиному, засеменил навстречу.
– Здорово избе етой и хозяевам, — перекрестился Макарыч, оглядел хозяина: – Привет тибе, лешак плешатай! Никак забрюхатил, прости мине, Господи?
– Третью зиму, почитай, на сносях хожу, — погладил живот Акимыч. И, ткнув легонько гостя в бок, полюбопытствовал: – Ты-то когда опростаешься?
– Ох, молчи, не до таво! Акимыч враз посерьезнел.
– Аль беда какая приключилась?
– Да не единая, – сорвалось у Макарыча.
– От грех! Да что ж это стряслось с тобой? Макарыч поискал глазами Авдотью. Та возле
печки возилась с чугунками. Хозяин, заметив, позвал во двор.
– На што так-то? Не по-людски? Поесть надоть. Невжель не успеитца поговорить, – окликнула Авдотья. – Отец, аль души в тибе не стало? Покормить жа поначалу.
Акимыч повернул назад. Позвал Макарыча:
– Авдотья верное сказывает. Старушка, довольная, заулыбалась.
Ели молча. Когда же на столе забурчал самовар, старики решили перекурить. Заговорили о своем.
– Надысь участок изведывал. Што-то древа много погнило. Младыи березки, а посгинули. С воды все попрели. Поглянешь и душа кровушкой исходит. С чево бы это? – спросил Акимыч.
– Коль с неба слезы, знай, какому-то лиху кончина настала. Оплакал ево Господь. Можа, войне конец придеть.
– То-то в нашем селе бабы про это толкуют.
– Слухай ты ентих дур непутя щ их, — оборвал его Макарыч.
– Да ково и слухать-то ноне? В селе ить едины бабы и пооставались. Коли и есть хто из мужичново рода, так те еще без портков ходят. Да дремучие, сродни мне. С ними об чем толковать? Намедни подошел к Степану, погодку своему, а он с внуком мериится, хто дале с носу выбьет. Глянул я на ту потеху и пошел со двора. Што взять с нево? Рехнулся и то сказать не с добра. Двух сынов ево война отняла. Разве тут не спятишь? Поначалу-то он немым стал. Язык вроде отсыхал. Сказывали, господь Степку за хулу наказал. Ка сыны сгинули, он иконы с дому повыкидал. Черным лаем Богоматерь поминал. А к утру язык в нем и усох. Дак и такой он небушку кулаком грозился. Сказывали, што и по-похабному.
– Господи Боже! Смертушки и здоровье — все от ево, Владыки нашево. Разе мне свово сынка не жалко? Да че я, старая, сделаю, што не мою жисть Господь взял, а ево? А уж с какой бы радостью я заместо сына свово в земь сошла ба. Только ен жил ба. Ить дет иш ки сиротами пооставались.
– Не убивайся. То не в наших силах поднять ево. Поди, Степану не меньше твоево своих жаль, успокаивал старушку Акимыч.
– Нынче, я скажу, и не уразуметь, каво жальчи. Одних на хронти покосило. Живыи по им вконец по извились, – вздохнул Макарыч.
– А други и хронту не видамши, души, хто знаит, иде порастеряли.
– Ты об ком? – насторожился Акимыч.
– Об Кольке.
Акимыч ерзнул на скамейке. Та жалобно заскулила. Авдотья даже присела от неожиданности.
– С чево так? – поперхнулся Акимыч.
– Растил сына, выходил козла, без ума и сердца. Я ево на ум наставлял. Все хотел человеком увидеть. А ен… С-сукин сын! Вот хто Колька!
Акимычу хотелось закричать. Вступиться за внука. Но памятуя, что Макарыч с малолетства растил мальчишку как своего, сник. Положил голову на кулаки. Задышал тяжко, обиженно. Молчал. Ждал. Чем же обидел Колька Макарыча? Знал, что того довести до этих слов нелегко и не просто.
– Што ж стряслось, батюшка? – не выдержала Авдотья.
– Бранил Кольку за жизнь непутную. В науке ему мозги и пововси загадили. То с земи решил че– вой-то взять или выташшить. Для таво землю– матку, ровно свою нюхалку ковырять удумал. Разе не дурь? Так за то ему, кобелю, бумагу дали. А в ей дозволения на ковырянье-то. И Бога в науки ни пужаютца, нехристи. Так и полаялись мы с им прям на участки. А ить в зимовье шли. И што б вы подумали? Озлилси ен на мине, ровно на ворога кровнаво. Да в кусты. Эдак, харю ни обернувши, сказал, што в отряд пошел, к своим. Вот! Я тады чуть не издох. Думал, конец настал мине. Ен жа, гад… Ну да Бог с им…
Акимыч засопел, почесал в бороде.
– Знать, в отца пошел поганец. Тот креста на шее не имел. Ладно меня позабыл. От своей кровинки отворотился. Знать, и этот шалай. Без пути жисть зачал. Худо так-то, не по-разумному. Ну да ты, Макарыч, не обессудь. За то судьбина ему г лихвой воздаст. Ох и крест на душу принял Колька! Не видать счастья малому. Не познать радостев.
– Таким-то в обрат везеть завсегда. Ну да я лиха ему не желаю. Нехай в довольстве, в сытости живет, беды не видя. Я свое исделал. А душу, сам ведаишь, другую ему не вставишь. Ворона ить сколь хлебом ни потчуй, все на падаль тянит. Свово кровнаво заиметь надо было.
– То ты брось. Вон у меня и свой. А проку и сам знаешь.
– Тож верно.
– Кабы не Авдотья, даром, что баба, псом издох ба под чужим забором.
– Будет вам души надрывать. От таво добро тварили, што сами биты. Сытай на доброе не способнай. У мине хочь сынок добрай, зато невестка лиходейка. Не серчать же мине из-за ней на весь свет.
А Макарыч вдруг опять к себе домой захотел. Да так, что скакал бы наперегонки с ветром. К ней. К Марье. Представились ее глаза. Темные, усталые, родные, добрые. Лесник, казалось, почувствовал даже руки жены. Только у нее они могли быть такими. Как они умели заботиться о муже, Кольке! От работы они огрубели. От пережитого, то не враз приметил Макарыч, трястись стали. Хотя и не обижал жену лесник. Но и привечал не часто. Редко с нею бывал.
Домой он засобирался на следующий день. Акимыч уговаривал погостить еще. Но как-то сразу понял, что удерживает напрасно. На прощанье попросил об одном:
– Ты на меня-то не досадуй. Наведывайся. Сам знаешь, мне худче пришлось. Приемный ушел – беда. Знаю – за свово ты Кольку почитал. Но когда свой, кровный бросил, тому горю края нет. А я вишь – живехонек. Ужо вон сколь мне! Сам Бог жалует. За страданья, за болести. Про своево выродка, спаси ево Бог, не вспоминаю. Оторванную руку не приживишь. Душа ее не примит. То и тибе ведомо. Коль породнил нас Колькой Господь, давай и дале знаться станем. А там што Бог даст.
– Про щ евай, Акимыч, – не захотев шутить, поцеловал его Макарыч трижды и впервые шагнул к Авдотье: – Не поминай лихом, касатушка. Глядишь, доведетца нам ишо свидетца. Добрая ты, сугревная. Дай те Бог долголетья да радостен хочь в остатнем, – ткнулся ей в морщинистую щеку Макарыч.
Он взобрался в седло. И только тут Акимыч заприметил, что конь у него другой. И спросил о нем.
– Подарок мине от власти вышел. Серый-то мой помер.
– А этого как нарек?
– Покуда никак не величаю.
– Стой, как же ты без имени на нем в путь сбираешься? Грех. Беда укараулит. Погоди. Давай назовем.
– Ну давай. Хреснай станишь.
– Типун те на брехалку. Разе коней хрещут? Того не было, што конь мой хресник стал,
– Сам сказываешь. Нельзя без имени.
– То испокон веку заведено.
– Так назови,
– Нехай Орел будит. Сами мы вороны, сыны тоже не с породистых, пусть хоть конь путевый будит. Они с хорошей кличкой долго живут. Добрыми бывают.
– Дай-то Бог. Будь по-твоему. Пошли, Орел! – тронул уздечку Макарыч.
И конь, согласно кивнув головой, легко пошел от зимовья. Макарыч не погонял. Конь, запомнив дорогу, бежал ровно и плавно. А выскочив на дорогу, пошел в галоп. Лесник улыбнулся. Потрепал его по шее. И вдруг конь встал на дыбы. Заржал. Крутнулся на месте. Прямо перед его мордой с дерева свалилось что-то черное. Взвизгнув, хотело сигануть в кусты. Но перепуганный Орел наступил на ком. Взвился, как от боли, на задних ногах. И помчался напролом в тайгу. Макарыч вцепился в него руками и ногами. С губ коня клочьями летела пена. Он взмок, дрожал, косился по сторонам фиолетовыми глазами. Макарыч еле остановил его. Успокаивал долго. Орел все вздрагивал. Отфыркивался. Лесник еле развернул его на дорогу. И, подъехав к тому месту, еле удержал коня. Тот снова заметался. Лесник осадил его грубо, и Орел угомонился. На дороге издыхала рысь.
– Голубчик ты мой, спаситель. Знать, в счастливый час подарила тибе судьбина, – гладил коня Макарыч.
Тот коснулся губами щеки хозяина, щекотнул ухо тяжелым вздохом.
– Знать, вовремя тибе нарекли. Сказывают, безродного в тайге и мураши осилют, – усмехнулся лесник и двинулся снова в дорогу.
В селе он остановился около магазина. Решил дать коню передышку да покормить заодно. Марье подарок приглядеть. Порадовать хоть раз в жизни.
В магазине было людно. Пахло хлебом и табаком. Бабы говорили про детву, стирку, судачили о
войне, какая что слышала. Только вдовы, натянув черные платки до бровей, молчали. Ждали свою очередь, успокаивали горланящую детвору. Старые, молодые – будто не было меж ними разницы, в годах. Отмеченные особой печатью войны, они мало улыбались. Макарычу даже неловко стало перед ними. Он опустил глаза, будто в чем провинился перед вдовыми, и боком, боясь задеть, подошел к прилавку. Он наспех выбрал Марье платок поцветастей. И решил дождаться своей очереди снаружи.
Макарыч присел на завалинку магазина. Рядом с ним присел незнакомый старик. Молча протянул ему лесник кисет с табаком. Тот ловко скрутил козью ножку. Закурили.
– Недавний, штоль? – спросил Макарыч.
– Недавний.
– Откудова родом?
– С Белоруси. С-пад Гомелю.
– Чево ж с места съехал?
Старик сурово глянул на Макарыча:
– Не ведаешь. Наша мясцечка немец усе спали л . Л ю дзей на плошчу сагнали и куляметами па– касили, каму усеж уцячы удалося. И мне. А у партизанах усе три сыны загинули и дачка…
– Все от Бога, – вздохнул Макарыч.
– Чаго ат яго?
– Жизни и смерти наши.
– Рэта дзе ж твой Бог? Што я от яго бачыу? Мне ен ничога добрага не зробиу. Няхай ен сам по сабе. Не ведау таго господа семдзесят гадоу и зараз ведать не жадаю. Няма яго, напэуна.
– Зазря Бога хулишь. Видать, за грехи ен наказал тибе?
– Их у мяне не боле, чым у иншых. Усе жыцце працавау, с дзетвой не паграшыш. А думка была, каб скарэй на ноги их падняць. А вырасциу – и на табе. Хнба на то я сваих дзетачак на свет нарадзиу? И памираць без унука стану. Род загине… Старая мая с гора у сырую зямельку сышла. Мяне ж и смерть не бярэ. Басияюсь па свету, а притунку сабе, каб анамятавацца троху – нидзе не найду.
– Ну там-то, у сибе, все легше было б?
– А ни мала там давялось? Куды ни глянь, усюду памяць сыноуняя. Хату яны перед самай вай– ной новую наставили. Садзик посадзили. Ат дома адзин комин астауся. А яблыньки у гэтым годзе першый уражай дадуць. А дзеуки с суседняй вески, з якими май хлопцы любилися, сустрэнуцца и с плачам да мяне. Тут жа самому хоць руки на сябе накладзи. Гляну и успомницца, як к вяселлю старэйшага гатавались. Алеся яго – перша красуля была. Зараз черную хустку носиць. Помниць. Эх, каб яго пранцы! – Старик поднялся, хрустнув поясницей, и пошагал от Макарыча, тяжело передвигая ноги, бурча проклятия войне, немцам, своей ненужной никому жизни.
Воротился Макарыч в зимовье вечером. Изба настежь. Марьи не было. В углах тьма ведьмой притаилась. Будто выжидала чего. Леснику не по себе стало. Окликнул жену для верности. Но никто не отозвался. В избе, уже выстуженной, пахло холодом наступающей ночи, туманом. Макарыч кинулся из зимовья. Обошел его вокруг. Покликал Марью. Она не отзывалась. Похолодели спина, лоб, руки лесника. Все тело трясло мелкой противно й дрожью.
– Марья! Марьюшка, – разносилось п о тайге глухое насмешливое эхо.
Жену лесник нашел у ручья. Она лежала ничком на траве, скрутившись в большой клубок. Сцепленные пальцы пытались разорвать ворот кофты да так и не осилили. Макарыч хотел поднять жену. Но она снова валилась на землю. Попытался взять на руки, но впервые силы подвели. Подкосились ноги, в глазах замелькали искры. Он осел на землю. Задышал, беспомощно и беззвучно раскрывая рот. Придя в себя, снова затормошил жену.
– Марья! Ты слышь мине, Марьюшка? Ну шипни хочь словечка. Ох, Господи. Да што ж с тобой приключилось-то? И подмочь некому. Растили мы с тобой, растили кобеля, а ен кинул нас. И Бог нам не подможет. Мине-то ладно. Тибе на што енти муки?
Все ж пришлось Макарычу вернуться в зимовье. Одному. За конем. Еле втащил жену в телегу, внес в избу. Вздул свет. Когда распрягал коня, жуткая мысль мелькнула – жива ли Марья? И вмиг руки стали непослушными. Кое-как отправив коня в сарай, в избу кинулся.
Марья лежала все так же недвижно, как положил ее лесник. Лицо желтое, как высушенный осенью лист, – чужое и незнакомое.
Лесник подставил к ее губам зеркало. Оно чуть подернулось пеленой. Завидев это, Макарыч изо всех сил принялся растирать, отхаживать жену. Лишь к утру та задышала заметнее, чаще.
А когда Макарыч сел перекурить у стола, заметил письмо. Оно было сплошь закапано слезами. Еще не зная, что за весть, почуял недоброе. Но от кого бы оно могло быть? И впервые пожалел, что не одолел в каторге грамоту. И горько, горько стало на душе.
Марья пришла в себя не скоро. А открыв глаза и глянув на стол, заплакала в голос.
– Чево ты, Марья?
Та показала на письмо:
– Зоя померла. Об ей там.
– Как так?! – побледнел Макарыч.
– Почтарь вчера привез. Читал.
– Кем писано?
– А этими бродягами, как и наш Колька.
– Прямо нам и прислали?
– Кольке оно отписано.
– Как жа приключилось-то?
– Сказывают, коняга подвела.
– Брешут, поди!
– На што им это?
– Поди, не углидели девку?
– Не-ет. Пишут, будто сгинула она враз. Как только наш проводил ее докудова-то. Там лошадь ее толь в пропасть аль в обрыв скинула. Она там враз и померла.
– Хватились поздно?
– Говорят, враз возвернулись. Да от Зойки уж одно званье осталось, – заголосила Марья.
Макарыч долго сидел, уронив голову на руки. Не верилось в Зойкину смерть. Девчонку эту давно за свою считал. В невестки прочил. Как теперь Кольке об этом сказать? Как передать письмо? Что будет с парнем? Такое перенести не всяк сумеет. И Макарыч, стиснув трубку, сидел за столом, обхватив руками голову. На время из этого состояния вывел плач Марьи. Он подсел к ней.
– Ты сибе побереги. Саму еле возвирнул. Видать, не судьба им была.
– Я как про то услыхала, света не взвидела. Как же Колька-то будет?
– Ентот шибко не затужить, небось. Убиватца не станить, – зло процедил сквозь зубы Макарыч.
– Господь с тобой, отец! Ты в своем уме? Ведь она ево невеста.
– У Кольки таких невест с этап набиретца. Ен Зойку кинул ба, как нас.
– Забудь обиду, отец. Сгоряча все. Молод ить.
– Не вступайси. Ишь, аблакат выискалась! Чуть не преставилась сама. А ему, поглянишь ишо, ето горе, што до ветру по малой сбегать. Ты жа извелась тут напрочь.
– Да ведь хотя и не легла в душу девка, за невестку уж считала.
– Я тут сибе чуть бобылем не счел…
– Ох, отец! Дороженьки я к ручыо не видела. Как скрутило-то – не помню. Думалось, что не прихватит эдак-то. Оно и прихватило.
– То-то вовремя подоспел, – Макарыч только тут вспомнил про платок. Достал его из мешка, подал жене.
– Мне?
– Кому жа?
– Да разве я девка в такое рядиться?
– А ты рядись, краля моя невенчанная. Хочь к стари тибе побалую. Хто ишо про тибе вспо м нить да позаботитца? По душе ль платок?
Марья уткнулась лицом в подарок. Скрывала слезы бабьей радости. Первый раз в жизни получила она в дар. Сроду ей такого никто не делал. И Макарыч смотрел в окно на тайгу. На душе было черно-черно, студено. И не уходила от глаз Зойка. Давя тяжесть, вздохи, Макарыч курил до зеленых огней в глазах. Он знал, что завтра ему придется нести письмо в отряд. Нести его к Кольке. А как? Как передать его в руки? Ведь, что ни говори, оторвать от себя парня он не мог. И чем дольше длилась размолвка, тем чаще вспоминал он его. Чаще маленьким, каким он был вначале. Однажды тот пошел в тайгу за махов кой. Любил Колька эту лохматую горьковато-сладкую ягоду. Ел ее горстями. Не боясь, лез за нею в глухие распадки. Так вот однажды, не предупредив Макар ы ча, ушел спозаранок. Знал наперед: одного не пустил бы лесник. Уже смеркалось, а Кольки все не было. Макарыч охрип, звавши мальчишку. Думки одна другой чернее приходили на ум. Но где искать? У лесника одна дорога, у Кольки – не счесть. Вот уж и звезды желтыми цыплятами выскочили из-под толстой клушки-луны, а мальчишки все не было.
И тогда около зимовья развел Макарыч большой костер, чтоб, заметив его, нашел бы малец дорогу домой. Или, почуяв дым, откликнулся. Сверху сушняка хвойные лапы выложил домиком, чтобы пламя повыше поднялось. Из ружья стрелял. Прислушивался. Иногда казалось – шаги слышит. Приляжет ухом к земле – нет, все тихо.