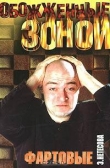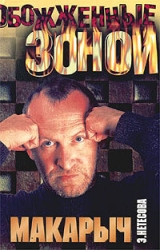
Текст книги "Макарыч"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
Макарыч не захотел враз домой возвращаться. К Акимычу потянуло. Решил изведать. К нему едва за день управился добраться. К зимовью впотемках пришел. Едва на порог ступнул, собачонка выкатилась. Чисто черт. Глаза злые, зубы в оскал. А сама с рукавицу. Скачет у ног Макарыча, визжит, лает, зубами лязгает, норовит портки порвать.
– Шельма! Подь к месту! – крикнул на собачонку Акимыч.
Но куда там! Та даже охрипла, кричавши. Но от Макарыча не уходила.
– Экая дура базарная! Малахольная баба! Чево глотку рвешь? Цыть, окаянная! Ишо такая муха на мине орать станить да пужать зачнет, уж и вовсе жить ни к чему.
Рассмеялся Макарыч. Изловчившись, он поднял собаку за загривок. Та заскулила.
– То-то, бешеная! Знай с кем сустрелась! Не таким бывалоче спесь выколачивал, – хохотнул Макарыч, ткнул собачонку под лавку, к Акимычу подошел. – Ну, здоров будишь, лешак!
– Здоров, здоров, благо Господи, – заулыбался тот, оглаживая бороду.
– Сдобнай ты сделалси. Што булка. Брюхо откудова-то взялось. И морда ровно у зимнего кота. Видать, сытно тибе нынче?
– Не в сытости соль. Не брюхом единым живу. Душе спокой настал, оттово и раздобрел. Право, Авдотья все печется за меня. То блины сделает, то пельменей настряпает. Хоть под кончину поживу справно, – усмехнулся Акимыч.
– Чево под кончину? Да ты, ежель поглянуть, нынче поперек сибе шир ьш е стал. На што помирать? Тово и поминать не след.
– Да уж ноне верно. Надысь детва, внучата к Авдотье прибрели. Мамка, мол, наказала, вертаться ей в дом. Мужик сбег от ей, а за малыми одной не управиться. Ну я и пересказал. Мол, нехай невестка пустое не мелет. Не пущу я Авдотью-то к ней. Живет она спокойно и ладно. Хоть нынче отдохнет. Зачем маяться? Опомнилась, змея. Што ей старуха – забава? Нам вдвух все отрадней. На внучат она, правда, намаялась, наплакалась.
– Поймут оне. Нонешние все понимають и надобное и ненадобное, – вздохнул Макарыч.
– А ты-то пошто один наведался? – спохватился Акимыч.
– С городу я, от Кольки. Поклон тибе от ево.
– Благодарствую.
– Заскучал по ем. Вздумал навестить. С Марьей порешили было к Кольке перебратца. А побывал и расхотелось. Поотвык я от городу. Одичал, знать.
– Поведай, што с Колькой-то?
– Да с им, слава Богу, все исправно. Науку ен скоро закончит. В тайгу уйдет, – вздохнул Макарыч.
– Здоров ли?
– Здоров. Дай Бог так и дале.
– Чево ж смурной ты?
– И сам не ведаю. Город с панталыку сбил. Все думки на рога поставил.
– От чево ж?
– Пришли поесть в харчевню. Она в их по
другому зоветца. А в ей народу поболе, чем комарья в тайге. Глянул я в миску к одному. А в ей хлебово. Крупица от крупицы на добрай аршин. А в другой миске картоха – синяя, мороженая. Так-то вот. Война… С ей, треклятой, люд изголодалси вконец. А ишо вот. Пришли мы с Колькой в дом, иде ен квартируить. Все ба ништо. Но там и воды нет живой. Родниковай. Из кранта тикеть. А водой не пахнить. Нет в ей свежести. Теплая и вонючая. Дажа до ветру не на улицу, а прямо в том доме ходють.
– Господь с тобой, что сказываешь? Как можно в дому эдакое? Я на што старой, а и то…
– Сам диву далей. Ну не брешу. Завел мине Колька в камору, а там чертовина. На ей сидеть надоть по тяжкой.
– Тьфу, – отплюнулся Акимыч.
– Управился я там. Было выйти хотел. А Колька мине и говорить: мол, пожди, дерни за ручку. Я дернул. И аж дверь чуть ни вышиб. Вода откуда– то как сиганеть! Все вымыло начисто.
– Не могеть таво быть, – засомневался Акимыч.
– Чево ето? Своими глазами видел. В их и баня не нашенская. Сверху с трубы ливинь плешшить. И горячий и холоднай.
– Ишь ты!
– Да живым ети хитрости не пахнуть. Вона в тайге выйдишь к роднику, вода в ем аж звинит. Студная, зубы колотятца. А што ишо, в кранти том… Воду винтом укоротить и дите смогеть. Нет в ей силы.
Авдотья тем временем неслышно на стол накрывала. Запыхтел натужно раскрасневшийся самовар. Старушка подошла к Акимычу:
– Угощай гостя-то.
– То и верно, – опомнился старик.
Изголодавшийся с дороги Макарыч пихал пальцем в рот горячее мясо, блины. Обливаясь потом, пил чай.
– Акимыч-то надысь медведя убил, – похвалилась робко Авдотья, – шелапутнаво.
– Шатуна, – поправил ее хозяин.
– На хронт отдал боле половины. Ноне тож на охоту сбираитца.
– Не тяжко? – спросил его Макарыч.
– Покуда нет.
– А мине прихватывать стало. В тайге надысь прихватило, не чаял одыбатца.
– С чево то?
– Нутро сдавать удумало. Ну да я ево в оглобли взял.
– Худо так.
– Ништо! Свое положенное откопчу, а там была не была.
– Годочки-то наши, што вода в реке. А дно мелеет, старится. Как и мы. Мне шибко помирать не хочется теперича. Забоялся я смертушки своей. Каждому деньку радуюсь, што гостинцу.
– А кому, скажи ка, подыхать охота? – перебил его Макарыч. – Я не раз сибе схоронил ишо на каторги. Ан, вишь, жив. Тибе-то и пововси помирать-то ни к чиму. Ить худче мово жисть проканителил. Хочь раз в веку брюхо откормил. С бабкой на печи спишь. А то и ни телом, ни душой не грелси.
Акимыч кашлянул, смолчал.
– Ноне от хвори люд избавляишь аль нет?
– Маленько. Теперича што? Бабы рожать поразучились. Ребят т о выхаживаю. А когда старух. От ломоты да от живота. В их годы и болести такие несурьезные. В село-то я не хожу. Там фершал объявился. Меня лаял погано. Обещал властям пожалиться. Мол, грамоты не ведаишь, нечево и люд выхаживать. Говорил, будто я с ума соскочил. И еще как-то бранился по-ученаму. Да Бог с ним. Люд-то ево не больно жалуит. Не верит. Пьет он шибко. Да и до баб, што петух, охочь. Да што с ево взять? Мужик – он и есть мужик. Во што ни ряди. Хоть в фершала, хоть в батюшку. Только у етаво нутря гнилая.
– В городи слыхивал я, што войне конец видитца. Хриц бигить в обрат. Глядишь, повертаютца мужики, все поналадитца.
– Дай-то Бог, – перекрестился Акимыч на икону.
– Мово-то сыночка уже не вернуть, — заплакала Авдотья в рукав. – И за што ево там сгубили? Уж лучше б я, старая, околела. На каво миня Митюшка мой оставил? – причитала старушка.
Макарыч с Акимычем враз смолкли. Закряхтев, головы опустили. Неловко им стало. На войне они никого не потеряли. Разве только согнула она их спины. Да на руки мозолей поприбавила. Туда, на фронт, они отправляли все, что в тайге посчастливилось добыть. Макарыч сговорил Марью и отправил на фронт все ее вязанье. Авось, теплое сгодится.
– Эх, горе наше горькое. Густо им земля усеяна. Оттаво, знать, и всходы соленые, слезами ноне бабы умываютца, детва смеха не ведаит. Девки забыли про шалости. Ворочают, ровно мужики. Старютца, любви не познав.
Авдотья от этих слов еще пуще в слезах заколотилась.
– Будя изводить душу. Про сына, оно хочь и худо приключилось, ноне убиватца забудь. Слезами с могилы не возвернешь. Разе сама сибе в гроб сгонишь безвременно, – говорил Макарыч.
Он понимал, что не утешить старуху.
– Так-то оно, может, и верно, да сынка-то больно жаль, – всхлипнула Авдотья.
– Жал ью ево ни вирнешь.
Охнул Макарыч, крутнулся на лавке так, что она захрустела. Из-под нее, выпучив глаза, Шельма выскочила. С воплем. На Макарыча взлаяла истошно.
– Што б те рысь покусала, бесовка! Горластая тварь. И откудова в эдаком теле злобе взятца б?
– Баба она потому как. Крику, боле чем ума, в ней сидит, – заметил Акимыч.
– Нешто в ей, окромя злобы, души нет? – спросила Авдотья. – Баб вы больно ругаете на што?
– Вся беда от их, треклятых. Ноне мужиков война поизвела. Бить их, дурных, некому стало. Оттаво пововси оглупели. Надысь, в городи стал я в черед. В лавку за хлебом. А тут одна, што взади была, выперлась наперед. И ровно ошалелая, к окошку рветца. Я ее угомонить схотел. Да куды там! Блажь, видать, в голову стукнула. И кричить: «Не будить таво, штоб я, дама, сзаду мужика хлеб брала. Ему, мордовороту, ождать можно». Ну, я и не стерпел. И говорю: «Ты, вертихвостка, на што хайло открыла? Аль место свое не ведаишь? Кышь отсель, стерва крашеная! Морду спохабить сыскала время. И тута ождешь. Сгинь с глаз!»
Акимыч неодобрительно качал головой:
– На што при народи испозорил?
Макарыч аж подскочил от этих слов.
– Не-е-е, блажной ты! Ей хрест! Аль позабыл, старой пень, как бабы тибе порочили? Голова твоя – картоха порченая. При народи я испозорил! Несешь тут всяку глупость. Заступник выискалси! Мало оне те, черт шелудивый, в бороду плевались.
Акимыч даже отвернулся. Авдотья, заслышав такое чернословье, на печку влезла. Занавеской прикрылась. Шельма и та от удивления брехать перестала. В угол забилась. На Акимыча оглядывалась. Будто защиты просила. Не то лаять, дышать громко убоялась.
– Ты поостынь малость. Взвился, ровно я тебе каленую кочергу подсунул на лавку. Охолонь.
– Не наведаюсь боле. На што мине? Проповедей наслухалси от всяких. Колька и тот норовил поучать. Как жить надобно. Ровно ни ен, а я дите. Куды ни суньси, всюду умники. Все ба на свой лад перековывали. Мине, старово, тож за рога норовят ухватить. Вот вам всем, – Макарыч свернул фигу в сторону Акимыча. На Шельму ногой топнул.
Макарыч вздохнул. Отвернулся от окна, в которое бесстыдно луна глядела. И глазами с Шельмой встретился. Она тоже на луну серчала, – та сдобной краюхой ей показалась. И хотелось собаке укусить жирный круг. Слопать всю до крохи. Но до нее сколь мордой ни тянулась, достать не могла. Разве в луже, завидев, не раз с водой вылакала. Но от этого в животе сытней не сделалось. И дробилась луна в глазах собачьих на две светлые звездочки.
Макарыч тихонько похлопал по одеялу, – позвал Шельму. Та осторожно подошла. Обнюхала руку. Ткнулась мокрым носом в ладонь. Кокетливо крутнула задом. Фыркнула.
– При хозяине верность кажишь. А чуть уснул, враз про честь запамятовала. Эх ты, баба, – оттолкнул ее лесник.
Ему припомнилась Марья. Как-то она там одна? Поди ка, вяжет что-нибудь. Или молится за него. «У ей все заботы», – потянуло лесника домой. К ней. Ну, вот хоть сейчас вскакивай и беги. «Ежли б не Акимыч. Ен, колода трухлявая, ни в жисть не пойметь. Теперь блюди с им приличию, жди утра. А на што?» Макарыч, скрежетнув зубами, закрыл глаза. Но не спалось. То Колька виделся ему. Идет, паршивец, в шляпе, как у начальника. Морда у него сытая. И на Макарыча, подлец эдакий, не смотрит. Зазнался… То виделся он тощим, ободранным. И все руки тянул за подмогой. А Макарыч никак не мог его спасти.
До утра кое-как долежал. Чуть свет клюнулся – собираться стал. Акимыч хмурился. Авдотья на стол накрывала. Молчали.
– Вы, таво, волками не коситесь. Не в долг пришел выпросить… Коль потревожил – не обессудь, – обратился Макарыч к хозяину.
– Поди, в городе трепаться понапрасну выучился. Не на то обида, што пришел, а на то, што покидаишь скоро. Худа тебе не причинили. На каво серчаишь – ума не приложу.
– Домой надобно. Марья, почитай,
Третью неделю одна. Нешто она мине чужая? Небось, наскучалси. И в доми подмочь ужо пора.
Как хозяин ни уговаривал Макарыча остаться – не согласился. К другому вечеру в свой дом пришел.
– Ох, отец, уж и не чаяла тебя увидеть, – заплакала, забилась в его руках Марья.
– Чево эдак-то? – встрепенулся Макарыч.
– Беда у нас. Серый-то вконец занемог. Не подымается. Не ест. По глазам вижу – помрет скоро. Будто тебя единого ждал, чтоб проститься.
Макарыч враз в сарайчик кинулся. Серый лежал на сене. Завидев хозяина, заржал тихонько. Мордой к нему потянулся. Да голова, видать, отяжелела. Уронил ее Серый.
– Лежи, лежи, дружок мой единай. Вот и отдружили мы. Вишь, как оно… Знать, недолго я тя перескриплю, – дрогнули руки Макарыча.
Старый конь смотрел на него, не моргая.
– Отъездили мы с тобой. И отдохнуть-то тибе не привелось.
Дороги… Сколько их исходили, изъездили они вдвоем. Так незаметно шли рядом их жизни. Серый уронил голову на сено. Следил за лесником. Макарычу тяжело. На боках у коня не зажили следы кнута. Глубокие, больные. Но конь о них забыл.
– Неужто все? – не верил лесник, обнял Серого за голову.
А тот жалел хозяина: кто ж теперь его, старого, возить будет? Ведь он уже совсем не такой, как прежде.
Серый закрыл глаза, припоминал прошлое. А леснику словно кто за пазухой костер развел, и вот ест поедом огонь грудь. Конь был единственным его самым верным другом. Он понимал без слов. Не подводил. А вот сейчас… Макарыч, пошатываясь, вернулся в избу. И вдруг среди ночи подскочил. Будто кто кипятком ошпарил. Серый бился в последних судорогах. Всхрапывал. Силился встать. Но куда там: смерть забрала у него силы, мученья оставила. Другой бы пристрелил, чтоб не маялась животина. Макарыч прижался горячим лбом к похолодевшей стене. Отвернулся. Куда там стрелять… Руки вконец обвисли: не Серого пристрелить, а самому впору в петлю лезь.
– Господи, али дай ему кончину скорую, штоб не изводилси, али спаси ево. На што бедолага мучитца? Ить, окромя хомута, не довелось в судьбине ему ничево познать. Помоги. Рассуди сам. Облегчи долю лошадью, – просил Макарыч.
К утру Серого не стало. Он тихо лежал на се н е. Его дороги оборвались. Ни стонов, ни слез. Накрепко закрытые глаза не могли видеть, как, по– мужичьи костыляя судьбу, долго не мог прийти в себя Макарыч.
И стал лесник неразговорчивым. В тайгу на обход уходил надолго. Помнило таежное зверье, как порою часами, не шелохнувшись, сидел он неподвижно у потухшего костра. Иногда так и засыпал – сидя. Снег его кутал в саван заживо. На что пугливы зайцы, а и те его не раз за сугроб принимали.
Тайга… Ее одну больше себя любил Макарыч. Ей доверял и больное и радостное. Сюда шел лечить хворобу. Знал: она не выдаст. Никому не расскажет о предзакатных снах. Не поведает ворогам про думки его.
Так незаметно отходил здесь душой. Вроде оживать стал: замечал, как наливались синью снега, рыхлели упругие бока сугробов. Шла весна.
Птахи теперь разболтались, прихорашивались, как бабы перед вечеринкой. Глотки прочищали. Дятел, высунувшись из дупла, плотничал. Весна! Скоро свадьбы.
Вороны и те друг к другу приглядывались, пару искали. Сойки пронырливыми старухами по тайге шныряли, пропитание добывали. Даже исхудалые за зиму бурундуки и тс на своих старых бурундучих смотреть перестали. На других заглядывались, помоложе. Зайчиха, чтоб избежать их участи, срочно переоделась в летнюю шубку. Авось, избежит их участи. Свадьба скоро…
И лишь отощалой лисе все нипочем: следит, шельма, за птахами. Нет-нет, да и сцапает размечтавшихся. На пустое брюхо ей о весне не думалось.
Подтаивали берлоги. К ночи еще терпимо. Днем же талая вода того и гляди медведей затопит. Медвежата матух беспокоили. Наружу им захотелось. На воздух. Медведицы вначале шлепками отделывались, а потом не выдержали. Рявкнув, из берлог выдирались. Пискунов в тайгу повывели. А в ней еще холодно, голодно. Но медвежата резвились.
Вскоре из-под снега выглянули на свет черноголовые муравейники. В этом общежитии тоже жизнь закипела. Расползлись мураши по тропкам приглядывать место для новых родовых имений. Пришла пора молодь отделить. И потащили их старейшины рода муравьиного в тайгу – учить уму-разуму: как муравейник закладывать, куда от дождей и заморозков в нем яйца прятать, чтоб потомство не загубить. Как дом и семью блюсти да добро горбом наживать. Молодые мураши за стариками в тайгу вприскочку кинулись. Скоро и у них свадьбы…
Пела, гудела, свистела и плакала тайга на все голоса. Лилась кровь зевак. Летели пух и перья с пойманных лисами и рысями птиц. Мураши те перья в дом волокли, чужой смертью греться, – на этом пухе мурашат своих выходят. Кто умрет, кто родится – все в тайге предусмотрено. А вон медвежонок из-под матухи выкатился недавно, а уже три муравейника сгубил. Горстями тварь ползучую в рот пихал. Кислое месиво по вкусу пришлось. Хотел еще один раскурочить, да сытый сон одолел. Тут его рысь подкараулила. Проснуться не дала. И снова рождение и кровь. Уж так тайга повелела.
А вон и рысь кровью исходила, мяукала котенком перед смертью. Такою на свет родилась, такою б и кончилась, да зубы на кровь охочие, – медвежонка сгубила и матуху его укараулила, да промазала на прыжке. Живот не учла, что с каждым днем тяжелел. Вот-вот потомство появилось бы. Его в утробе выкармливала. Чужое дитя не пожалела. За то медведица ее и сграбастала. Понюхав, откинула дохлую. Даже про запас не закопала, чтоб потом духовитую съесть. Каждому зверю в тайге своя судьба.
Вон по-над стлаником два бурундука из-за подружки в кровь передрались. Один другому ухо прокусил, тот, разозлившись, сопернику костюм порвал на брюхе. Морду в синяк изукрасил. Подружка за победителем в нору, а тут ее лиса и сцапала. Невеста и не пикнула. Свадьба не состоялась…
Тайга день ото дня менялась. Снег сбросила. Деревья еще голые. Ядреным духом от них несло. Зеленым соком налились. Тоже свою пору ждали. Верба первой фату надела. Подружек решила опередить. Закудрявилась. Но холодный туман быстро смял ее прическу. Поморозил без жалости. И поникла верба. Почернела развенчанная. А уж через неделю снова ожила. Зазвенела по ветру пушистыми сережками. Ими ожоги морозные стыдливо завесила. Словно жена мужнины синяки от чужих глаз спрятала.
У ног ее мягким пухом трава постелилась. В траве той всякое таежное зверье, – дом, корм, засаду себе сыскали. И снова радость и кровь вперемешку скрутились. Не поймешь, чего в тайге больше. Вон медведица пробкой облегчилась, враз исхудала. Шерсть на боках полезла. Брюхо в спину вросло. Стала матуха харч промышлять, за живью охотиться. Где-то темной ночью оленуху укараулила. Задрала. И под бурелом от зверья подальше упрятала. Землей закопала, чтоб никто ее добычу не утащил. Чтоб мясо духом взялось. К вечеру другого дня услышала, как воронье у ее утайки горло драло. Достать – сил нет, добыть сами – не могут. Вот и горланили дурные завистники. Медведица их никогда за птиц не считала. И прямиком к добыче направилась.
А в другом распадке, где звонкий ручей подточил скалы, куропатка об землю билась. Кровью изошлась. Всех птенцов лиса пожрала. И исходило слезами сердце птичье. Отомстить бы разбойнице, да где сил взять?
На ветке белка пригорюнилась. Терла шуструю мордашку лапами. Будто слезы кулачонками размазывала. Кто-то обидел. Последние орехи украл, как жить-то теперь? Хоть в развилку меж сучьев головой залезь. Знала летяга: многие ее подружки так и покончили с собой. Какая с голоду, какая с тоски по умершим бельчатам повесилась. Этой же жить хотелось. Да еще как! В животе-то не меньше полдюжины бельчат шевелилось. Дружок совсем измучился, потомства дожидаючись. Все утешал. Прошлогодние шишки искал. Заботился. Но печаль об украденном не прошла. Знала белка: другим-то и похуже доставалось. Вон тот же хромой медведь, старый холостяк, вздумал в самое лето матуху найти. В такую пору все порядочные медведи в паре ходят. Но хромой – настырный. Нашел себе пару. Привел в свою глухомань. Решил потомство завести. Берлогу, поди, с месяц готовил. А как к зиме дело подошло, брюхатая его половина выгнала хромого из берлоги. Все оттого, что потомству там не нашлось бы места. Взревел от обиды медведь. На берлогу с досады кучу бревен натаскал. Хотел заживо свою половину схоронить. Но тем только утеплил берлогу. Сам же чуть шатуном не сделался. Земля, морозом схваченная, когтям не поддавалась. Выбрал хромой себе укрытие под буреломом, где ветки стланика закрыли его, да так и уснул на всю зиму. О том, что он живой, говорил пар, что из дырки шел, которую хромой продышал в снегу. Встал он по весне раньше других. Раньше других слышали звери его крик, когда он пробкой мучился. Раньше всех он на черемшу пошел. А, значит, раньше других и помрет.
Сторожко ступая меж деревьев, важенка вышла. За нею хор топал тяжко. Рога обомшели. Дышал гулко. Знать, тоже век его недолог. Ноги дрожали. Не слушались. Гнулись. Простуженный, он часто ложился на траву. Знала важенка: здоровый хор не ляжет. Видно, неспроста ее друга к земле потянуло. Скоро не сможет встать на ноги. «Хорошо, коль своей смертью падет», – оглядывалась она на него.
Хор остановился под скрипучей березой. Той, что чужой век прихватить успела. Хотя и на своем добра не видела. Все еще чего-то ждала от жизни. Весна уже давно не дарила дереву зелени. Стояло оно лысое, холодное. Ни земля, ни солнце не могли его согреть. Кровь застыла в жилах. Одна ломота да скрип остались. Тем и держалась. Морщин и зарубок на стволе побольше, чем годов набиралось. А все стоит, жить хочется.
Хор и береза уже не боялись предстоящей кончины. Но все же с трепетом ждали наступления каждого утра.
Макарыч смотрел на тайгу, дышал свежим весенним воздухом. Взглядом оглаживал каждую былинку, дерево: в них ведь тоже сердце бьется и кровь бежит. Особая. Вон уже и шиповник листья выпустил. Они, как цыплята из яйца, проклюнулись. На свет любопытно смотрят. Будто нет для них большей радости, чем, щурясь на солнце, макушки греть.
Лесник тихо брел по участку. Видел, как тонконогий подснежник кудлатой башкой крутил во все стороны. Озирался. То ли боялся кого, то ли на народе решил показать себя позаметней: стебель выкручивал, коленца выкидывал. Перед обычной травушкой лохмами тряс. Фиолетовыми портками хвалился. Будто заграничные. А чуть сумерки небо прикрыли – сник. В темноте завсегда все кошки серы. Так и подснежник: и он, и трава – равны стали.
Над настороженной тайгой уже месяц взошел, когда Макарыч костер развел. Лесник, не шевелясь, смотрел на огонь. Потом вздохнул. Пыхнул трубкой, глянул вслед дымку. На небо. Сверху на Макарыча быком наставил рога месяц.
– Экий дурак, на што грозисси? Аль забыл, хто я, а хто ты? Те ж, ослу, твоя мордатая луна рога наставила. Поди, ишшишь ее, шалую. А она греховодничать, покуда ты мине пужаишь. Беспутная жисть твоя. Своей бабе морду побить не могешь. Потому тибе и рога привешены. На тибе, лешака, худосочнаво, ни одна сука брехнуть не схочитъ. А ты мине пужать удумал. Козел облезлай!
Макарыч не любил месяц за его рога, за желтую чахоточную личность. И, завидев его, когда поблизости никого не было, ругал матерно:
– Хочь баб устыдилси б! Ишь, срам свой, мужичью немочь выставил, окаянный! Весь род наш поганишь! На люд эдакой образиной объявился, сгинь, штоб те кол в зад!..
А месяц плыл мимо звезд, как мудрый старец. Холодный, всевидящий, отощалый от состраданий к земному. Но чем он мог помочь? А потому рождались на небе звезды новые. Появлялись они там, где падала холодная слеза месяца. Падала и застывала… На земле, того не ведая, шла своя жизнь. Рождались вместо звезд заботы. Вот так и у Макарыча. Скоро, уж очень скоро должен был уйти в тайгу Колька. Макарыч ждал и боялся этого. Куда направят его? Авось напишет…
Но Колька не писал. И оттого все горше становилось на душе. Все чаще уходил в тайгу Макарыч. Вот только от думок своих уйти никак не мог. А они под старость стали и вовсе въедливыми. От них не открестишься ни бранью, ни молитвой.
«Чужая кровь. Потому к мине не тянить. Не чуит добра. Своим умом хотить жить. А ен-то тож с кровью переходит. Я-то ему нихто. Не зазря и в городи все мине поучал. Морду кривил. Поругивал. Эх, цыпленок, пожил ба опрежь с мое. Нешто наука-то дасть, што я вразумил ба? Про то ученым знать не дано. В жисти оне хилые, неприспос о бленныи. Абы книжки марать. Я ба те жисть-то, ни енту бумажную, а гольную, кака она есть, всю показал ба, ан не понуждался…» – думал лесник, и в горькой складке кривились его побелевшие губы.
Мертвым светом высеребрил голову лесника постаревший месяц. Он заглянул в глаза Макарыча и, не согрев их, огладил бороду, плечи. Сейчас лесник был похож на странника – неземного, нездешнего. Уже ничто не грело его. Ни костер, ни весна. Где-то в середине, внутри – будто замерзло все. Да так и не оттаяло. И хотя молодая листва нашептывала что-то дерзкое, Макарыч не слышал ее.
Тихо, на цыпочках подкрался к ночи балагур– ветер. Он заглянул в разбуженные лица берез, легонько погладил кудряшки. Потом опустился ниже к самой траве. Зашуршал молодой осокой. Буд то случайно натолкнулся на костер, на Макарыча. Покрутился верной собакой около ног, присел на корточки рядом. Игриво в лицо леснику дунул. Тот и не заметил. Тогда в костер, натужившись, метнулся. Тот заискрился, покраснел. Пепел сбросил. Теплом взыграл. И ожил, заулыбался Макарыч. Сушняку подбросил в костер. Тот и вовсе ожил. Запел на все голоса, зашипел, затрещал.
Макарыч руками, нутром к нему потянулся. Крякнул довольно. А ветер, усевшись к нему на колени, бородой забавлялся. Лесник за пазуху ее упрятал. А шалый подслушивал мысли старика. От них ему грустно стало. Про весну забыл. Пригорюнился побитым котенком, руки леснику прохладным языком лизал.
А Макарычу припомнилось, как в свой первый день после каторги сидел вот так же у костра. Один, совсем один, как в этот вечер. Болезно поскрипывала спина, потом боль к сердцу добралась. Вцепилась в него зубами. Упал он. Не видал тогда, куда угодил. Тьма огонь скрыла. Очнулся от боли. На руке, груди – волдыри вздулись. Макарыч их мочой вытравил. Но больней ожогов ныла душа обгорелая. Знал: умри он тут у костра, закопать никто б не пришел. Не проводил бы с Богом душу на покой. И ныла, ныла душа, как ветер на заброшенном погосте. Скулила об утерянном.
«Эх! Мальчонку ба Бог послал! Да иде тута бабу сыскать? От судьбину Господь дал – худче зверьей», – горевал тогда Макарыч.
Костер горел тихо, бездымно. Пламя неярким светом грело, разглаживало морщины. И вдруг Макарыч настороженно вздрогнул. Повернул голову в темноту. Глаза буровили каждый куст, дере во, травинку. Нет, он не обманулся. Кто-то ломился напрямик к нему. Лесник вскочил. Схватил ружье. В такую пору самое время оголодавшему медведю в лапы попасть. Одной травой он не насытится.
Лесник проверил, заряжено ли ружье. А треск и шум нарастали.
– Отец! – послышалось совсем неожиданно.
Макарыч даже дышать перестал: неужто?!
– Отец! – повторил знакомый голос. И вот уже Колька подскочил к Макарычу. Обхватил его: – Что же дома тебе не сидится? Марье там совсем скучно. И меня ждать перестал. Сказывала, что ты уже вторую неделю, как в тайгу сгинул. Я-то сразу понял, что ты здесь. Вон куда забрался.
– А ты-то как? Совсем, небось? Куды послали? К нам? Тут, станетца, остановишьси? – любопытствовал Макарыч.
– Тут буду. Да знаешь где? На твоей каторге.
– Вона куды… – задумался лесник, и что-то дрогнуло в его душе. Знал, многие там погибли. Редко кому с тех мест удавалось живым вернуться. Решил сказать об этом Кольке: – То ли души умерших не терпют на своем погости чужих, пришлых. То ли сама планида противилась, штоб земь ковыряли, в кой останки покоились от каторжников. То мине и не ведомо. Одно слыхивал – один за другим в тех местах отряды сгинули. Пойдуть их искать и тож там навек останутца. Все с умов споскакивали – куды люд деваитца? А итти туды искать поубоялись. Помню, мужиков сельских на е н то дело подбивали. Мол, места те вам знакомы. Большой магарыч за енто дело сулили. Тому, хто хочь останки найдеть. И жил в том селе мужичонка один запойнай. В ево ни кола, ни двора, ни бабы. Пил, олух, по-черному. Тут прослышал про посулы, Ну и порешилси. Ему-то все едино, кому душу запродать, – черту али ангелу. Хто боле дасть. Приплелси ен к самому главному начальнику и брешить: дескать, бери мине в тайгу, знаю ее как самово сибе. А иде ему, псу подзаборному, тайгу-то знать? Ен, ить, до ветру в ее не добрел ни разу. По пьяному делу в портки валил. Ну, а начальник тот и поверил. Ухи развесил. Людей с им снарядил. Мужичонку таво заместо ихнево проводника исделал. А тот и толкуить: дай, мол, аванец. Ну, а когда пропилеи, ево к начальнику принесли. Тот не стал боле дожидатца, покуда сосватанай протвирезить, повилел ево сбирать в тайгу. На другой день оне и ушли. Двенадцать душ. Так-то.
Макарыч закурил, задумался, словно забыл о том, что Колька ждет, что же было дальше.
– Ну и как? Вернулись они живыми?
– Ого! Скорай какой! Поостынь. Послухай, – а сам все курил долгими сиплыми затяжками. Докурив, выбил пепел и продолжил: – Тот мужик в тайгу, ровно в кабак пошел. Ума ему от родов Господь не дал. Ну, а едиными портками да званьем мужичьим тайгу-матушку н е осилить. От и над-.смеялась она над им! Не ведали мы долго про тот отряд. А тут мине упросили пойтить искать пропавших. Пошел я один. Думал – хочь сгину, а ни– каво за собой не потяну. Добралси я до тех местов к третьему дню. Двинулси по ущелью, што Совой зоветца. Глядь, всяка рухлядь порвана валяитца. Пепел от костра, росами прибитай. Смекнул: давненько тут люд побывал. Поковылял дале. К вечеру другу стоянку заприметил. Тож давнюю. Иду, не ведаю, на чей след напал. Про сибе таво запойнаво кляну. Ить как греха не спужалси, столько смертей на душу взять? Ить ен, оглобля пропитая, от бурундучьева писка рехнутца мог. Тут жа ну што на грех – ни звуку. Хочь ба сойка крикнула. Она, сам ведаишь, с любопытности орет. Кады заметить каво. И тут послышал хрип вороний. Коль оне, могильщики, голос п одають, иде-то падаль завелась. Я туды и заторопилси. Глядь: батюшки светы! Волос в дыбки полез. Зашевелилси. По душе ровно смертушка огладила холодной лапой. Лежат мужики хто как. Посинелый. И дух от их – худче не бывает. Один так и навовси, руки, ноги заломивши, под корягу влез. Богу душу тяжко отдавал. Други е тож не легше. Оторопел я. Ить не убойны, не с голодухи, не зверье, а померли все. Токо мужика с ими нету таво. Стрельнул я – молчок. В окрест искать стал и тож ничево. Тут жа темь настала. Надумал костер развесть. Подошел к старому огнищу, у какова отряд напоследок грелси. Глядь – нож валяитца. Котелок, ведро опрокинутое. Заглянул, а в ем поганый грибы варенаи. Поусохли ужо. Да и времечко прошло порядком, как отряд ушел. Почитай, сколь будить с осени до весны. Отравились оне, а хто им помог, потом дозналси. Поначалу думалось, што по неведенью сами опростоволосились, ан нет. Не тут-то было. Но в ту ночь от костра мине отойти было жутко. Наутро, чуть развиднелось, собрал я всех мужиков под дерево. И только поклад схоронить собрался, шорох за спиной заслышал. Обернулси старик стоит. Белай, што кора березы. Трясучий и пошти гольнай. Завидил мине и за ва л ежник попятилси. Я к ему. Признал пропойцу. Ухватил за грудки. Ей вырываитца. Несетъ нисусветно што. Тряхнул – поумнел враз. Етот гад в карьере жил, иде я ране каторгу отбывал. Харчей ему хватило отрядных. Што остались. Вот только одежу с трупов сымать спужалси. Потому гольнай был. Тех геолохов ен поотравил. Решил их таежным накормить, а толку в грыбах не веда ла . Оне жа и не пглянули, каво ен в ведре варил. Сам-то, грыбов не дождав, от чифиру сдурел. Сам тож хотел тех грыбов отведать. Да поглянув, што с мужиками деитца, понял. Да поздно. Протвирезил. А пойтить в село убоялси. Сказывал, што мертвых часто изведывал, все просил простить грех. А можа, и тут брехал, с такова станитца.