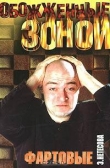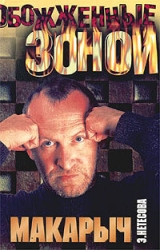
Текст книги "Макарыч"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
– Так то птицы, я ж тебя про зверя спрашивал.
– У их не чишше. Надысь в зиму застукал оле н ий блуд. Глядючи на ето, серце кровью обливалось.
– Олени разе изменяют?
– То как жа?
– Вот не знал.
– Ты слухай, как в их приключилось-то.
– Ну-ну.
– Не запрет, не понукай.
Полез за кисетом Макарыч; скрутив козью ножку, закурил. Помолчав, он посмотрел на сгорающего от любопытства директора. Подумал, словно вспоминал.
– Олень тот навроде мине был. Не молодший, конешно. Была в ево полна стая баб-олених. Серед всех единая, знать, самая любая молодка. С ей он любовалси. Ей с-под снегу харч добывал. А за етим стадом мужики-олени ходили. Холостыя. Навроде людских парней. Той важенке и приглянулся один. Хлюст тонко н огай. Но, знать, крепкий. Подошел ен к ей. Ластитца. Она не противит ц а. Старой узрел и к им. Долго оне бились. Друг дружку рогами шпыняли. Молодой верткай. Старому куды за им. Всю силушку в полюбовницу вложил. Сибе не оставил и про чернай день. Тот хлюст и сгубил ево. Насмерть рогами заколол. Изодрал всево. Старой и помереть не поспел, как та молодка с убойцем снюхалась. Сбегла к ему. Глянул я: батюшки, в таво старика все бока в рубцах от драк. И смерть ен свою в драке принял. Обидно вот, непутно помер. Из-за бабы.
– Не все ж они такие.
– Поживи с мое – узришь. Баба – горе. Нет от ей радости. Беда сплошная. Жисть с ей опосля детворы полынью скоро оборачиваетца.
– Ну, вот вы со своей хорошо живете?
– Моя не в счет. Особливая потому как. Да и жистью забижена.
– Таких теперь много.
– Э-э-э, нет. Ину сколь ни бей, хочь планида, хочь мужик, она все едино, што грыб-мухомор. Аль крушина. С виду – мед. Сожри – отрава.
– Значит, жениться мужикам не стоит?
– Ежель по уму да с выбором, отчево жа?
– Ну, а кто в тайге самый добрый зверь?
– Все мужики.
Директор, не выдержав, рассмеялся.
– Чево?
– А это почему?
– Ен жисть даеть. Детву ростить. Дуру-бабу в холе и сытности содержит. Доброты в их много.
– Ну, а подлый мужик-зверь есть в тайге?
– Как и серед люду, встречаютца.
– Расскажи.
– На што тибе?
– Учиться у тебя хочу.
– В науке выведаишь.
– О том в книгах нет.
– Поживешь, сам доглядишь.
– От тебя узнать хотелось бы.
– Ну слухай. Живеть в нашей тайге птаха невеликая. Промеж люду шилоносом кличитца. Как поштучному, не ведаю. И ни к чему мине об ей с книг знать. Дак вот, шилонос тот – худче надзирателя. Досмотрщик по ганай. Досмотрить чию беду – всем птахам растреплить. Ровно баба в чужии дупла, г н езды подглядить. Любопытственнай до ужасти! Крикливай и воровитай. Сам ни на што не приспособлеинай. Дажа гнезда не вьет путево. Все через ж опу. На земи яйца высиживаит. От неумелости своей. Ни с единой тварью Божией не дружитца. Натура в ем вонючая. Не могеть без подлостев. А ответ за их держать не умеить. Коль хто схочить шилоносу рожу пошшипать, подлюга то нутром враз почуить. Убигить. С криком, и не простым. Матерным.
– Ой, Макарыч, уморил, хватит.
– Чем жа?
– Разве птицы умеют матом-то?
– Ого! Тому оне мужиков понаучили. Ты послухай, как ворон кричить, кады тужитца. А сойки, кроншпили, орланы, мухоловки. Послухай! Серед мужиков не враз эдакое доведетца послуха т ь.
– Макарыч, а среди зверья есть свое начальство?
В это время над их головами высоко в небе пролетел гусиный косяк. Птицы гоготали. Радовались возвращению в родные места.
– Видишь?
– Вижу.
– Ни хрена ты не видишь.
– Гуси.
– Эх ты, гуси! То косяк. Вишь, клином вытянулся. А в голове ево, глянь, вожак. Ен заместо Бога птичьево в косяке. Без ево они сюды путь не сыскали бы. Чашше-то старай гусак. Мудрай. Ен у них и начальство.
– А у других?
– В тайге серед зверья такова нет. Кажнай сам со своей бабой мучитца. Разе на время свадеб главнай есть. Хто ведмежье стадо водить. Покуда те по парам не разбегутца. Олени тож. Покуда вожак вживе – табунятца. Потом парно любятца.
А вот козявки лишь вместях живуть. Старшова почитают. Детву растят всем миром.
– Но ведь и у них бабы есть.
– Как же! Есть.
– Тоже плохие?
– Нешто добрый?
– Расскажи.
– Вона мураши, знаишь, как свой баб и й пол лупют? Кусают их дажа. Во!
– За что же?
– Каку за лень, за дурь, за всяку подлость.
– Ну, слушай! Неужели в тайге среди зверья нет ни одной путевой?
– Пошто? Имеютца. Редко, как в людях.
– Ни за что не женюсь.
– А ты холостой?
– Да.
– Ништо. Поспеишь.
– После разговоров с тобой век жениться не захочешь!
– То ты зазря. Пора придет – не упускай.
– Может, уже упущена…
– Годы твои не великие.
– Я не о том. Семью хоть сейчас завести.
– Помеха имеитца?
– Да.
– То другой сказ.
– К сердцу ни одна не лежит. А моя девчонка на войне погибла, – опустил голову директор.
И только теперь приметил Макарыч в его волосах седые пряди.
– Сколь годов тибе?
– Двадцать один.
– О Господи, ты мине во внуки годисси.
– Вижу.
– Ты ишо сыщишь по сибе.
– Трудно будет.
– С чево?
– Война, Макарыч, многому научила.
– Кажнова жисть била. Да от планиды своей нихто не отмахнулси.
– Я вот тоже в поездках часто буду. Какая ждать захочет? Состарюсь, как тот олень, а мне рога и навешают.
– Оленю худче.
– Почему?
– Старому с ума выживать не годитца. Ить старой не мог ту важенку олененком подарить. А в ей жисть свое стребовала.
– Только из-за этого?
– Ишь ты, скорай!
– А что еще?
– Кровь в ей горячая. Ен жа подержаннай, слабай. Бабы-то чують.
– Все старятся.
– В том и беда. По добру разбегатца надо. Без подлостей. Без убойства. Нешто след так-то вот? Кормил ее, холеру, сам голоднай оставалси. Нет ба ей об ем подумать, подмочь. Дак до последу в нахлебницах была. Вот за што досада. Не пожалела при смерти. Абы мозги б ему не гадила. Ушла ба аль смерти дождалась ба…
– У тебя, Макарыч, дети есть?
– Имеи т ца.
– Сын?
– Конешно.
– Сколько ему?
– Тибе сверстник.
– Воевал?
– Не-е, училси.
– На кого?
– На бродягу.
– Не понял.
– Геолух али ишо как.
– А сейчас где?
– Опять в науке.
– В институте?
– Во-во, в ем самом.
– Видно, умный парень-то?
– Жисть покажить. Навроди башкой не обдилен.
– В тебя?
– Хто ево ведаить? Мужики не серчали на ево. Завсегда с уваженьем. Знать, неспроста.
– Приезжает?
– Ране бывал. Ноне на большой земле. Оттель враз не прискочишь. Не близкий свет.
– А у меня никого нет.
– На хронте сгинули?
– Брат погиб. Мать в Ленинграде умерла в блокаду.
– Чево ето – блокада?
– От голода.
– Ты чево не подсобил-то?
– Далеко был. К ней не так-то просто было попасть. Да и с передовой кто пустит?
– Знать, навовси ты безроднай осталси.
– Да, значит, так.
– Не тушуйси. Я тож с таких вот. А живу и ништо. Хочь ни единой родной кровинушки по свету
– А сын?
Макарыч враз растерялся.
– Я не об ем.
– И все ж сын. С ним уже легче. Свой. Этот не бросит.
Макарыч молчал.
– Если бы у меня сын был!
– Будит, не единай ишо.
– Так думаешь?
– Какие твои леты?
– Эх, Макарыч, ведь мне все не везет. Родных война отняла. Друзей тоже.
– У мине вот надысь Акимыч помер.
– А кто он тебе доводился?
– Сам не ведаю. Но родней всех мине был.
– От чего умер?
– Леты большие. Можа, с переживаниев. Их на ево долю с лихвой хватило.
– А кто он был?
– Тож лесник. Былой каторжник, как и я. Планиды многим сроднили. Чую, скоро сустренимси на том свете.
– Рано тебе.
– Чево рано-то? Свое отмаялси.
– А как же я без тебя?
Макарыч уставился на Евгения удивленно. Вот ведь не ждал. Сидит перед ним этот мальчишка, весь блескучий, директором кличетца, наград полно. Их, видать, кровушкой заслужил. Виски инеем покрылись. А в голосе – дрожь. Знать, не с любопытства потянулся к леснику.
И тепло стало на душе. Хотелось притянуть к себе Евгения. Согреть. Рассказать ему, как больно в старости быть одиноким. Поделиться всем. Хотелось погладить по пегим волосам, пригладить хохолок, что вздернулся на макушке, посадить его около себя и не отпускать долго-долго. Но руки дрогнули. В горле комок застрял. В памяти всплыл Колька. Его он мальчишкой пригрел. И что? Забыл тот о Макарыче, при нужде лишь иногда вспоминает. Глянув на директора, сказал, сдержав теплынь накатившую:
– Жил ты без мине до ныне и дале обойдесси.
– Зря ты. Я ведь, Макарыч, к тебе, как к своему.
– Вот и добро. Приходи, изведывай, коли што. Завсегда подмогу.
Вернулись они в зимовье через три дня. Директору понравился порядок на участке Макарыча. Он обещал наведываться сюда почаще.
– Заглядай. Оно не грех тайгу-матку познать. Да не по-писаному. Мы хочь и не ученаи, ведаим про ее, сколько Господь дозволил. На мой век хватило.
– Тебе, Макарыч, за все спасибо. Твоя наука кстати. О таком в книжках наших нет.
– Ты, Евгений Иванович, коль тайгой верховодить поставлен, опрежь научись почитать ее. Боле сибе. Иначе словит, как паута, в ево жа сети. И жизнюшку всю по кайле выпьет. Ни на што не поглянет. Усек?
– Понял.
– Ну то-то. Теперь поезжай с Богом. А случитца времечко – не гребуй. Можа, полесуем ишо.
А через неделю привез почтальон письмо от Кольки. Не дожидаясь просьб, читать принялся. Лесник слушал молча.
Колька писал, что институт будет заканчивать экстерном. Чтоб скорее на работу в тайгу прийти.
Соскучился, мол, по ней. Тянет домой. Обещал управиться в три года. Но приехать летом не сможет. Уж уехать, мол, так насовсем.
Макарыч насупился, велел ответ писать:
«Здравия те и долголетия, Николай. Получил я твое послание, каким шибко недоволен. Хто такой экстерн, што науку укорачиваит, мине неведомо про ево. Видать, добра от таво злодея не жди. Учись, как все люди. Можа, нам с Марьей не дотянуть тех зим, кои ты вдале будишь. Нешто тяжко на планере сигануть? Вон ить дед твой, Акимыч, не дождал си тибе. Отдал Богу душу. А ты ево перед кончиной забидил крепко. Чую, со мной то ж сдеитца. Воля твоя. Но в дом те пора наведатца».
Поклонов Макарыч слать не стал. Приедет и так. «А не схочит, то не подмога», – решил про себя.
С того дня в зимовье снова наступило беспокойство. «Приедет или нет?» – думали оба.
Время тянулось медленно. Лишь один раз пришли к Макарычу Петро с Вовкой. Наведать решили.
– Ну што, идолы, по осени пойдем на ведмедей?
– Если возьмете, пойдем.
– От Петра не откажусь. С ево толк могеть получитца. А Вовку – избави Бог, непутнай ты.
– Может, еще переделаем, – вступился за брата Петр.
– Не переменитца.
Братья топтались у порога, что-то явно не договаривали.
– Че мнетесь?
– Вы проходите, садитесь, – пригласила Марья.
– Да мы сейчас.
– Выкладывайте, с чем заявились, – не выдержал лесник.
– Мы не сами, председатель послал с сельсовета, – лопотал Вовка.
– На што?
– Порыбалить просил.
– Каво?
– Горбушу, чтоб сиротским семьям.
– Вас послал?
– Ну да, а тебя за старшего.
– Сами, што ль, не смогете?
– Мы-то что? Начальство не велит. Говорит, чтоб без тебя шагу не делали.
– Сколь рыбы надоть?
– По телеге в день. Сам знаешь, сиротских домов у нас целых два десятка.
– Где ставите ловить? – не выдержала Марья.
– Не боись, я кажнай день дома буду, – успокоил ее Макарыч.
– Коля приедит ведь.
– То не прознал нихто.
…Колька в это время раздумывал над письмом Макарыча. Может, и вправду поехать домой, хоть немного отдохнуть. Но тогда пропадет целое лето. Ведь Макарыч обязательно снова потянет в тайгу. А там разве позанимаешься? Но и не приехать нельзя. Вон как старик разозлился.
«Все из-за Акимыча. Разве втолкуешь старику, что не лежала душа к деду? Ведь заставлял себя все время. Рано ли, поздно ли – такое прорвалось бы. Что же делать? Поехать ненадолго – тоже
обидится», – никак не мог найти подходящее решение Колька.
Закончить институт экстерном он решил не потому, что соскучился по дому, по тайге. Мечталось об аспирантуре. Пока выпускников немного, попасть туда проще. Потом удастся ли? А поездив с партиями, осесть где-нибудь в городе, на теплом денежном месте.
Но пока Колька решил поехать к Макарычу на пару недель. Авось, потом найдет причину, уедет. Забрав Жака, рыжего боксера, пошел к самолету.
К зимовью он подходил ранним утром. Пес бежал впереди, обнюхивая деревья, кусты. Ему, горожанину, понравилось здесь. И Жак до визга гонялся за птахами. Лаял на них умильно.
Колька не удивился, что в зимовье уже не спят. Над трубой, закручиваясь в кольца, вился дым. Парень невольно ускорил шаг. Встреча со старым домом невольно напоминала ему о детстве. Оно ушло. Кто его вспомнит? Лишь зимовье, хитро подморгнув из-под провисшей крыши, улыбнется. Кто-кто, а уж оно крепко держит в памяти Колькины проказы. Да и как их забыть? Вон угол, который и теперь хранит следы медвежьих когтей. А на чердаке в углу до сих пор лежит обгорелая гильза, память о первой удаче на охоте.
Колька помнил здесь все. Каждую мелочь. Знал по голосу каждую половицу в доме, каждую царапину на двери. Каждый след на пороге. Серый от росы – он уже просыхал. Словно нарочно умылся перед встречей с парнем. Вот и порожки. Хотянет. Эти новые. Недавние. Их Колька не видел. Знать, те доски поистерлись, вот и заменил их Макарыч.
Колька ступил на доски. Но они не всхлипнули, как те, радуясь встрече. Уверенно взяли на свои плечи тяжесть. Снесли ее молча. И снова перемена. Ручка у двери была уже не той громадной, деревянной, которую Колька в детстве брал двумя руками, иначе не мог открыть. Теперь ее заменила железная. Блестящая. Колька осторожно взялся за незнакомку. Та, не шелохнувшись, выдержала рывок. И… Парень знал натужное оханье старушки-двери. Оно стало еще резче, надсаднее.
– Привет дому и вам!
На голос Кольки оглянулась Марья.
– Ох, Господи, приехал! Сколь ж дали-то!
– А где отец?
– Сейчас крикну. Он на речке с мужиками.
– Зачем?
– Рыбу ловят.
– Так я сам к нему схожу, – выскочил Колька.
Он бежал знакомой тропинкой. Следом за ним Жак, боявшийся отстать от хозяина.
Марья и вовсе растерялась. Ведь, значит, не зря она сегодня во сне яйца собирала. Должен был кто-то явиться. Но Макарыч на сон жены рукой махнул.
– Те вечно непутное привидитца.
– Глядишь, Колька явится.
– Жди ево, как летошнай снег. Письмо-то ужо кады послали. Двадцать ден прошло. А ты про яйца. Будя об ем. Не схотел – не надоть.
– Не ходил бы ты сегодня.
– А че делать стану? С тобой блины пекти?
– Приехал! – встретил Макарыч Кольку.
Руки лесника в рыбьей чешуе. Красные от воды и натуги. От него пахло рекой и утром.
– Эй! Мужики, я в избу. Вы тута управляйтесь сами! – крикнул он и вразвалку пошел впереди Кольки.
Жак, нагнав Макарыча, обнюхал его ноги. Лесник оглянулся:
– Ето и есть тот хранцус?
– Ага.
– Харя-то в ево справная. Ведмедю не объять.
– К тебе привез, насовсем.
– Нехай. Поди, с Шельмой сдружитца. От Акимыча сиротой осталась.
– Этот породистый.
– На што гораздай?
– Пока не знаю.
– Ведомо, лишь на жратву.
– Что сердитый? – не выдержал Колька.
– Чево прописывал худо?
– Ты о чем?
– Об Марье ни слова, ровно и нет ее. Про сибе тож не раскошелилси. Ай заново спортилси?
– Некогда было.
– Не бреши, по бельмам вижу – лукавишь. Можа, бабу заимел? То не худо. Но мозги с ей терять не гожа.
– Никого у меня нет.
– Думалось, пововсе про нас забыл. Не чаял свидетца. Ить вон Акимыч так и не дождалси тибе. Кончилси. Хто-то схоронил его. Можа, Авдотья – не выведал. Токо полынно сдеялось, што чужие руки ево кончину правили.
– Когда он умер?
– Сдаетца, зимой.
– Мне с тобой потом поговорить надо будет.
– С глазу на глаз опять жа?
– Да.
– Чево ты бабы убоялси? Ить не дужая. Сколь тя пестовала, а ты все от ей воротисси. Нет то забижала?
– Да нет.
– Чево при ей не хошь толковать? Дурнова не присоветует. Тебе то ведомо. Чем она прогневила-то?
– Не могу я при ней.
– Што ж, воля твоя.
Макарыч шагнул на порог, двинул дверь кулаком. Та, отскочив, впустила обоих в зимовье.
Но не успели они сесть к столу, как в избу вбежал запыхавшийся дед Варлампий:
– Бяда! Скореича! Петро тонить!
Лесник сорвался с места, прыжками к реке сиганул. За ним Колька, сломя голову. Дед сзади ковылял. В портках путался. Крестил пуп мелко. Нес несусветное:
– Ос поди, калеку в грех не введи…
Петро, вцепившись в бревно, что поперек реки застряло, посиневший от страха, едва удерживал голову над водой. Еще немного, и бревно понесет его, затянет в воронку, а там неподалеку водопад. Внизу камни, острые, отточенные, как зубы.
Макарыч стянул сапоги. Вода обожгла холодом, свела ноги. Но лесник забыл о них. Плюхнулся в воду, едва успел крикнуть:
– Петря! Держись.
Колька увидел, как он подплыл к мужику, тот ухватил Макарыча за шею, другой рукой за бревно. Оно помчалось, потянуло за собой. Но Макарыч рванул мужика, ударил ему по руке. А тот, обезумев от ужаса, снова схватил лесника за руки. Их обоих сносило течение. Вот вода покрыла голову, плечи. Заглушила голоса, борьбу. Но через секунду оба вновь всплыли. Петька безжизненно вис в руке Макарыча. Лесник греб к берегу, на котором, подскакивая, носился Вовка. То ли молился кому, то ли спяченное нес.
– А ну-ка, отец, дай я с ним займусь. Ты иди в избу. Переоденься, – отодвинул лесника Колька.
– Ну, валяй,– Макарыч пошел к избе. Парень, подозвав Вовку, велел раздеть брата.
– Живо, – торопил он его.
– Сейчас, сейчас, – чирикал тот, едва справляясь с тяжелыми сапогами брата.
– Искусственное дыхание помогай ему делать. Вот так. Видишь? Живей, еще живей! Я руки, ты ноги. Да шевелись же!
Изо рта и носа Петра вода хлынула.
– Давай, давай, своего брата спасти не мог. Эх ты, рохля, – ругался Колька.
– В их роду все смальства непутеваи. Хто калека, хто дурак, – говорил дед Варлампий.
– Э-э-э-э, дед, тоже мне умный. Нет бы то бревно вытащить вдвоем с етим… За отцом бежал. За это время утонуть сто раз можно было.
– Спужался явусмерть.
– То-то, сами признаете.
– Смертнай завсегда кончины да убоитца.
– Охотники с вас, – процедил парень. А когда Петька стал приходить в сознание, велел: – Чаю ему покрепче вскипятите. Одежду просушите. Рвать начнет его – не пугайтесь.
– Нехай ево, оклемаится, – шамкал дед.
Колька пошел по тропинке к избе. Макарыч сидел на завалинке, скривившись от боли. Ноги судорога свела, пальцы скрючило.
– Ох, едрить твою, внесло ж олуха в веретено. Мине чуть в грех не ввел, – ругался лесник, стараясь забыть про боль.
Он растирал, колотил ноги кулаками, а они не отходили. Вышла Марья. Принесла таз с горячей водой.
– Давай-ка, отец.
– Погоди, сам управлюсь.
– Давай потру маленько.
– Уж и колотил, не береть.
– Ох, што б те, – подскочил лесник, едва сунув ноги в воду.
– Стерпи, отец.
– Не причитай. Дай-ко перцовой глоток. То всяку хандру вышибить.
Марья в дом пошла. Оттуда с бутылкой вернулась. В это время Колька подоспел.
– То-то кстати прискочил, давай хворь вышибать, – едва сдерживая стон, улыбался Макарыч.
– Ну и мужики у тебя! – сказал парень зло.
– А чево? Худыи, што ль?
– Мозгляки.
– Иде их хороших ноне сыщишь? Сам разумеешь, сколь люду на войне полегло. Хочь такии и то слава Богу!
– А кому рыба?
– В село. Детве, вдовым.
– Тебе – то такое зачем? Не ты ли Акимыча в свое время за этакое бранил?
– Не бреши. Не за то. Дед твой, царствие ему небесное, всяку шантрапу лекарил. Подмогал безразборно худым людишкам. Все от доброты своей. За каку ни раз, ровно дурной козел, прости мине Господи, битым бывал да охаяным. Я жа сиротам подмогу справляю. То Божье дело. Святое.
– Что за то получишь? – прищурился Колька.
– А што надоть? Я, слава Богу, ничево не жду. Ни от каво.
– Тогда зачем все это?
– Ты Варвару-то помнишь, в кой постояльцем был? Так в ей ноне девять душ сирот. Кормилец помер. Она ж о тебе, ровно об своем, пеклась. Ныне ее детва в лихе и голоде. Нешто ей не подмочь? Ай не уразумел?
– Других нет?
– И другие, вишь, дед да убогаи и то не без дела.
– Мучаешься, а за кого?
– За люд.
– Дело твое.
Марья тихо стояла рядом. Радовалась, что мужу полегчало. Боль отпустила. Это она заметила сразу. Теперь улыбалась. Макарыч с Колькой, забыв о споре, приложились к перцовой.
– Я, отец, если ты не против, недели через две назад поеду. В институт. Надо скорее его закончить.
– Погодить не хошь?
– Хочу, но надо.
– Аль не приветили, не угодили?
– Когда выучусь, насидимся вместе.
– Навроде свое на каторге отсидел. Боле не желаю.
– В город вас возьму. Будем все вместе жить.
– На че мине город?
– Отдохнешь от тайги.
– Я к ей не пристал ишо. Кому не по серцу, нехай в городи пикетца.
– Что так?
– А-а-а, – махнул лесник рукой.
В эту ночь опять Макарыча бессонница замучила. Ломило в груди. Сухой надсадный кашель душил. Болела голова. К утру и вовсе худо стало. Перед глазами крутилось, вертелось, как в колесе.
– Застудился?
– Малость. То пустяк. Одыбаюсь. Макарыч жадно пил воду. На лбу морщины
пролегли. По ним пот ручьем.
– Баньку истопить?
– Не полегчает, к вечеру справь.
Но уже к обеду отяжелели ноги, руки Макарыча. Колька пошел готовить баню.
– Марья! – позвал лесник жену. Та подошла: —Ты не обессудь. Исхворалси.
– О чем ты?
– Тяжко тибе со мной?
– Пустое городишь.
– Марья, помру, Кольку не кидай. Подмоги, сколь сил станит. Нехай ево ученым сделаитца. Довелось ба человеком ево поглянуть. При бабе с ребятками.
– Поглянешь.
– Не дотяну. Скручиваит. Худо, а помирать неохота. На каво тибе доверю? Колька не надежнай. Шшенок. Сам не пристроенай. Не дай-то Бог и тибе в свете сиротой остатца. Единой бабе и серед родни холодно. Хлебушко слезами запивать станишь. То мине и боязно.
Внезапно в дверь зимовья постучали.
– Входи, – удивился Макарыч.
Вошел председатель сельсовета. Поздоровался. Подсел поближе к леснику. Тот рассказал ему о вчерашнем.
– Я тебе, как поправишься, хороших мужиков пришлю. С войны вернулись.
– Дайте ему хоть оклематься-то. Ведь на ноги встать не по силам. А вы о работе. Нешто болыпе– то никого не сыскали?
– Цыть, мать! – рассердился Макарыч.
Марья, едва сдерживая слезы, вышла из избы.
– Як тебе, Макарыч, с обновками. Директор твой, Евгений Иванович, передать велел. Глянь, вся амуниция и на зиму, и на лето. А вот нож. Сталь уральская, лучшей марки, именной. От него – лично с надписью. И рюкзак. В него полтайги упрятать можно. Для ружья кольцо есть. Все предусмотрено.
– Ишь, помнит, – улыбался лесник, разглядывая нож, пробуя лезвие.
– Доброе всегда помнится.
– Не скажи, – враз нахмурился Макарыч.
Председатель внимательно посмотрел на Макарыча. Тот отвел глаза.
– Як тебе завтра приеду.
– Твое дело.
– Поправляйся. А то я совсем извел тебя работой.
– Побалоболь ишо. Не про твою честь все ето. Абы не лютая година да не нужда, таво ба не было.
– Прости, Макарыч, не то сказал.
– Господь с тобой. Язык-то человеков завсегда их ворогом был.
Председатель смутился, покраснел, а вскоре пошел к мужикам на речку.
Тем временем Колька истопил баню. Пришел за Макарычем. Лесник долго, со вкусом парился. Полок трещал от жара. А сверху только и слышалось:
– Колька, подай парку ишо!
– А скажи, отец, пригодилась баня. Сколько лет ей уже? Помнишь, мы ее за три дня поставили.
– Как жа, помню.
– До ночи на ней мучились.
– На срубе чуть пупки не порвали.
– Крышу-то помнишь? Я не удержался…
– Спужалси я. Думал, нутро ты отшиб. Слава Богу, обошлось.
– Знаешь почему?
– Не.
– Я каблуки у ботинок оторвал тогда. Вот и соскользнул.
– На што спортил обувку-то?
– Так мне ходить в тайгу было удобней. Шаги тихие. Вот и отодрал.
– Ох и бестия!
– Отец, а почему ты к Авдотье не заехал узнать про деда-то?
– Ну ее. Непутная баба. Ума нет. Едино што злобой да криком жила. Все поджидала: сын должен был воротитца с хронту. Так ужо егозила тута. Тянула в обрат. Кажну чарку отговаривала. Мозгов в ей мене, чем в Шельми. Чую, без ей Акимыч помер. На могилу нам с тобой съездить надобно. Тебе – прощенье испросить у деда. Иначе счастья не ставить. Мине тож помянуть старова надоть.
– Давай съездим.
– Полегчаит и тронимси. – Макарыч, кряхтя, слез с полка. Пошел за квасом, на Жака наткнулся: – Тож парисси?
Пес лениво приподнял голову. Одним глазом посмотрел на Макарыча и улегся поудобней.
– Гля-ко, гонор имеит, змей!
Переступив собаку, лесник ступил к порогу. Его шатало, но он крепился.
К вечеру Колька натер его едким настоем. Макарыч всю ночь потел. А утром встал, как ни в чем не бывало, хотел к мужикам сходить. Но Марья сказала, что всех их вчера, пока он мылся в бане, председатель в село увез. Называл по-нехорошему.
Лесник пошел к реке, глянуть, в чем же дело. Но, так ничего не поняв, присел перекурить. Он дышал жадно. Каждый глоток воздуха смаковал. А вокруг оживала тайга. К ней снова вернулась молодость. Березки подставляли свои рожицы ласкам ветра. Трепетали полуголые. Листья на них маленькие. Что рубашки короткие. Лесник усмехнулся, сравнивая эту одежку со своей жизнью непутевой. Задумался. И вдруг заслышал свист. На ели, озираясь по сторонам, сидела белка. Терла лапками мордочку, словно умывалась. Беличье платье в рыжих пятнах. Зверек терся о ветку. Зимнюю шубу снимал.
– Хорохоришься, шельмовка, тепло чуишь, засмеялся лесник.
Но вот зверек насторожился. Легкой стрелой метнулся на соседнюю пихту. Там ее дружок поджидал, высвистывал.
«Любитись, бисиняты, покуда леты невеликии. Любовь в вас, што и жисть куцая. Любитесь вволю. Радостев немного вам отпущено. Не упущайте их. Пусть хочь вам в старости память утехой будит», – подумал лесник.
Вспомнилось ему давнишнее. В сопках, куда он пошел за кореньями, заметил, как все ящерицы, жуки, черви и даже зеленые змеи-медянки изо всех щелей и нор повылезли. Лежали тихо, не шевелясь. И было их так много, что Макарыч диву давался. Что их всех наружу вынесло? А через несколько часов понял. Началось землетрясение. Видно, заранее почуяв его, все живое, что в земле водилось, жизнь свою спасая, на свет выползло. Переждало. А когда утихло, снова все исчезло, попряталось. Словно их и не было.
«Все жисть любят. Не кажен могет по разуму провесть. Но и непутной дорожат. Доведись лихо неохотно помирают. Не желаючи. Уж на што черви безглазаи, душа с требухой в единой кишке упрятана, сказывают, ровно серца в их нет. И ума ни на понюшку, а тож помирать не хотят. От ворогов в землю-матку прячутца. Штоб не сыскал их там нихто».
Тихо лопотала березка своей соседке рябине. Видно, о нарядах толковала. А может, свои девичьи дела обсуждали! Голова к голове склонили: не хотят, чтоб другие их секреты знали и по всему свету разнесли.
А вот пню уже давно умирать пора. А он, гниляк, весь в зеленой повители, – что жених вырядился! Кудерки завил, брусничными кустами лысину прикрыл. Будто старости своей усовестился. Завесился мохом и глядится в нем мужиком.
– Дурак! Ить по осени от твоих тряпок и завязок ничё не останетца. Нетто пристало те, ежели но совести, личину свою, ровно бабе всякой, пакостью скрывать? – рассердился Макарыч. – Пихни тибе и званье в прах, а туды жа…
Из-за деревьев, это лесник приметил давно, за ним наблюдали два сгорающих от любопытства глаза. Острая мордочка застыла в ожидании. Нос едва втягивал воздух. Но енот не шевелился. Ему давно надо в нору попасть. Но как быть, если она почти у ног Макарыча? Зверек знал – лесник не тронет его. Да и к чему он человеку? Шерсть клочьями висит. Не то что зимой – все лисы завидовали. Нынче в такой одежке лишь зверье пугать. На весенние свадьбы в такой не покажешься. А свадьбы скоро. Надо успеть к ним сменить кафтан. Для того натаскал в нору всяких веток. Подолгу о них терся. До боли в боках, спине. А тут надо же! Непредвиденная помеха. Зверек боялся другого: не заняли бы нору в его отсутствие. Ведь сколько старался! Вход травой и ветками закидывал, чтоб неприметным был. А теперь жди, переживай. И чего здесь человеку понадобилось? Сидит, да так долго…
Макарыч, заслышав сердитое сопение енота, встал. Отошел подальше.
– Беги, каналья! Ишь, терпежу в ем не стало. Фардыбачит. Недовольствуит.
Зверек мигом в нору юркнул. Оттуда послышался писк, ругань выселяемого бурундука. Вскоре рыжий вылетел оттуда, волоча за собой прокушенную лапу. Из норы на него щелкала острая морда енота. Но, отбежав, бурундук сел на задние лапы и, повернувшись спиной к еноту, сделал непристойное. Зная, что за это может быть, тут же на березку вскарабкался. Поджав под себя больную ногу, выжидал, когда енот перестанет его караулить и убежит в нору. Но и с дерева бурундук корчил нахальную рожу, освистывал енота, поворачивался к нему спиной.
– Холера те в ухи! Сам с ноготь, а хам. Откудова в эдакой крохе столько гадостев? – удивлялся Макарыч. И вдруг Вовку Журавлева вспомнил: – От идол. Ровно родня ен с им. Оба малый и хамный, – сплюнул лесник.
Макарыч встал тихо и пошел к реке. Немного не дойдя, остановился. Да, он не ошибся. Рослая стройная важенка плыла на противоположный берег. Голова гордо вскинута. Она легко одолевала сильное течение реки.
«На што ее туды понесло? Ить на ведмедя могет угодить. Аль одинокая. Иде мужик-то ее? Мо– жа, к ему плыветь? Ай на кормежку? Ноне в тех местах ягоды вдоволь пооставалось с-под снегу. Харчись, сколь хошь».
И тут он увидел, как на том берегу метался, хоркал, кричат совсем маленький олененок. Мать звал. Есть захотел. И хочется ему поплыть навстречу к ней, а боязно. Не обучен. Воды боится. Ноги слабые. Дрожат. Он нюхал воду. Нетерпеливо перебирал копытцами.
«Ишь, знать, первенец. Вона как торопитца. Жалкуит. Дите все ж. Сердце к нему имеет. Хочь и без мужика растит. Как же эдак поздно народила? Маятца зачнет. По весне пока малое на ноги встанет крепко. Воронов вона сколь. Полна тайга. Уследи, штоб не забидели дитенка…»
Сначала Макарыч даже не понял, что случилось. Он кинулся к воде. Но бесполезно. Олененок упал. Голова его еще дергалась, ноги продолжали бежать. Бежать от смерти…
Важенка выскочила на берег. Обнюхала олененка и повернулась к Макарычу. Лесник вздрогнул. Оглянулся и увидел Кольку. Тот держал ружье наготове. Целился в важенку.
Макарыч кинулся к нему:
– Што исделал, нехристь?
Выстрел грохнул в воздух. Важенка метнулась в тайгу.
– А что? – непонимающе уставился Колька.
– Паскудник ты! Убивец!
– Да я на шапку. Там обещал одному.
– Штоб те кол в глотку! – кричал лесник.
– Ты что?
– Аль мало тибе? Нешто дите сгубить надоть было? Аль другова не удумал? На што эдак? Поди, в избе на шапку сыщетца.
– Откуда я знал?
– Пес ты! Анафема! Руки ба отсохли за эдакий грех. Я рашшу их. В лютую годину сберег красоту енту. Тибе черт принес на мою голову.
– Могу и уехать. Только больше все, не жди. И не зови. Проживу один.
– Сгинь сглаз! – закричал Макарыч.
Колька быстро зашагал прочь. Лесник хотел было остановить его, но сел на берег, обхватил руками голову.
«Коль дурак, так и большой дурак. И глупостев в ем не мене. На дите, пусть и зверье, руку без жали наложил. На шапку стребовалось. И греха не боитца. Наказанья Божьева не пужаитца. А ить смертнай, как и все. Нет. Не то. Нет серца в ем, нет серца», – горестно вздыхал лесник.
Колька собирался наспех. Заталкивал в чемодан полотенце, носки. На вопрос Марьи не ответил. Будто не расслышал. А лицо его все пятнами красными покрылось.