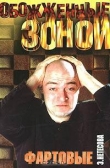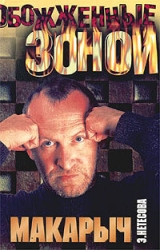
Текст книги "Макарыч"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
– Чаи опосля пить станити. В дому. Ишо и поискатца успеити. Ноне не время. Пошли.
– Наши медведи от нас не уйдут, – задрал острый суслячий нос младший.
– Цыть трепатца! Вставай, гнида! – прикрикнул лесник. Он знал этих двоих, знал их лень, а потому не церемонился.
– А почему на нас кричат? Петро, ты мне на это не ответишь?
Но через минуту оба спешно надевали лыжи. В ухе младшего звенело-тренькало на все голоса. Щека вспухла, покраснела. Глаз затек.
– Не балаболь, не то худче стрясетца, – пригрозил Макарыч.
Лишь к ночи все четверо пришли на место.
…А в это время к зимовью Акимыча шел, едва разбирая дорогу, сын Авдотьи. Митька уже примирился с женой, шел за матерью. Акимыч, не чуя беды, чистил, смазывал ружье. Готовился к весне. Обещал старухе лису на воротник пришибить. Он удивленно встал, заслышав шаги на пороге. Когда Митька вошел, Акимыч понял все враз. Авдотья кинулась к сыну, повисла на. шее, заголосила:
– Живой! Родненький!
– Собирайся. Пошли. Чего там, – оборвал ее Митька.
– К ей?
– В дом свой. Обиды позабудь. В семье всяко бывает. Зря ты так сразу ушла. Утряслось бы…
Авдотья торопливо стала одеваться. Она и не оглянулась на Акимыча. Вроде его и не было тут. В радости своей спешила. Как бы сын не передумал. Старик молчал. Он сидел, оглушенный увиденным. Ведь даже доброго слова ему нет. Он даже виноват оказывается в чем-то. Но в чем? Что тогда зимой подобрал Авдотью с завалинки дома замерзающую? Что обогрел ее? Как мог заботился? Она же все забыла. А может, и не спас он ее вовсе, не дал тепла? Ведь зверушки и те добро помнят. Знать, об Авдотье зря так думал. Вон как старуха торопится. Мечется. Поди, уйдет не оглянувшись. А что ее там ждет?
Нет, не скорое одиночество пугало лесника. К нему, он знал, скоро привыкнет заново. Но вот это… Это за что? Чем он грешней других? Почему с ним так стряслось? Что худого он сотворил? Акимычу стало жарко. Так жарко, что даже за спи н у потекло. В глазах туман поплыл синий, с подпалинами. Весь в ожогах. Старик встал, зачерпнул в ковш ледяной воды. Зубы выстукивали о края. В ода на рубаху стекала. Во рту жгло. Горло пересохло.
«Ох, Господи, дай мне стерпеть, нехай хворь моя чужим не станет видной», – просил Акимыч.
Отойдя от ведра, он нечаянно задел Авдотью.
– Ой, Акимыч, ты не видел плат мой кашемировый, што невестка даровала?
– Не ведаю.
Вскоре старуха все нашла, уложила в узел. Увязала.
– Ну что, пошли? – оторвался от косяка Митька.
– Прям в ночь, тут жа?
– Зачем ждать? К утру дойдем.
– Ну, с Богом, – шагнула Авдотья к пороху
– Можа, по-человечьи простимси? – окликнул их с порога Акимыч.
Авдотья будто только теперь о нем вспомнила:
– Митя, познайси, то Акимыч.
– И что? Нам скорей домой надо.
– На путь-дорогу давай хоть выпьем с тобой. Да за возврат твой в дом.
– Это ладно, – согласился Митька и придавил край табуретки.
Авдотья ждала у порога. Она неловко крутилась у двери. Поглядыва л а на сына.
– Поснедай хочь. Сядь. Путь долгай.
– Не хотца.
– С собой возьми. Без запасу карман скорбная.
Сама ведаишь.
Акимыч разлил перцовку по кружкам.
– Ты б, Авдотья, напослед сготовила б нам чего зажевать.
Старуха засуетилась у печи.
– Ну, дай вам Бог счастья и добра, – поднял кружку Акимыч.
Митька согласно кивнул. Пил он тяжко. Давясь и тужась.
– Ты мне проскажи, Митрий, чево тебе ране сроку домой с войны отправили?
– Контузия.
– Она хто такая?
– Ранение в голову.
– Ноне как?
– Выздоравливаю.
– В дому был?
– Ага.
– Детва здорова?
– Что с ней станется.
– Признали?
– А то как же? Сразу.
– Чем займешься?
– Погляжу еще.
– Може, еще по одной? – предложил Акимыч.
– Нет… Ну, пошли, – позвал, вставая, Митька Авдотью.
Та посеменила к двери. Выскользнула с узлом за порог. Тихо-тихо, всплакнув, захлопнулась за ними дверь.
Акимыч посидел немного. Руки дрожали. Тело свело ознобом. А шаги за порогом уже совсем стихли.
Старик зачем-то встал. Подошел к двери. Долго, долго вглядывался в темноту. Он ничего не увидел в ней. Хотел что-то крикнуть или кого-то позвать, но голос пропал. Руки шершаво скользнули по косяку.
Глаза Акимыча зализывала холодом ночь. А в ней ни одной звезды, ни одной надежды. В ней не было просвета. Лишь хриплый стон, голоса мертвых деревьев пели погребальную. Да зачем-то жалобно пищал порог, как щенок, отнятый у суки. Зачем он надрывался? Ведь не по ком плакать. Все живое оставило зимовье. В нем нет тепла, нет радости, нет жизни, а значит, не стало больше и горя. Медленно крутнулся дым из трубы. Прилег к порогу. Верным псом лизнул лицо Акимыча, словно прощался с ним. Да снег, решивший заменить саван, падал тихо, будто боялся нарушить уже вечный сон. В открытые глаза Акимыча глядели ночь и тайга.
Марья в это время не спала. Беспокойно ворочалась с боку на бок. Плакала в подушку. Ждала М акарыча. Бабье ее сердце ничего не говорило ей, когда он вернется. Да и сам он ничего не сказал, уходя.
– Связался с прохвостами, беды на свою головушку накличет, ох, горе горькое. И никто не подмога в той тайжище-пропасти. Век бы мне ее не видеть, – голосила баба.
Макарыч спал, пугая мужиков жутким храпом. Кого-то лаял в промежутках. Обзывал лешаком плешатым. Обещался, нагрянув, перцовой по маковку залить, чтоб не протух. Под утро начал выдрыгивать ногами такое, что все его помощники, насмерть перепуганные, повскакивали.
– Эй! Проснись! Макарыч! Нешто так по-божьи ногами в хари тыкать? – кричал дед Варлампий.
– Он, наверно, чокнулся, – покрутил у лба младший Журавлев.
– Захлопнись, не то проснется, зубы в зад вобьет, – посоветовал ему старший.
– Костер готовьте, – цыкнул на них дед.
Братья пошли за сушняком. Макарыч не просыпался. Но дед не отставал. Он дернул его за руку, потом за нос. Не выдержав, потянул за бороду.
– Сгинь, нечистая сила, – отбрыкнулся лесник и торопливо закрестился.
Дед с перепугу на снег плюхнулся. Да, ему повезло, что удар по нем не пришелся. Он еще раз потормошил Макарыча. Тот удивленно открыл глаза.
– Чево те зараз?
– Очкнись. Напугал до смерти. Лягатца вздумал конем диким. Не-е, с тобой разе можно о бок спать? В фоб ране сроку сгонишь. Мужики всю ночь маялись, глаз не прикрыли.
– Рази то мужики? Им до таково чину по гроб не вырасти. Нашел мужиков… Ай сбесилси?
Вскоре на небольшой поляне горел костер. А прокопченный чайник Макарыча, примостившись на треноге, грел корявые бока на огне.
Лесник помешивал в угле картошку. Дед тянул к теплу ноги. Братья досыпали спугнутое. Но, заслышав бульканье кипятка, вскочили.
– Ишь, сон мил, жратва тово краше, — засмеялся Макарыч.
Он выкатил из угля готовую картошку, разделил поровну. Свою не стал чистить. Разломив, посыпал крупной солью, обгорелую в рот пихал. Запивал чаем, причмокивая. Братья ели торопливо. Дед мелкими глотками чай пи л. Нюхал, улыбался беззубо.
– Слухай, Варлампий, а хто те пасть спаскудничал? Иде жевалки растерял? Ай пропил по недомыслию?
– Не-е, цинга отняла. Все до едину повыпадали.
– Черемшу трескать надо было.
– Не знал я про ее тогда.
– Давно такая оказия?
– Ох, уж и не припомню. Видать, до женить бы еще.
– Баба не помогала зубья растерять-то?
– Смирная она у миня. Сам полишился зубьев-то, – шамкал дед.
Лесник подкинул в огонь сушняка, глянул на небо. Скоро совсем рассветет. Он встал, поблагодарил Бога за еду и ночлег, попросил удачи. Поклонившись Господу до земли, велел всем собираться. Сам костер затушил.
– Ночевать сюды возвернемси. Коли наперед мине итить доведетца, сказываю. Место хочь запомните.
– Нам тайга, что дом. Мы с Петром всю жизнь в ней, – попытался утвердиться младший.
– Ты слухай да сполняй. Трепатца закинь. Знаем мы вас. Иде жисть ваша катилась, кажной собаке про то ведомо. Другим мозги гадь, не мине! – вскипел Макарыч.
К берлоге, где, по догадкам, медведь спал, лесник привел своих спутников быстро. Предупредил, что поднимать сам будет, показал, где кому стать. Когда стрелять. И только отвернулся от берлоги попросить помощи у Господа, как за спиной грянул выстрел.
Макарыч подскочил от неожиданности. Увидел – младший из братьев стрелял в дыру, что вела в берлогу. Через нее медведь дышал.
Лесник не понял – дым от выстрела или пар от дыхания зверя вился над берлогой, но подскочил к стрелявшему, так сдавил ему шею, что тот на снег осел.
– Всех сгубить схотел, выбросок! Чево дела– ишь? Хто повелел шкодить?
Но в это время в берлоге возня послышалась. Все насторожились. Затихли.
Коряги, пни, деревья, ветки, накиданные на берлогу с осени, вдруг зашевелились, поднялись, как лохматая, громадная голова. В секунду все это опрокинулось. И на охотников выскочил разъяренный медведь. А следом – матуха. Макарыч прицелился. Услышал, что кт о-т о опередил его.
Медведь кинулся на деда. Тот выстрелил почти в упор. Потом еще. Матуха погнала старшего брата в тайгу. Тот бросил ружье, бежал по пояс в снегу. Медведица нагоняла его. Она была уже в двух шагах. Макарычева пуля не дала ей расправиться с Петром. Она уткнула нос в снег. Как-то сразу осела. Повалилась на бок.
Дед Варлампий петухом шагал к Макарычу. Лишь младший из братьев стоял за спиной у лесника. Два дня потом он не мог говорить.
– Ну, почин добрай. Дал ба Бог и дале эдак, перекрестился Макарыч.
Петр никак не мог согреться у костра. Ему все еще мерещилось прерывистое дыхание медведицы за спиной, от которого и теперь мурашки бежали по телу.
– Ты свое сослужил. Правда, не ведаю, пошто заместо приманки тибе избрала матуха. Можа, приглянулси ты ей? Приголубить по-бабьи схотела, а я встрял!
Петро в ответ дробно простучал зубами.
– Вот я уложил! Дак да! Прям за морду хотел мине сцапать. А я ево – шалишь, брат! На месте зашиб. И не дернулси он.
– То ты! Охотники! Мать ба их… Ружже кинул, а сам бигить. От ведмедя! От ево нихто ни сбег! Дурак ты! На што ты стреканул? Ружже заряженное. Стрелить надоть. Не скакать. Ить не приведи Бог! В полушаге ужо. А с тибе скакун, ровно с мыша орел. Тож, за мужиков считаютца. Бабу имел! Такой-то срамной! – О, Господи, и каво на свет напущал, – сокрушался Макарыч.
– Я на медведей никогда не ходил. В глаза их не видел.
– Дак то ж ведмедка была. А уж с ими те доводилось видетца. Благо от етой Бог убирег. Ну, а от бабы не стреканул. Навроде как ее наука впрок пошла. От зверьей бабы побег пуще планера.
– Мы на зайцев ходили. На медведей – нет, продолжал заплетающимся языком Петро.
– Охотники с вас, как с говна дикальтес, – ругался дед.
Но к вечеру, когда все сидели у костра и страхи понемногу сгладились, настроение у охотников поднялось. Решили, что наутро Макарыч сходит за конем. Отвезет в село мясо, остальные проверят ближние берлоги. Наметят засады. Но поднимать зверя без лесника не будут.
Макарыч обернулся быстро. На санях за день отвез мясо. На расспросы председателя о мужиках смолчал. Решил подождать, что будет дальше. На почте ему дали короткое письмо от Кольки. Тот писал, что жив, здоров, только денег вот не хватает. Лесник послал ему. Но ни письма, ни телеграммы отправлять не стал. По дороге в зимовье Макарыч вспоминал Акимыча. Тот ведь предупреждал. Видать, знал наперед. Не посмотрел, что Колька ему как-никак родная кровь.
И нестерпимо захотелось увидеть Акимыча. Поговорить с ним. Пусть и отлает за Кольку. Не беда. И такая тоска подкатила, что хоть прямо теперь разворачивай коня и езжай к нему.
Останавливало лишь одно. Ведь в тайге без него могут нарваться на беду трое людей.
Лесник погнал Орла, а перед глазами стояло лицо Акимыча. Печальное, как тогда у костра. Откуда ему было знать, что случайно приехавший к Акимычу старик из села уже, спешно погоняя лошадь, мчался к властям?..
А уже на следующий день неподалеку от зимовья появилась могила. Ее обложили хвойными лапами. Двери и окна избы забили накрепко: «Пусть до нового хозяина посиротствует».
В изголовье могилы Акимыча ворон уселся. Стряхнул снежинки с белого березового креста. Удивленно посмотрел на холм. Он знал Акимыча живым. И хотя ворон первым увидел могилу, не стал никого звать. Сидел один, молча. Согнувшийся от старости и одиночества.
Сыпал снег. Он, как невидимые слезы не имевшихся друзей, скрывал могилу от всего живого, от любопытных. Холодные искры стирали, ровняли под общую память. И вскоре стылый бугорок стал бы совсем неприметен, если бы не крест. Он единственный напоминал, что здесь когда-то была жизнь. Был в зимовье хозяин…
Крест тоже заносило снегом. Он залохматился, побелел и походил на задремавшего старика, который, забыв о погоде, вышел из избы в рубахе. Посидеть, поговорить с тайгой.
Шалый ветер не кружил снежинки. Они оседали на деревья, укутывали округу.
… Макарыч приехал к своим затемно. По лицам понял – что-то случилось. Дед Варлампий не выдержал. Показал на бугорок чуть поодаль от костра:
– Петрова трохвея. Убил наповал.
– Как жа пофартило?
– Завидел он берлогу с паром. Затрусилси весь. Коло ей бегом забегал. Я сказываю – не моги без Макарыча. Не повелел самоволитъ. Ну, а он не стерпел. В дыру лесину впер и давай шурудить.
Зверь-то и пробудилси. Когда башку высунул, Петре в ее и шарахнул.
– Не дал ведмедю вылезть?
– Не-е, куды там! Оба заряда враз влупил!
– А достали как жа?
– Было бы за чем лезть, – рассмеялся дед.
– Грешное сотворили. Безбожное. Разе можно зверя в ево дому гробить! То разбойство. Ума на ето не надоть. Охота – мужичье дело, по-человечьи к тому надобно, – в сердцах выругался Макарыч.
Но напрасно боялся лесник кары небесной за поступок Петра. В эту неделю они убили еще пятерых медведей.
Шли дни. Теперь мясо в село возил Владимир. Охотником он так и не стал. А другого дела ему не нашлось. Потому, как сказал Макарыч, «настало время из мужиков разжал ить в извощики».
Оставшись втроем, они не подозревали, какими небылицами о них завалил село младший Журавлев. Такого никто из троих в страшных снах не видел.
Главное место, конечно, себе отвел. Вроде случилось ему целый час медведя за уши держать, чтоб не покусал. Ждал, пока кто-нибудь придет убить зверя.
Иные, никогда не бывавшие в тайге, верили. Головами качали. Называли Вовку золотником, кормильцем. Но, несмотря и на это, ни одна баба не пускала его в дом. Рассказам его ни одна девка не верила. Чуяли – врет.
А между тем мясо появилось в каждом доме. Охотники, как говорили в селе, были удачливы. За их здоровье все старики молились. Их имена всегда называли на собраниях. В магазине. Им заботливо откладывали в сельповском магазине все необходимые продукты. Председатель сельсовета сам следил за их отправкой.
Но… Зима не бесконечна. Талый снег разбудил тайгу, а с нею всех ее обитателей. Пришлось и охотникам возвращаться по домам. Всех троих мужиков в телеге, выстланной медвежьими шкурами, отвез лесник в село.
В магазине их сразу пропустили без очереди. Расступились. Смотрели на охотников уважительно. Продавец, видимо, недолюбливавший младшего из братьев, вдруг спросил Макарыча:
– Скажи за ради Бога, правда ли, что Владимир самолично медведей убивал?
Макарыч оглянулся. Нашел Володьку, подморгнул, заметил, как тот осел, и ответил:
– Ен аж десяток убил. И не поморшилси, ведмеди ево пушше ружжа пужались.
Володька понял – Макарыч не захотел позорить. И не выдаст его. Но дед Варлампий? Этот не преминет отыграться где-нибудь на Вовке.
А народ в магазине шумел. Каждому хотелось обратить на себя внимание охотников.
Никто и не заметил, как вошел председатель сельсовета.
– Тише можно? Потише, прошу!
В магазине стало тихо. Тихо так, что было слышно, как снаружи, радуясь весне, гуляет по крышам бездумный верховой ветер.
– Товарищи! Война закончена. Враг побежден!
Его слова не сразу дошли до всех. Иные ушам не враз поверили.
– Слава тебе, Господи, – нарушила молчание старушка в углу.
Послышался тихий плач вдовы. Да глаза фронтовиков словно пороховым дымом застлало.
Победа… Как долго, будто невесту, ждали ее на фронте солдаты. С мыслями о ней засыпали жены. Дети во снах видели победу в солдатской форме, очень похожую на отцов.
Победа… Сколько людей не дожили до тебя… Плакал, отвернувшись к стене, повзрослевший парнишка. Его отец не придет с войны.
Победа… Как медленно оттаивали лица! Ведь кончилась война. Но куда живым деться от самих себя? От памяти, что горше гари?
Совсем не сразу люди смогли воспринять эту весть. До нее они дошли через лабиринты воспоминаний. А потом…
– Ну что, Василий, выпить надо! Весть-то какая, – подталкивали друг друга фронтовики.
Бабы, чьи мужики вернулись по ранениям, к прилавку подвинулись. Зашептались. Надо мужиков порадовать. Весть-то! Праздник! Кровушкой достался. Не грех по такому случаю чарку пропустить.
– Сегодня вечером в школу приходите. По случаю Победы собрание состоится. Приходить всем, – попросил председатель.
Мужики расходились из магазина компаниями. Волокли бутылки. Разговаривали громко. Чтобы весь свет слышал – они этому празднику не чужие. Pie сбоку грелись. Воевали. Вон и награды имеются.
Иные, правда, в одиночку шли. Хороня за пазухой бутылку, другую. Им не до компаний. Хотелось именно теперь заглушить память. Забыть, что ты инвалид, а и солдат – человек, фронтовик.
Не хотелось этим видеть сочувствующих глаз. Дай Бог! Ведь живы пооставались.
А перед глазами, как нарочно, могилы, могилы… С касками и без них, с цветами и с салютами из ружей. И дымящиеся поля, перелески, овраги после боев, полные трупов…
Макарыч стоял на крыльце. Один… Его напарники давно ушли по домам. А лесник решил навестить Акимыча. Сообщить ему об услышанном, вместе порадоваться.
– Н-но, шалай, – дернул он коня и, завернув ненадолго на почту, поехал знакомой дорогой.
Он ничуть не удивился, увидев темные окна. Дернул дверь. И только тут приметил, что она забита крест-накрест.
– И кудай-то лешак подевалси? Ай в село навовси переехал? Верно, Авдотья уломала, – почесал затылок лесник. – И ни упридил мине про задумку. Ай, Акимыч, отрекси, позабыл!
Но вдруг как будто кто толкнул его в спину. Он оглянулся и увидел могилу, крест…
Макарыч вначале глазам не поверил. Ведь вот привидится: могилы тут и в помине не было! Откуда она взялась? Лесник осторожно пошел к ней. В душе нарастала тревога.
На осевшем по весне бугорке лежала знакомая ветхая шапка. Макарыч оголил голову. Встал на колени. Долго смотрел на последний приют друга.
– Прости мине, олуха! Прости, што в смертный час одново тибе оставил. В чужие руки судьбину твою горькаю переверил. – Лесник повернул лицо к темнеющему небу: – Единаво друга у мине отнял ты! А за што? Я грешнай! Пошто ен помер? Ить зла никому не причинил. Нравом кроток был.
Добра столь изделал. За то лишь горе познал. По– божьи ли эдакое?
Макарыч долго сидел, обняв изголовье могилы.
Вот и все. Нет у него на свете никого, кроме Марьи. Как же так с Акимычем-то? Обида грызла лесника. Все видел он его живым. Сердитым, задумчивым, веселым. Мертвым лишь представить не мог.
Утром, прощаясь с могилой, встал Макарыч, перекрестил бугорок. Взял с него горсть холодной земли и, завернув ее в платок, спрятал за пазуху.
– Земля тибе пухом, вечная тибе память. Спи спокойно. Верно, мой век тож не долог. Прими тады не отворотясь, – поклонился могиле лесник.
Всю дорогу до самого дома Макарыча бил озноб. Он не знал, не ведал, как кричало посеревшее в горе его лицо. Как сдавший за эту ночь, он и сам походил на древнего старика. Не видел ничего вокруг. Часто закрывал лицо руками, что-то шептал. Ругал кого-то. Проклинал неверную судьбу, что дарит Бог без разбору людям. Обижая одних ни про что. Награждая других безмерно и не к месту.
– Лишь на суде твоем все равны станем. Сам поймешь, каво обшел, каво лихом без меры дарил. Нешто Акимыч заслужил судьбу полыннаю? Ить радостев ен в жисть не видывал. А к погибели едины кручины ты послал старому, – упрекал Макарыч Бога.
Внезапно он оглянулся, почуяв, что за телегой бежит кто-то. И вскрикнул от удивления. Черная, худая, бежала по дороге, высунув язык, собачонка Акимыча. В прошлый приезд старик сказал, что загуляла она, а может, сгинула где. Тут же, едва живая, она изо всех сил пыталась не отстать от телеги.
Макарыч осадил коня. Шельма, поняв, запрыгнула в телегу. Прижалась к леснику. Заскулила, спрятав морду в ладонь Макарыча.
– Осиротели мы с тобой.
Собака подняла на лесника мокрые глаза. Снова зарылась к нему в руку. Ее тоже трясло.
– Не голоси теперича. Живова ево судьбина не пожалела. Отшедшему ничьей жали не надобно.
Макарыч все погонял коня. Проехал село рысью: торопился домой.
Марья топила печь. Услышав скрип телеги, засеменила навстречу.
– Примай постояльца. Память Акимычеву.
– ?..
– Помер ен.
Марья охнула, схватилась за сердце. Макарыч испуганно выскочил из телеги.
– Мать, голубка моя! Ты-то хочь мине пожалкуй. Не изводись. На што нынче убиватца? Усе там будем. Ты про сибе подумай. Поберегись. Кабы возвернуть старова мог…
– Когда он кончился?
– Не ведаю. К могиле ужо поспел. Она осела. Знать, по зиме погребли.
– Ох, горюшко. Помяни его сегодня.
– Я ж поехал про победу ему просказать. Война-то покончилась.
– Слава тебе, Господи.
– Обрадовать хотел, ан припоздал.
– Не твоя то вина, отец. Судьба все.
– Планида у Акимыча и впрямь сиротская.
– То верно…
Макарыч отвел коня в сарай. И, кликнув Шельму, вошел в зимовье. Перекрестившись на образа, к столу сел. Вздохнул, будто с возвращением в дом снял с плеч тяжелую ношу. Он мысленно здоровался с каждым углом. С каждой половицей.
Марья торопливо накрывала на стол.
– Сядь, Марьюшка, хочь по гляну на тибе. Побудь вот так спокойно. Не тормошись, – удерживал жену Макарыч.
А когда выпил лесник за упокой души Акимыча, снова погрустнел.
– От Кольки ничево не было? – пыталась растормошить Марья мужа.
– К Акимычу ехал вон, получил: «Живой, здравай, вышли денег». И все. Денег послал, отписывать не схотелось, – не сумел умолчать Макарыч. Женщина вздохнула. – В обрат кады ехал, на пошту не свернул. Привезуть, ежли ишо чево пришлеть.
– Сам хоть бы приехал. Глянуть бы.
– Схочит – приедит. Нет – Бог с им.
– Могилу деда наведал бы.
– Ево туды не заташшишь.
– ?..
– Живова не почитал. Осрамил. Мертвай Кольке и вовсе не надобен.
– Может, сговорим?
– Не стоит Акимыча гневить. Силком на погост не возют.
– Душа же должна в нем быть. Дед же, что ни говори.
– У всех душа, да у кажнова со свово конца. Мерекаю, в той науке Колька вконец сбалуетца. Ну да бес с им. Подмогать ему буду, сколь сил моих достанит. Но, чую, бесово в ем нутро. Не Акимычево.
– Я тебе об этом говорила.
– Про деньгу стребовал, про деда запамятовал. Да вно заведомо схоронил.
– То из-за отца Колька таким уродился, — выдохнула Марья.
Лесник лишь рукой махнул безнадежно.
А через несколько дней они оба ушли в тайгу. Макарыч постепенно приучал к ней жену. В глухомань не вел. Отсаживали молодь неподалеку от зимовья. Очищали участок от коряг, пней, сухостоя. Вдвоем у них все ладилось быстро. За месяц управились. Осталась лишь речка. Ее надо было освободить от заторов, чтоб рыба на нерест спокойно шла. Лесник было решил сам с этим управиться. Но Марья не согласилась остаться в одиночестве.
Прошли еще две недели. Марья с мужем решили возвращаться поутру домой. И не торопились.
Лесник поймал на уху хариусов. Марья костер поддерживала. Готовила к ночлегу шалаш. Макарыч почистил рыбу, бросил в котелок и, сев у огня, грелся.
– Об такой жисти не мыслил я на каторге. Выпало, сядим миром мужичьим и кажнай про свою задумку сказываит. Как наперед на воле жисть начнет. Книжник, тот все про науку буровил. А ишо про жратву. Загранишнаю. С кандибобирами. Как зачнет, пес, про хранцузкую жратву молоть, у нас аж слюни до колен бегли. А в брюхи кошки по-скорбному выли. Книжнику што? В ем спина с животом давно срослись. Нам-то како было? По ночам всякие марципаны да птичье мо локо снились. А другой был с хмельнова краю. Все про вино ихнее трепалси. Мол, в жару ево заместо воды там хле щ уть. С самово мальства. Потом в их живуть подолгу.
– За что он в каторгу попал?
– Вором был.
– Чево крал?
– Девку! Богатаю! А она запродана была. Другому. Ево словили. Пришибить хотели. Да жаль поимели. Девку возвернули. А ево упекли по этапу.
– Батюшки, а на что девок красть? Или их на свете мало?
– И я про то ж ево выведывал. Срамил. Аль, говорил, нехваток их? Приезжай в наши места. Первую сосватаишь. За милу душу пойдеть. Благодарствовать станит.
– А он?
– Сказывал: девку оне приглядывають, как коня. Здоровую, красивую, скораю. Штоб на скус, как доброе вино, была. Веселила душу.
– Ох, мать честная, разве такие в свете водются?
– В их, можа, и водютца, – вздохнул Макарыч. – Только по мине красть их ни к чему. Не казна. Нехай сама к мужику бигить. Невелика радость из-за ей в каторгу угодить.
– Ну, а ты про что думал?
– Мой спрос мене всех. Бабу я не думал иметь. Не до таво было. Абы хлеба вволю, от пуза штоб. И картох печеных без счету. Ну и без порки, без брани. Без надсмотру. А ишо про свой домишко. С банькой да с вениками. Чарку в праздник. И тишину… Вот и усе. Боле ничево не желалось.
– По первости, верно, нарадоваться не мог?
– Кады сюда пустили?
– Ну да.
– Конешно. Оно все ж воля. Харч слободнай. Всяку живность бил. С полгоду все жрать хотелось. Брюхо было стонит, некуда пихать. А жевал– ка просить. Изболелси навовси. Ить сколько всыто не харчилси?
– После вольной никого из каторжников, с кем был, встречать не доводилось?
– Их на материк свезли, в каво родичи имелись. Мине не к кому отвозить стало. Тута оставили.
– Давай вечерять, – тихо перебила Марья.
– Пора. Да ты чай не студи. Я ключевой люблю. Бурливай уважаю, с огня.
Марья подвинула чайник к огню.
– Ешь, отец, ешь, родимый.
– Так-то лишь ты мине и потчуишь. В жисть нихто эдак не сказывал, – торопливо хлебал уху лесник.
В зимовье Макарыча с Марьей уже поджидали. Сам председатель сельсовета приехал, а с ним и директор лесничества. С войны вернулся недавно. Это Макарыч по одеже смекнул. Штаны у него чудные – до колен широкие, книзу в обтяжку, по– гусарски. Рубаха толстая, горло петлей захлестнула. Весь он в ремнях, наградах. Сапоги блестят. В них, как в зеркало, смотреться можно.
«Эвот какой шут в мою заимку нарядилси клопином. А на што? По-человечьи собратца не мог. Или не успел?» – подумал Макарыч.
– Твое начальство, теперь по всем вопросам к нему, – указал на директора председатель.
– У мине до ево нужды нет, – обрезал Макарыч.
– Может, будет. Познакомиться привез. Хозяйство показать. Поводишь по участку. Пусть посмотрит.
– Контрольников тут привозют всяких, – заругался лесник словом, услышанным в сельповском магазине.
– Не контроль я. Вы сами себе хозяин и контроль. А участок мне действительно посмотреть надо.
– Иди, гляди, сколь влезить.
– С вами надо.
– Я только с тайги. Передохнуть маленько надоть.
Директор закашлялся, смущенно отвернулся:
– Все верно, Макарыч. Но мне долго задерживаться нельзя. Может, сходим ненадолго?
– Как величать-то тебя? Аль у начальства, окромя звания, имени людскова нет?
Председатель рассмеялся.
– Как он тебя?
– Да! Зовут меня Евгений.
– А по отцу?
– Иванович.
– Ну дак вот, Евгений свет Иванович, погод и денька два. Дай моим мослам остыть. В баньке побалуем. Опосля с Богом в тайгу пойдем.
– Долго это.
– Торопитца не след. То блошистаи нехай спешать. Мой век и так ужо недолог. Ождешь.
И все же на следующий день повел Макарыч директора на осмотр участка. Тот шел быстро, уверенно. Не оглядывался на шорохи. Расспрашивал лесника о жизни, работе. Макарыч отвечал поначалу неохотно. А потом обвыкся к новому человеку, разговорился:
– Тута я, почитай, всю жисть прожил. Кажна зверуха знакома, со всей детвой и прародителями. Ведомо, какой у каво норов, карахтер, значит, имеетца. Хто чем балуитца, болеит.
– Много ли соболя на твоем участке?
– Нонче поприбавитца. В прошлом лете взамуж много поуходило на сторону. Мужиков мало родилось. Седни нет. Назад повертаютца. Орех должон уродитца хороший. А соболю, окромя забав, жратва надобна. Да и баб нонче мене родитца. Вона весна нонче дружная, сухая. Мужичья.
– Сколько их примерно на твоем участке?
– Промышлять, коли стребуитца, тышши восем можно взять. Боле нет. Изведутца.
– А по ценности?
– С половину первосортки.
– Ну хорошо. Вот это ты меня порадовал.
– Но ко мне отстрельников не шли. Оне, бездушнаи, молодь сгубют. Старова от щенка не отличат. Мине на ето глидеть больно станит.
– Никого к тебе посылать не будем. Сам промыслом займешься. План дадут.
– А хто ето?
– Задание. Сколько соболя, лис отстрелять надо. Но охота – дело десятое. Захочешь – заключишь договор. Не захочешь – не заставят.
– На убийство?
– Да нет, Макарыч! После войны на материке нон как тяжело. Помочь надо людям. А пушнина, сам знаешь, ценится хорошо.
– Вона што! Ну, погляним. Коль не во зло, то ладно.
– Ты мне одного моего друга напоминаешь. Тот помоложе тебя, но такой же. Таежник. Коренной. На войне вместе были. Он снайпером воевал.
– Чево?
– Стрелок. Очень меткий. Из сибиряков.
– Ну и што? В тайге без таво не мыслимо. Будь ен етот, как ты сказывал, али простой лесник. В тайге кажен зайчонок должон могти за щ ититца.
– А как же он защищается? Убегает.
– Дурак ты, прости Господи, а ишо ученай, поди.
– Моя ученость, дед, фронт. В шестнадцать с отцом ушел. Его на глазах убили. А что директором стал, так я вот теперь учиться буду. И у тебя тоже. Может, еще пригожусь тебе со своим дурацким умом.
– А ты не серчай. Я не со зла. Не нравитца мине, што, не знамши тайги, люд про ее дурное городить.
– Как?
– Да так. Как ты про зайца.
– Так он же и вправду ото всех только бегом и спасается.
– На-ко, выкуси! Бе г ом! А спробуй в ево зайчат отнять. Зарекесси.
– Почему?
– Обмишурит. Оббегить тибе. Наперед зайдеть, лягить и зачнеть по-дитеночьи плакатца. Кинисси к ему, ен поползеть. Но с оглядкой: куды зайчат подевал? Углидить, што далеко от зайчат увел, подскочить и ходу. Хвост приметить не поспеишь.
– А если я его успею схватить?
– Брюхо лапами распорит, покусаит. Не удержишь, выпустишь. Заяц от орлана лапами отобьетца. От люду и подавно. И не такой уж ен дурной, как тибе натрипались.
– Макарыч, а кто в тайге хитрее всех из зверей?
– Баба.
Директор даже рот раскрыл от удивления.
– Что?
– Баба, сказываю.
– Почему?
– Зверьи бабы усе до единой прохвостки. Мужики – дурье.
– Это как же?
– Чево рот открыл? Не брешу. Вона с Марьей в тайгу ходили. Нагляделась ужо. Мине-то не в диковину. А ей – ого!
– А что было?
– Показал я ей перво-наперво голубиное гнездо. Их, диких, на моем участке пропасть цельная. Сидять парами – цалуютпа. А ужо через неделю долбить она ево, стерва, да не как-нибудь, а клювом в темечко. Верх над им заимела. Все почему? Да ить знаить: не уйдеть он от ей, покуда детву не подымить. А детки-то вон они, в яйцах. И греить их мужик, и голубих-то надо поспеть ему нахарчить. То-то как поцалуи те ему отдаютца! К осени гот голубь срамней ворона глядитца. А она хочь бы што, красуица.