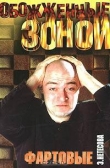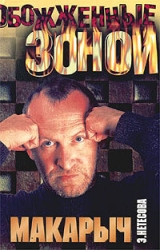
Текст книги "Макарыч"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
– А так, чтоб и насовсем, бывало?
– Не слыхивал. Може, и случалось. Ты там сказывал, што с западу у нас пролив имеетца – Погибиль. Так ен кличитца потому, што много беглых на ем погибель сыскали. Шли туды в надежде переплыть. Материк там, как на ладони, увесь виден. Ан, как говорят, близок зад, да не по зубам. То-то.
Макарыч вздохнул. Пожелал тому усопшему землю пухом и пустил коня быстрей.
В воскресенье они приехали в село, где жила Марья. Решили поначалу перекусить у кого-нибудь. Постучали в первый же дом. Отворила им баба. И не успели они и слова вымолвить, как она заорала:
– Какого черта претесь в избу! Нажрались с утра и чужого дома от своево отличить не можете. Идите отсюда, пока я вас…
Баба выхватила метлу из-за двери.
– Охолонь, дура! Аль мы на пьяниц схожи? Курица сумасшедшая. Я те, коза малахольная, промеж ушей врежу, так ты враз запамятуешь, как черта по батюшке кличуть, – Макарыч вырвал метлу.
На шум вышел заспанный мужик.
– Ну, что ты, оглашенная? Сгинь! – цыкнул он на бабу. Та трусливо нырнула в дом. Мужик огляделся для верности.
– Поесть ба, уплачу, – попросил Макарыч.
– Заходи, – растопырил мужик дверь и крикнул: – Клашка! Подь сюды! – Баба выползла из угла. – Накорми мужиков. Да себя прибери маленько. Не то парнишку до смерти испугаешь.
Клашка подвязалась засаленным фартуком, убрала под косынку распатланные волосы и, неслышно ступая около мужа, подала на стол.
– Да вы смелей. Что на ее смотреть, – указал хозяин на жену и буркнул: – В их ума ни на копейку, а вот глотка – целый базар перекричит. Девки-то все пригожии. Откуда только хреновые бабы берутся?
– То верно, – поддержал Макарыч.
– А вы откуда будете?
– Неподалече оттибе живу. Лесуго.
– К нам в село, к кому?
Макарыч поперхнулся от неожиданности. Выручил Колька.
– В магазин мы. Книжек мне к школе надо!
– Вон что. Ясмотрю, вроде тебя видел раньше, – обратился мужик к Макарычу.
– В больнице лечилси. Рысь подрала, кады в проводниках был.
– Стой, так то у тебя собачонка-то?
– Была, была.
– Она, стерва, всех кур моих передавила.
– Сочтемси.
– На что. Давно уж. Черт с ними.
– Дохтор давеча в больнице ладнай был.
– Это да…
– И ишо Марья там работала. Душевная баба.
– Ох, плохо ей.
– А што с ней? – враз спросили Колька и Макарыч.
Мужик хитровато прищурился, крикнул:
– Клашка, молока неси!.. Мужик у ней помер. С тоски ноги у самой отнялись. Доктора на нее не надеются. Лечили – все без толку. Один мужик свез ее к Акимычу. Лесник тоже. Всякую хворь людскую лечит. Вернулся и говорит – плохая она совсем. Верно, помрет тоже.
– Эко ей не везет, – посетовал Макарыч и засобирался. Хотел сунуть мужику червонец, да тот не взял. – Скорей, Колюшка, – заторопил старик и вышел из дома. За ним хозяин. Положил руку на плечо:
– Да ты не бойсь. Бабы, что кошки. Выходится. К Акимычу вот этой дорогой езжай. По селу. Потом влево поверни и прямиком в тайгу. К вечеру у него будешь. – И, повернувшись к Кольке, сказал, погрозив пальцем: – Хитер. «Мы в магазин к вам ездим». Свово нету. Только строить начали.
Дорога к урочищу Акимыча, словно шилом бритая. Кидала телегу чуть не к вершинам берез. Того и гляди душу наизнанку вывернет. Или в преисподнюю отправит.
– Держись, сынок. Ох-х, едрить твою. Тово и гляди требухой высморкаешься.
Колька громко икал. Он уже много раз прикусывал язык. Отбил зад. И если бы не Макарыч, давно бы вывалился из телеги.
– Серый! Кобель, мать твоя сука! Куды норовишь? Кочергу бте под хвост, легше, грю! Ну, л-л– легше! Олух окаянный. Креста на те нет, – ругался Макарыч.
Колька забыл, сколько раз он соскакивал с телеги за куст и пугал оттуда Серого громкими хлопками. Живот у него разболелся. В нем все бурчало. А дороге не была конца.
– От забралси в пекло, старай летай. К ему не то хворому, здравому не добратца, – ворчал Макарыч.
Но к вечеру они все ж увидели избу лесника. Дорога к ней пошла ровная. Но радоваться этому уже не было сил. Усталые, потные, они вошли в избу.
– Хлеб и соль этому дому, – перекрестился на иконы Макарыч.
– Доброво здравия вам, – отозвался седой старик, сидевший у печки.
Кольке стало жаль его: у Акимыча скрюченные ноги, дергалась голова. А руки были большие и, наверно, сильные. И даже борода куда длиннее Макарычевой.
Колька долго рассматривал старика. Да вдруг чуть не вскрикнул. Он когда-то видел его. Вот у него нет мочки на ухе. И родинка на шее большая, как морошка.
– Нужда али лихоманка какая привела ко мне? – спросил хозяин Макарыча.
Тот оглядывался в полутемноте.
– Я с другой хворобой. Слыхал, Марью ты выходить взялся. Так я к ней.
– Она на ключе. За избой. Ноги в травке парит. Там-то попривольнее.
– Ужо ходить?
– Пока помаленьку. Скоро одыбается.
– То-то утешил.
– С Божьей помощью отошла. А это хто ж, внучок твой?
– Кажись, так.
– Пущай передохнет малость. Потом поснедаем.
Колька понял, что ему надо выйти. Обидчиво шмыгнув носом, вышел. Прямиком направился к чурбаку, что стоял у завалинки.
«Ну и пусть. Подумаешь! Секреты от меня завели. Знаю я их. А у меня, может, все нутро отшибло. Сами будут до ночи говорить».
– Да у нас гостюшек! – услыхал он позади и оглянулся: – Здоров будешь, – сказала женщина.
– А я знаю, вы тетя Марья, – выпалил Колька.
Понравилась она ему. Длинная коса свободно
спускалась по плечу. И глаза добрые, как у Серого. Тоже большие.
– Меня знаешь, а как тебя величают, молчишь.
– Колька я, – подошел к ней мальчишка.
– Имечко у тебя славное. Что ж, тоже к Акимычу приехал?
– Я с отцом.
– Занедужил он у тебя?
– Ага!
– Вот горюшко-то. Что с ним приключилось?
– Не знаю.
– Что ж так?
Колька неопределенно пожал плечами. Тетка Марья совсем ему по душе пришлась.
– Вы чьи же будете? – спросила она.
– Тоже лесники. Но у нас лучше. И баня, и речка есть. И дом большой. А тайга у нас самая красивая, – затараторил Колька.
– Это хорошо. Дай-то вам Бог добра и здоровья.
– Знаете, сколько мы рыбы ловим? Цельную бочку на зиму солим. И икры тоже. Ягод, грибов у нас много. Я сам на медведя с отцом хожу, – соврал Колька.
– Молодец. А у меня вот никого нет теперь, старик-то мой преставился. Одна вот маяться стану, – пожаловалась она Кольке. – Видно, доля моя такая бабья, горькая. Век одной доживать.
Мальчишка хотел уже выложить ей все. Но тут дверь избы отворилась. На порог вышел Акимыч. Увидев Марью, сказал:
– Ты ноги-то прикрой. Ненароком застудишь.
Марья послушно взяла у него одеяло. Хотела
войти, но он ее придержал.
– Побудь на волюшке. Еще насидишься в избе.
Колька тоже решил ничего не говорить. Он понял: так будет лучше. Пусть сам Макарыч скажет. А тот сидел у окна. Курил. Слушал Акимыча.
– Марья покладистая, ладная. Норов в ней ровный. Почитай, тридцать годов с иродом жила. Бил н ее почем зря. Она его кормила, обхаживала. Добра от тово не видя. Другая б давно сама тово лешака живота решила. Энта нет. Закон знает – жена да убоится мужа своево. Тот от дурной болести помер. В город поехал и непутную бабу нашел. Она ево и заразила. Марья и то ему простила. Счастье, что она не жила с ним. Он до тово ее побил, што она в больнице всю зиму пролежала. Ево за это времечко и скрутило. Так-то. За все времечко мужика своево ни разу не забидела. Он же, черт холощеный, и дитя ей не смог сделать. Семя ево никудышнее. Што вода. Хоть в зад вставляй кишки полоскать от запору. Яее еще в девках помню. Пригожая была. Женихи косяком к ней шли. И надо же, тово мозгляка приглядела! По сердцу пришелся. А сердце девки разума не имеет. Вот и ожглась.
– Пошла б за мине – не жалела б, – встрял Макарыч.
– То ты давай улаживай. Сговорить подмогу, – пообещал Акимыч. И вышел на крыльцо, позвал женщину: —Марьюшка! Иди в дом! Застынешь.
– Ну, пошли, – позвала она Кольку.
Она враз признала Макарыча. Поздоровалась приветливо. Спросила о здоровье.
– Ха! Што я? Ровно на собаке, все зажило.
И вроде не было долгих лет. Будто только вчера виделись. Только примечал Макарыч, как нет– нет да и появится горькая складка в уголках губ – отметина пережитого.
– Так, значит, все один бобылем живешь?
– Да нет, с сыном. Вот хозяйку сибе ишшем, – подморгнул Макарыч Кольке.
– Пора тебе. Дай Бог хорошую.
– Какая есть. Не за зря жа сюды приехал.
– Господь с тобой! – ахнула женщина.
– От Бога не отрекаюсь, но ты мине нужней.
– В своем ли ты здравии? Я мужа недавно схоронила. Сороковины не минули.
– Живое о живом должно думать, – перебил ее Акимыч. – Чего об усопшем поминать?
– Ноги еще у него не остыли. А вы о грешном. По писанью так не велено. Меня за такое осмеют в селе.
– За таково не осмеют. Помнят доброво. И не отталкивай человека. Может, он тебе судьбой послан. Богу видней. Не гневись, но годы твои ушли. Как одна без мужика обойдесся? Послухай миня, старика. Душою чую – хорошо жить станешь. Не вороти ево впустую в обрат. Пожалкуишь потом, – поддакнул Акимыч.
– Мы жалеть тебя станем, поехали, – попросил Колька.
– Что ж делать-то мне? – заплакала Марья.
– А ништо. Я ить настырный. Силком увезу, коль по-доброму не схочишь, – настаивал Макарыч.
– Дай хоть сороковины справлю!
– Э-э-э-э, нет, – не согласился Макарыч.
– Мне ноги надо вылечить, – уже совсем тихо говорила Марья.
– То, голубка, не остановка. Он не мене моево в том кумекает. Выходит не хуже, – усмехнулся Акимыч.
– Ну, что ж. От судьбы не отворачиваются, – согласилась Марья.
Поздним вечером, когда все сели за стол, Акимыч, оглаживая бороду, сказал:
– Ну дай-то Бог вам всево. Я-то хоть жену имел недолго, нехай другие всю жизнь счастливо живут. Да детей родят. За сибя и за миня.
– Тибе тож обошло? – спросил Макарыч.
– Обошло. Вроде вот и сына родил, внук есть, да где они? Позабыли миня.
– А жена? – выдохнула Марья.
– Что жена? Василинушка моя померла давно. Менее года с ней поворковали, да лихой человек помешал. Вдовцом оставил. Ятож каторгу отбывал. Из-за Василинки важнюка убил. До девок был охочь. Сграбастал и мою. Она и заблажила. Он ее давить стал. Она в силе была. Живую взять не смог бы. Тут я ево и порешил. Бог меня прости, грешново. Ну, а сами сбежать порешили с Василинкой. Дале станции не привелось. Заковали обоих. И суд. Дале в этап. Прослышали от своих, про есть неподалеку место, куда нихто не совался, конвойные промеж собой шепотом сказывали про то урочище. Нам с Василинкой повезло. Сбегли туда. Домишко поставили. Огород завели. Сына ждали. А тут, эх, штоб ему и мертвому не спалось! Приехал какой-то черт лысай. Люд переписывал.
Занесло ево и к нам. В ноги я ему повалился, просил, штоб Василинку он не записывал. Обсказал все. Она ж на сносях. – Акимыч умолк. А придя в себя, продолжил: – Мне поселение указом вышло. Ну, а Василинку от титешного забрали. Извели ее. Пять десятков бобылем живу. И все тово душегуба проклинаю. Сына я выходил. Коровенку держал. Жениться боле не схотел. Никому не верил. Сыну свому боялся мачеху привести. Сам постирушки правил. Выкормил. В грамоту отдал. Ноне ученай стал. Мною потребовал. Ране внука привозил. Тот, поди, болыненький стал. Тож меня забыл.
Акимыч замолчал обиженно. Макарыч тяжко вздохнул. Марья задумчиво смотрела на всех. Что-то трудно вспоминал Колька.
– Вы-то про што грустите? О себе думайте.
Мне
уже в могилу сбираться пора. Што с прошлово взять? Ничто не вернуть. Вы вот давайте ешьте, – заставлял Акимыч.
Когда все ложились спать, Колька спросил Акимыча, что у него с ухом.
– Крученым мальцом рос, вот отец и наказал,
рассмеялся тот скрипуче.
– Не-е-е, – не поверил Колька.
– То верно, што нет. В каторге все приключилось. Начальник на разные выдумки был горазд. Сущий пес цепной! С людом ровно со скотиной плохой обходился. Меня шибко невзнавидел. Вот и порешил пометить всех, хто ему поперек глотки стоял. Набралось нас пошти сотня. Он кажному на ухе каленым гвоздем дырку сделал. Так-то вот. Помаялись потом. Ухи пухнуть зачали. Голова пивным котлом шумит. Один даже помер. Кровь спортилась. А мне потом обрезали мочку. Почернела. Тут и сполошился живодер. Велел ухо вылечить. Дохтора не было. Конвоир обрезал. И собаке своей зализать повелел. Та лизала, а я весь трясся, думал, а што коль за горло хватит. Они только на то и учены были. Встал я из-под ней, пришел к своим, меня и не признали. Говорят – седой стал. Меня внучок про то спрашивал. А ишо родинку дергал все. Она у нас потомственная, всем передается.
Громко икнул Макарыч. Хотел прервать разговор. Но не получилось.
– Добрый внучок рос. Все малину со мной сбирал. В пять годов к ружью тянулся. Говорил: «Дед, дай стрельнуть». У нас в роду ружье все мужики уважали испокон веку. Самая правильная забава – охота в почете была.
Колька потрогал свой затылок и отдернул руку. Макарыч приметил. Промолчал. Мальчишка осмелел:
– Дед, а ваш внук бывал пьяным?
Марья рассмеялась. Акимыч рассказал:
– Приключалось эдакое. Заберется в настои, што от хвори. Ну и наберется. Они на спирту. Опосля под лавку лез спать, ровно кот шкодливый. И не болел, бесенок, видать, крепкий. По утру очухается и опять норовит к настоям. Укараулил я ево. Отругал.
– А он домой пешком пошел, – добавил Колька.
– То верно. Но тебе откуда про то ведомо?
– Ты про меня рассказываешь.
В избушке стало тихо. Так тихо, что казалось – все перестали дышать. Макарыч глядел ошалело.
Марья, не веря услышанному, прикрыла рукой раскрытый рот. Акимыч пристально смотрел на мальчишку. Тот едва сдерживался. Выдали побелевшие дрожащие губы.
– Батюшки светы! – перекрестилась Марья.
– Потапов ведь я! – крикнул Колька. – Был Потапов. Теперь другой. Отец меня бросил. Не тебя одного. Меня тоже. Ты не знаешь, а он меня змеенышем назвал, когда я ему на пальто плюнул. Он с другой теткой шел и с братом моим.
Не мог скрыть мальчишка слезы. Они бежали по лицу – горькие, змеистые, как Колькина судьба просоленная. В них была сама боль безотцовская. Утрата матери, потеря детства.
– Чтоб его медведь задрал! – крикнул мальчишка и выскочил из избы.
– Стой, Колюшко! Стой! – Акимыч рванулся было за ним и вдруг тихо осел на пол.
Макарыч испугался не на шутку. Вначале кинулся за Колькой, но от двери вернулся, громко топоча, к Акимычу. В раскрытых глазах старика таяла жизнь. Широко раскрывая рот, он пытался продохнуть. Тут Марья с водой подоспела.
Трудно, долго отхаживался Акимыч. А придя в себя, спросил о Кольке.
Тот сидел у ключа. Всхлипывал.
– Пошли, внучок, тут и потонуть просто.
– Яуже тонул в нем. Разве ты не помнишь?
– Как же, – улыбался Акимыч и погладил внука по голове. Задержался на затылке. Нащупал родинку: – Вот и нашлись мы. На што ревешь? Неладно то. Ишь, оно все по-умному в судьбине-то. Кто-то потерял, другой нашел, каждому своя планида.
Макарыч курил, до боли в зубах прикусив мундштук трубки. Нервными зайчиками перекатывались желваки.
«Угораздило жа, дурня, поторопитца. Забереть ен у мине Кольку. Сам ево и привез. Што ж теперича сделаитца?»
– У меня останься. Утехой будешь. Кто ж ведал, што он шелапуга да прохвост. И я оплошал. Зря тогда отдал тебя. Негоже в приемышах. Мне ты родной. Не забижу.
– Я не приемыш. Я Касюгин. Приемышей сыном не зовут! Макарыч любит меня! Вот! Я чуть под поезд не попал, да он выручил. К себе привез. Мы уже давно вместе. А тот здесь, неподалеку работает. Звал меня. Нашел дурака! В тайге уголь ищут. Он Макарыча хотел к себе в проводники сговорить. Даже к нам в зимовье приходил. Только выгнал его отец. И поделом. Незачем ему у нас показываться.
– Я-то при чем? Он и тебя, и меня кинул. Давай хоть вместе станем. Што нам до нево?
– А где ты был раньше? Когда мама умерла?
– Почем мне про то ведомо?
– Хорошо звать, когда я вырос. Раньше никому не нужен был. Теперь и тот меня звал. Они с Макарычем подрались из-за меня даже.
– Вот лихо-то, а ведь и мать твоя мне не знакома. У нево тех баб не мене, чем кур у петуха. Бабником он смальства стал. Всех девок в селе поиспортил. В каво такой кобель удался – ума не приложу! Все боялся, што зашибут ево за это насмерть. Люду, погодкам своим, в глаза из-за нево срамно было глянуть. Никаково удержу он не ведал. В нашем роду однолюбы были. Еще выхаживал его. Обидеть боялся. Мачеху не вел. Потому как Василинка, самая наикрасшая мне, с памятью о ней и помру. – Сник Акимыч, отвернулся, погрустнел. – А он – всех обижал.
– Ему за то ответ держать придется на том свете.
– Что тот свет? Он тут живет сладко. Мертвому какая разница? Ни в Бога, ни в черта не веря. Он и меня высмеивал, когда я крестился.
– То-то дурной.
– Да хватит. Ну его. Не хочу вспоминать. Лучше б такой умер.
– Не бери грех на душу. Да не изводись, пошли-ка в избу, – потянул старик Кольку.
В избе тот сразу прижался к Макарычу. Вцепился, как когда-то, в его руку. В лицо заглянул:
– Я насовсем твой?
– Истинно мой.
– Домой хочу.
– По свету отправимси.
– Сейчас.
– Дорога паршивая. Марье плохо станет. Погодим малость.
Колька с тяжелым вздохом сел рядом. А у Макарыча с души ком свалился. Понял: не сговорил, не сманил Акимыч пацана.
Марья приготовила Кольке постель. Позвала. Тот лег. Но не уснул. В избушке словно что-то надорвалось.
– Може, перетолкуем? – предложил старик Макарычу.
Вдвоем они вышли из избы.
– Ты внучонка оставь.
– Не сума переметная. Дите. Свой разум имеет. К мине привык. Тя позабыл. Отдать не могу.
Прикипел к ему. Да и на што тибе? Ученье мальцу надобно.
– Явыучил своево. Себе ж на шею.
– Оне разный, потому не обессудь. К тибе Кольку не тянет.
– Почему ты хулишь меня? Почитай, сколь годов минуло? Осмотреться ему надо. Тебе-то нынче легше. Марья есть. А у меня?
– То Господь рассудит. Схочет, нехай останетца, – дрогнул голос Макарыча.
– Не уломал я. Ты подмогай. Марью-то тебе я сговорил. Колька-то мне все ж свой, кровный. Иль души в тебе нет?
– Будя! Как сам порешит. Силом мил не станешь, – рубанул Макарыч.
Взъерошенные, что коты после драки, вошли они в избу.
Марья не спала.
– Тихо! Плохо парню-то, жар у него появился. В горячке мается.
Все склонились над Колькой. Во сне он тихо постанывал. Лоб и волос взмокли.
– Скорей, Серый! Отец, погоди меня! – закричал он неожиданно громко.
– Пробудить надо. Снадобья дам. Нехай охолонет.
– Колюшко, – тронул за плечо Макарыч.
Тот враз открыл глаза. Глянул непонимающе.
– Подымись-ко.
Акимыч достал из-под стола запыленную банку. Налил из нее. Протянул мальчишке.
– Не хочу.
– То женьшень. Попей маленько.
Сделав несколько глотков, мальчишка подозрительно оглядел всех и спросил:
– А что это вы так смотрите?
– Хворый ты, – сказал Акимыч.
– Не верь ему. Я не больной. Он нарочно. Оставить меня хочет, – Колька рванулся к Макарычу.
– Охолонь, не оставлю. Поутру поедем. Спи.
Акимыч всю ночь просидел около спящего
внука. Гладил ершистые волосы и беззвучно прощался с внуком.
«Хоть свидеться пришлось и на том тебя благодарствую. Верно, больше не доведется. Годы поедом силы поели. Перед кончиной за твое здравие помолюся. Охолодел ты и ко мне. Знать, и на могилу не придешь. Ну да Господь с тобой. Коль душа холодна – родство не подмога. Да сохрани тебя судьба от лихих людей, да от хвори», – думал Акимыч.
Заглянуло в окно серое утро. Неприветливо царапался в стекла нудный дождь. В тайге стыли деревья, стыла трава.
– Погодили б. Што в непогодь маяться, – просил Акимыч. – Марья ногами изведется в пути. Ее пожалейте.
– Поедем, – вмешался Колька.
– Чем обидел тебя? Не гнушайся домом моим. Ты свой в нем. Поспеешь меня покинуть. Може, не приведется боле, в остатний час свиделся.
– Марья, как ты? – спросил Макарыч.
– Подождать бы.
Колька отвернулся к окну, он никого не хотел видеть. Понял: тетка предала его. Но перечить не стал. Акимыч растопил печь. Марья стала готовить завтрак. На сытый желудок Макарыч рассказывал о своей жизни.
– Помню, как опосля каторги на волюшку вы шел да в магазин забрел. Глядь, а там масло коровье. Купил два фунта. И тут же слопал. Без хлеба. Баба торговка на мине, как на бешенова пса глядела. Прямо в рот. Чудо ждала. Оно и приключилось. Только с другова конца. Видать, брюхо от жирнова отвыкло.
– Со мной и тово срамней сдеялось. Притащил к купцу Сазонову пушнину. Товар начал приглядывать. Ну, а опрежь спирту выпил. Нутро-то и зашлось, ровно уксусу хватил. Ни дохнуть, ни чихнуть. Пена што с коня пошла. Очухался под забором. Поначалу-то не сообразил. В лавку к купцу направился. В середке у меня, ровно коты свадьбу правили. В глазах рябо. К купцу ввалился, а он от меня попятился. Крестится. А хозяйка ево без дыху – плюх на зад. Я не докумекал, а Сазонов пальцем на мой пуп кажет. Глянул. А я в исподнем. Сраму не оберешься.
– Товар-то к чему? – перебил Макарыч.
– Мальцу под гузно. Мокрил он ежечасно.
– И што?
– Да ништо. Дал Сазонов ситцу да рубаху грехи прикрыть. Василинка-то смеялась опосля. Ну, правду бают, беда единой в дом не ходит. Тот супостат, што пожаловал к нам с переписью, у мине почти всех соболей взял. В подарок за молчанье о Василинке. А потом… Пришлось в долг к Сазонову залезать.
– То зряшный стыд, што в долг. Кажный день у судьбы в долг берешь, – встрял Макарыч.
– Мне уж жизнь не мила. Толку в ней нету.
Маялся досыта, радовался впроголодь.
– Зато людям много сделал. Выхаживал и старых и малых, – перебила Марья.
– А-а, – отмахнулся старик. – Добро бы впрок шло, ан нет. Не завсегда.
И вспомнилось, ему, как пришла однажды к нему девка. В ноги упала. Заголосила истошно. Спасти просила: «Свадьба скоро. А я брюхатая. Помоги от дитя ослобониться. Не то свекровь с мужем со свету сживут». – «Приплод-то чейный?» Девка глаза потупила. Замялась. Скраснела. Глазами в угол зыркала: «Не от будущего мужа. От любого». – «А где он?» – «Занятой».
Акимыч не хотел помогать. Больно уж девка не понравилась. Такую, что кошку, погладь, к любому пойдет. – «Грешно плод губить. Сколь брюхата?» – «Вполовину». – «В дите душа уже имеется. Потому губить не стану». – «Дедушка! Голубчик! Помоги, спаси меня!» – забилась девка у ног Акимыча.
Знал старик, что бывает, когда баба в подоле принесет. Не прощается такое. Жаль стало. – «Не кричи. Подымись. Да сказывай, впервой ли понесла?» – «Впервой». – «А бабой когда сделалась?» – «В зиму». – «Худо. Зимний плод крепкий. Больно будет. Выдюжишь?» – «Стерплю». Акимыч налил девке черного отвара. – «Пей, блудница. Да не жадься. Не то кровями изойдешь. Опростайся тут. Я пригляжу. Одной тяжко станет. На крик люди сберутся. Домерекают». Но та упросилась домой. А через два дня приехал мужик к Акимычу. За душу тряс. Лиходеем лаял, кобелем. Грозился убить. Мол, мою девку испортил, силом взял, опозорил, чести лишил. Да плод сделал. Долго ничего слышать не хотел. И только когда старик сказал, что давно в бабах радости не видит, ровно отрезвел. Тут лесник рассказал ему все.
С тех пор Акимыч молодок не лечил. Гнал от избы, что ворогов. Выхаживал, когда просили, ребят малых, мужиков, погодков своих. Платы не брал никакой. За то по селу его святым звали. На праздниках не обходили, дарили первым куском. А минувшей зимой сам чуть Богу душу не отдал. В пургу мужик к нему приехал. Акимыч у него на постой останавливался, когда в селе бывал. Тот умолял бабу выходить. Рожает, мол, а дите не по-людски идет. Задом к свету. Повитухи никак не сладят. Того и гляди наследника скалечут. На зад дитю водой святой поливают, чтоб выпростался. Зовут его, выманивают, даже молитвы читают. А дите, мол, ни с места. Сам задохнется и мать загубит.
Поехал Акимыч. Хоть зарекался к бабе не прикасаться. Ведь все грехи и беды от их окаянных. Да больно уж мужик упрашивал.
Когда ж мальца на свет живехоньким старик вытащил, все тут же об Акимыче позабыли. Хоть тот сам хворый приехал. Всю ночь домой шел. Под конец совсем устал. Пурга вымотала. Сел под дерево передохнуть. Засыпать начал, согреваться. А тут собачонка какая-то. Тяв да тяв. Подумал, мерещится. Да нет. Ей тоже, видно, холодно стало. Сначала дичилась. Потом как к хозяину прижалась. Так вдвоем и добрели. После выведал старик, что собаку ту хозяин за старость со двора согнал. Три зимы жила она у лесника. Да пропала. Ушла. Видно, смертушку почуяла. Добрым словом поминал ее Акимыч.
О чем-то вспоминал и Колька. Вот он увидел себя совсем маленьким. В праздник мамка пирог испекла с повидлом, что бывало редко. И большой кусок ему дала. Ел он его бережно. Запивал пустым чаем. Сахару не было. Мать рассказывала, что в ее семье чай пили вприглядку с сахаром. Детей было много. На всех не напасешься. Потому головку сахара над столом повесят и, глядя на него, чай пьют. От того только горше становилось ребятне. Слезами давились. А у Кольки даже на приглядку не было. Съел он пирог, крошки в рот запихал. И пошел на улицу. Там народ. Много его было. Как пескарей в теплой заводи. Все смеялись. Со взрослыми дети шли. Кто за руку, кто на плече, кто, горб окоряча, ехал на отцовских спинах. Смеялись. Завидев такое, мальчишка назад повернул. Уткнулся в угол. Его некому было взять с собой за руку, посадить на сильные, крутые плечи. Мимо него все проходили равнодушно. Даже не замечали. Чужой он был.
Задумался и Макарыч. Вспомнил свое. Затянулся дымом. Горьким, как одиночество. От него даже мысли черные пошли, побежали вприскочку. «Вот тогда я зазря. Надо было… Зубы на пуговки извести ба…» И снова перед глазами замельтешила падучая крученая поземка. Макарыча тогда здорово избили плет ью . Кто-то из каторжников донес на него. Мол, лаял матерно старшего конвоя. И посулил тому скальп содрать. А содрали за то всю шкуру на спине Макарыча. В камеру еле добрался. Среди дня снег показался багровым, в крови запекшимся. Много погодя узнал, кто его ворог. Хилой такой мужичонка. По такому и кулаку разгуляться негде. Мощи единые. Так не по-людски и помер. В морозилке.
Никто и не заметил, как вышел в сенцы Акимыч. Вернулся скоро. С ружьем. К Кольке подошел.
– Прими в память. Дедово еще. Тульское. Оно по родовой переходило. Может, сгодится. Взмужаешь, везде с собой бери. Што друга. Оно не подводило. Глядишь, и тебе добрую службу сослужит. Может, меня когда-нибудь вспомнишь.
– Не гребуй, бери, – Макарыч поддержал старика. Колька взял ружье. Залюбовался вороненой сталью. Невольно дрожь пробрала. Сколько мечтал он о таком ружье!
– Ты-то как без него? Тебе оно нужней, – протянул мальчишка подарок.
– Я не хожу нонче на промысел. Ноги, руки ослабли. А ружью хозяин должен быть.
Колька тут же принялся чистить и смазывать ружье.
Дождь не прекращался. Акимыч пек в печке картошку. Усердно сопел трубкой. Макарыч что– то выстругивал ножом. Марья неслышно прибирала в избе. Колька раздувал брюхатый самовар. Время шло к вечеру.
– Эдак и дороги навовсе рассопливятца. А ему и краю нету. Откудова такая пропасть? Как домой поедем-то? – глянул в окно Макар ыч .
– Поспеете.
– То ли грешник народилси, то ли хто добрай преставился, – продолжил Макар ыч .
– Ноне неразбериха деется повсюду. Поди, все вместе приключилось.
– То ягодный дождь, – тихо заметила Марья.
– Да! Ентот на неделю зарядил, – серчал Макарыч. И сказал решительно: – Взавтре двинемся. Ужо доберемся помаленьку, если Бог даст.
Утром, еще не продрав глаз, Макар ыч услышал за окном трескотню птах: значит, дождь перестал.
На душе повеселело. Наскоро перекусив, стали собираться. Почуяв конец отдыху, быстрее захрумкал сеном Серый: сил набирался.
Когда все вышли из избушки, Акимыч благословил Кольку. И, пожелав доброй дороги, вслед перекрестил уезжающих. Колька из-за плеча наблюдал за ним. Акимыч стоял, как растерявшийся странник на чужой дороге. Белая борода прикрывала его до пояса. Из-под нее торчали несуразные штаны, сбахромившиеся у щиколоток. Старик долго смотрел вслед телеге.
– Прости, внучок. Не поминай лихом, коли што неладное сотворил. Спросу с меня нету. Земля тянет. Знать, перед могилой судьба свела меня с тобой. Сохрани и спаси его, Господи, – шептал он еле слышно.
Тихо переговаривались Макарыч с Марьей. Все о будущем толковали.
– Как меня перевозить станешь? Скарбу-то немного, а бросать жаль. Своим горбом нажито. Да и избу еще отец покойный ставил. Продать надо. Что ей брошенной стоять? Люди-то рады будут. Она у меня ухоженная, огородишко при ней. Ягода всякая. Сарай.
– То сама смотри. Но только две избы ни к чему.
– Коровенку завести надо. Колю молочком отпоить. Оно пользительное. Ишь, малец-то намаялся без тебя.
– Как хошь, так и сделаим. Ен у меня не в обиди. А вот об молоке не думалось. По мине ни к чему оно мужику. Не еда и не питье. Одна морока. Токо знай за избу бегай.
– Ну да там увидится, – согласилась Марья. А потом спросила шепотом: – По селу один поедешь? Я ногами дойду. Ладно? Не то бабы запозорют.
– Я што у тибе? Я те слезу! Ишь чево устыдилась!
Марья притихла. Дорога пошла тряская, что живот у попадьи. Макарыч осадил Серого, пустил его шагом. В село приехали по темпу. И сразу собралась кучка баб. Они глазели через дырки в заборе. Судачили о Марье.
– Бесстыжая. Мужик только помер, она кобелиться зачала. А все тихоней ходила.
– И этого в гроб сгонит, вместе с найденушем.
Макарыч крякнул. Скокнул к забору. Выдрал
кол у носа одной. Та так и взвизгнула. Прикрыв зад руками, от забора опрометью кинулась. Без оглядки. Остальные, кудахча, понеслись вслед.
– Я вам мозги-то через задницу вправлю! — гоготал Макарыч.
Возле калитки остановился мужик. Его по огню папиросы увидел Макарыч.
– Марья! – крикнул тот. – Слышал, мужика себе нашла.
– Нашла.
– Счастья вам! Да в ладу век жить.
– Благодарствуем, – ответил Макарыч и позвал мужика на чарку за добрые пожелания.
Опрокинув стакан спирта, гость хрупнул огурцом. Подморгнул Макарычу и пошел со двора.
Утром поехали в зимовье. В телеге топорщились Марьины пожитки.
– То-то повезло бабе, отмучилась, – улыбчиво сказал старик, встреченный за околицей.
К зимовью подъезжали вечером. Макарыч торопил Серого. Заботливо укрывал Марью. Той непривычным казалось такое. А когда он стал помогать ей вылезть из телеги, и совсем растерялась.
– Эвот, што девка стыдисси, словно взамужем не была.
Марья Огляделась вокруг. Улыбнулась открыто, доверчиво. Ей здесь сразу понравилось.
Пока Макарыч распрягал Серого, Колька побежал истопить баньку.
– Иди в избу. Не простужайся. Я споро, – пообещал Макарыч Марье.
Та перекрестилась перед порогом и вошла в дом. Вскоре туда заторопился хозяин.
– По душе ли тибе у нас?
Марья согласно кивнула:
– Много ли мне надобно? Абы не бил ты меня да уважал маленько.
– Ето мине тя бить? Ты што? Ты жа баба? С крепким мужиком на кулачки – куда ни шло. С тобой зазорно. Да и не по нутру мине.
Марья незаметно вошла в их жизнь. Вроде жила она с ними испокон века. Одинаково заботилась об обоих. Недаром Макарыч про себя не раз, улыбаясь, думал: «Хозяюшка нашенская всем люба. К дому пришлась».